
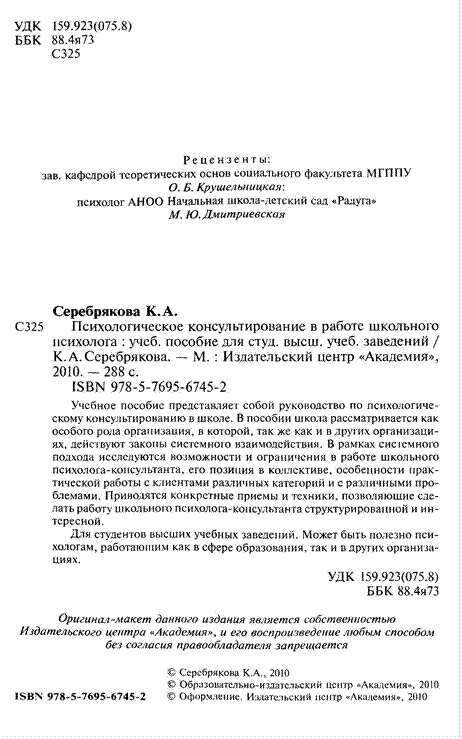
За последнее десятилетие школьная психологическая служба значительно укрепила свои позиции. В ее нужности и полезности сегодня уже никто не сомневается. И школьный психолог превратил
ся из человека, который «непонятно-кто-такой-и-зачем-его-сюда- прислали», в значимую и видную фигуру образовательного учреждения. Теперь его воспринимают не как диагноста, постоянно проводящего бесполезные тесты, а как специалиста, который «все-зна- ет-и-всегда-поможет». В соответствии с этим представлением расширяются и области применения психологических знаний в шко
ле: это уже не только диагностика и предоставление информации, но и деятельность по оказанию психолого-консультативной помощи и по решению вопросов, связанных с функционированием шко
лы как организации в целом.
Для подобной обширной деятельности требуется хорошее теоретическое базовое образование и уверенное владение практическими методами и техниками. Консультативная деятельность в условиях школьного учреждения имеет свои ярко выраженные специфические особенности: школьный психолог-консультант рабо
тает не с какой-то одной категорией клиентов, а с несколькими, каждая из которых требует определенного подхода и работа с ко
торыми предусматривает знание законов не только возрастной психологии, но также и общей, педагогической, социальной и организационной психологии. Кроме того, школьный психолог-консультант постоянно оказывается на стыке различных интересов, которые пересекаются и конфликтуют, что делает его работу сложной и многогранной. Начинающим психологам, работающим в
любой организации и тем более в школе, иногда очень сложно удержаться от того, чтобы не встать на чью-либо сторону, не начать защищать или оберегать кого-то из своих подопечных, что неизбежно приводит к потере нейтральности и предвзятости суждений.
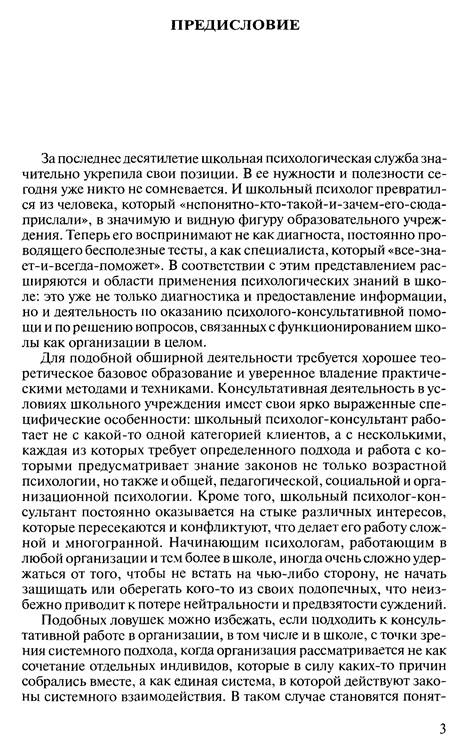 Подобных
ловушек можно избежать, если подходить к консультативной работе в организации,
в том числе и в школе, с точки зрения системного подхода, когда организация
рассматривается не как сочетание отдельных индивидов, которые в силу каких-то
причин собрались вместе, а как единая система, в которой действуют законы
системного взаимодействия. В таком случае становятся понят3
Подобных
ловушек можно избежать, если подходить к консультативной работе в организации,
в том числе и в школе, с точки зрения системного подхода, когда организация
рассматривается не как сочетание отдельных индивидов, которые в силу каких-то
причин собрались вместе, а как единая система, в которой действуют законы
системного взаимодействия. В таком случае становятся понят3
ны многие явления, происходящие в школе, обнаруживаются скрытые механизмы подводных течений. И поведение отдельных индивидов или подгрупп легко «читается», что значительно облегчает понимание ситуации и выбор формы и метода работы.
Системный подход — сравнительно молодая область психотерапии, которая возникла в 1950-е гг. Интересно, что у системного подхода нет своего «отца-основателя» — разработчика первичной
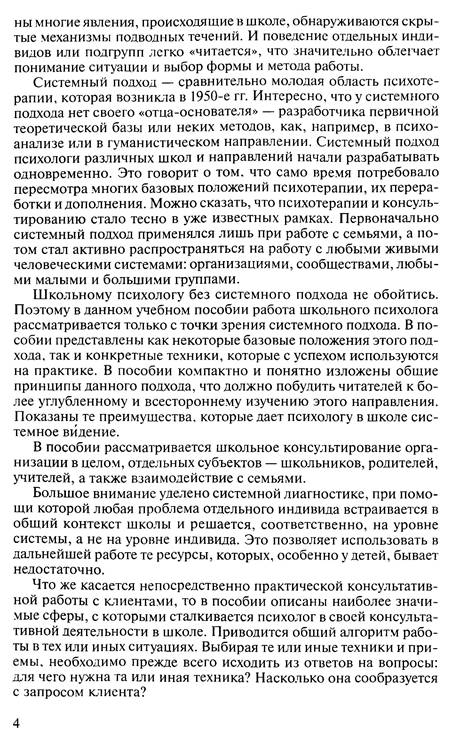 теоретической базы или неких
методов, как, например, в психоанализе или в гуманистическом направлении.
Системный подход психологи различных школ и направлений начали разрабатывать
одновременно. Это говорит о том. что само время потребовало пересмотра многих
базовых положений психотерапии, их переработки и дополнения. Можно сказать, что
психотерапии и консультированию стало тесно в уже известных рамках.
Первоначально системный подход применялся лишь при работе с семьями, а потом
стал активно распространяться на работу с любыми живыми человеческими
системами: организациями, сообществами, любыми малыми и большими группами.
теоретической базы или неких
методов, как, например, в психоанализе или в гуманистическом направлении.
Системный подход психологи различных школ и направлений начали разрабатывать
одновременно. Это говорит о том. что само время потребовало пересмотра многих
базовых положений психотерапии, их переработки и дополнения. Можно сказать, что
психотерапии и консультированию стало тесно в уже известных рамках.
Первоначально системный подход применялся лишь при работе с семьями, а потом
стал активно распространяться на работу с любыми живыми человеческими
системами: организациями, сообществами, любыми малыми и большими группами.
Школьному психологу без системного подхода не обойтись.
Поэтому в данном учебном пособии работа школьного психолога рассматривается только с точки зрения системного подхода. В пособии представлены как некоторые базовые положения этого подхода, так и конкретные техники, которые с успехом используются на практике. В пособии компактно и понятно изложены общие принципы данного подхода, что должно побудить читателей к бо
лее углубленному и всестороннему изучению этого направления. Показаны те преимущества, которые дает психологу в школе системное видение.
В пособии рассматривается школьное консультирование организации в целом, отдельных субъектов — школьников, родителей,
учителей, а также взаимодействие с семьями.
Большое внимание уделено системной диагностике, при помощи которой любая проблема отдельного индивида встраивается в общий контекст школы и решается, соответственно, на уровне системы, а не на уровне индивида. Это позволяет использовать в дальнейшей работе те ресурсы, которых, особенно у детей, бывает недостаточно.
Что же касается непосредственно практической консультативной работы с клиентами, то в пособии описаны наиболее значимые сферы, с которыми сталкивается психолог в своей консультативной деятельности в школе. Приводится общий алгоритм работы в тех или иных ситуациях. Выбирая те или иные техники и приемы, необходимо прежде всего исходить из ответов на вопросы: для чего нужна га или иная техника? Насколько она сообразуется
с запросом клиента?
4
В тексте пособия упоминаются наиболее яркие и полезные книги и учебники, которые помогут более углубленно изучить конкретные стороны психолого-консультативной деятельности. Полный список рекомендуемой литературы представлен в конце книги.
В пособии приведено множество примеров из практики психо- лога-консультанта. Автор пособия проработала в школе девять лет, поэтому хорошо знает «изнутри» все проблемы, с которыми сталкивается школьный психолог, и понимает жизнь школы в целом, ее структуру и особенности.
Пособие состоит из шести глав и приложения.
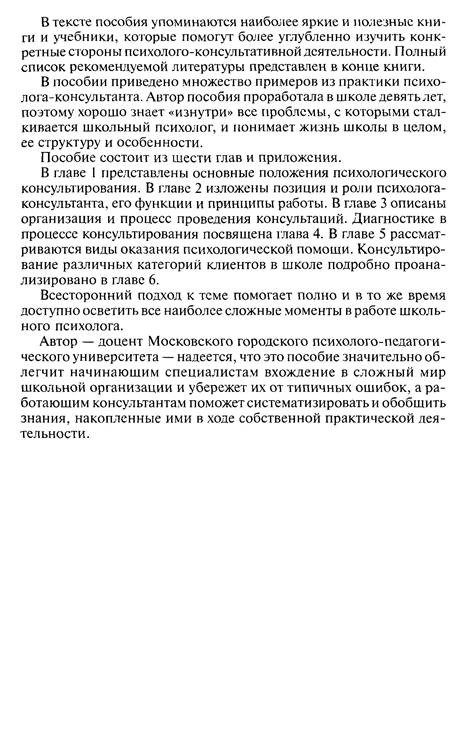 В
главе 1 представлены основные положения психологического консультирования. В
главе 2 изложены позиция и роли психолога- консультанта, его функции и принципы
работы. В главе 3 описаны организация и процесс проведения консультаций.
Диагностике в процессе консультирования посвящена глава 4. В главе 5
рассматриваются виды оказания психологической помощи. Консультирование
различных категорий клиентов в школе подробно проана
В
главе 1 представлены основные положения психологического консультирования. В
главе 2 изложены позиция и роли психолога- консультанта, его функции и принципы
работы. В главе 3 описаны организация и процесс проведения консультаций.
Диагностике в процессе консультирования посвящена глава 4. В главе 5
рассматриваются виды оказания психологической помощи. Консультирование
различных категорий клиентов в школе подробно проана
лизировано в главе 6.
Всесторонний подход к теме помогает полно и в то же время доступно осветить все наиболее сложные моменты в работе школьного психолога.
Автор — доцент Московского городского психолого-педагогического университета — надеется, что это пособие значительно об
легчит начинающим специалистам вхождение в сложный мир школьной организации и убережет их от типичных ошибок, а работающим консультантам поможет систематизировать и обобщить знания, накопленные ими в ходе собственной практической деятельности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
1.1. Определение психологического консультирования.
Отличия психологического консультирования от других
Психологическое консультирование как прикладная отрасль современной психологии оформилось в самостоятельную область в середине XX в. Оно стало развиваться в ответ на возрастающие запросы психологической помощи в различных областях жизни и
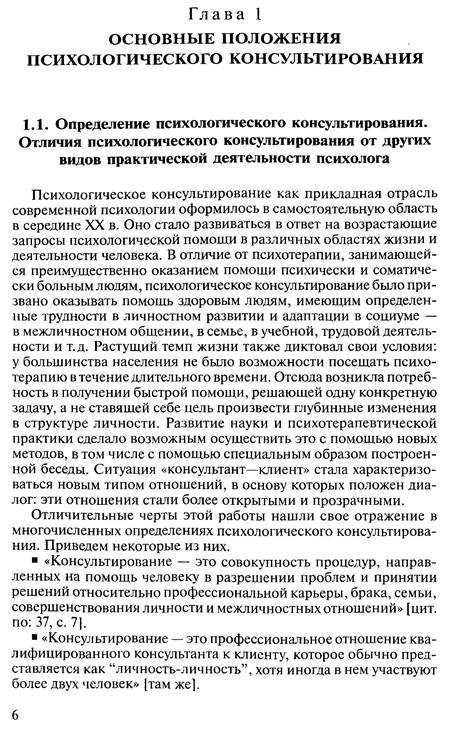 деятельности человека. В
отличие от психотерапии, занимающейся преимущественно оказанием помощи
психически и соматически больным людям, психологическое консультирование было
призвано оказывать помощь здоровым людям, имеющим определенные трудности в
личностном развитии и адаптации в социуме — в межличностном общении, в семье, в
учебной, трудовой деятельности и т.д. Растущий темп жизни также диктовал свои
условия: у большинства населения не было возможности посещать психотерапию в
течение длительного времени. Отсюда возникла потребность в получении быстрой
помощи, решающей одну конкретную задачу, а не ставящей себе цель произвести
глубинные изменения в структуре личности. Развитие науки и психотерапевтической
практики сделало возможным осуществить это с помощью новых методов, в том числе
с помощью специальным образом построенной беседы. Ситуация «консультант—клиент»
стала характеризоваться новым типом отношений, в основу которых положен диа
деятельности человека. В
отличие от психотерапии, занимающейся преимущественно оказанием помощи
психически и соматически больным людям, психологическое консультирование было
призвано оказывать помощь здоровым людям, имеющим определенные трудности в
личностном развитии и адаптации в социуме — в межличностном общении, в семье, в
учебной, трудовой деятельности и т.д. Растущий темп жизни также диктовал свои
условия: у большинства населения не было возможности посещать психотерапию в
течение длительного времени. Отсюда возникла потребность в получении быстрой
помощи, решающей одну конкретную задачу, а не ставящей себе цель произвести
глубинные изменения в структуре личности. Развитие науки и психотерапевтической
практики сделало возможным осуществить это с помощью новых методов, в том числе
с помощью специальным образом построенной беседы. Ситуация «консультант—клиент»
стала характеризоваться новым типом отношений, в основу которых положен диа
лог: эти отношения стали более открытыми и прозрачными.
Отличительные черты этой работы нашли свое отражение в многочисленных определениях психологического консультирования. Приведем некоторые из них.
■ «Консультирование — это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений» [цит. по: 37, с. 7].
■ «Консультирование — это профессиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно представляется как “личность-личность”, хотя иногда в нем участвуют более двух человек» [там же].
6
■ Психологическое консультирование — это непосредственная работа с людьми, направленная «на решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где основным средством воздействия является определенным образом построенная беседа» [3, с. 11].
■ Психотерапевтическое консультирование — двойной термин, где «консультирование» означает профессиональную принадлежность, а «психотерапевтическое» — его форму [36, с. 34].
Психологическая консультация представляет собой широкий спектр видов помогающей деятельности, в рамках которой квалифицированные специалисты помогают обратившимся к ним за помощью: 1) решить проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью и имеющие отношение к отдельным индивидам, разного рода клиентам или программам, за которые консультируемые несут ответственность; 2) стать активнее в достижении решения проблем; 3) развить профессионально значимые качества консультируемых, чтобы они могли решать подобные проблемы в будущем. В список психологических консультантов среди прочих могли бы входить профессиональные психологи, консуль
танты и социальные работники [81, с. 27].
У Карла Роджерса термины «консультирование» и «психотерапия» используются «как более или менее взаимозаменяемые, что представляется оправданным, поскольку все они, видимо, относятся к одному и тому же основному методу, а именно серии прямых контактов с индивидом, направленных на то, чтобы помочь ему изменить свои психические установки и поведение» [70, с. 11].
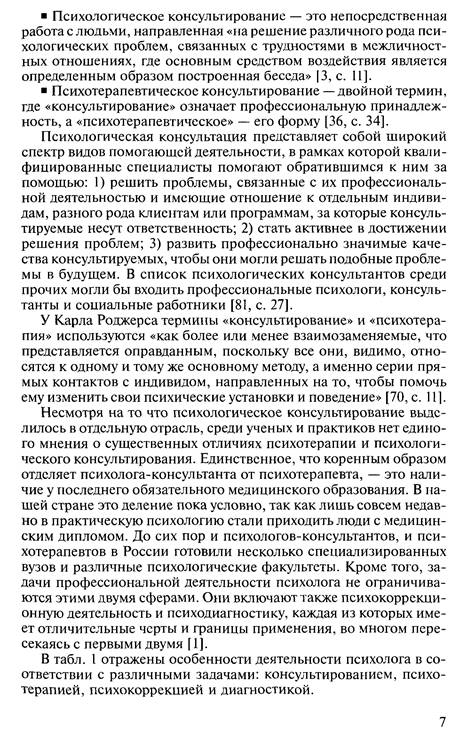 Несмотря
на то что психологическое консультирование выделилось в отдельную отрасль,
среди ученых и практиков нет единого мнения о существенных отличиях
психотерапии и психологического консультирования. Единственное, что коренным
образом отделяет психолога-консультанта от психотерапевта, — это наличие у
последнего обязательного медицинского образования. В нашей стране это деление
пока условно, так как лишь совсем недавно в практическую психологию стали
приходить люди с медицинским дипломом. До сих пор и психологов-консультантов, и
психотерапевтов в России готовили несколько специализированных вузов и
различные психологические факультеты. Кроме того, задачи профессиональной
деятельности психолога не ограничиваются этими двумя сферами. Они включают
также психокоррекционную деятельность и психодиагностику, каждая из которых
имеет отличительные черты и границы применения, во многом пересекаясь с первыми
двумя [1].
Несмотря
на то что психологическое консультирование выделилось в отдельную отрасль,
среди ученых и практиков нет единого мнения о существенных отличиях
психотерапии и психологического консультирования. Единственное, что коренным
образом отделяет психолога-консультанта от психотерапевта, — это наличие у
последнего обязательного медицинского образования. В нашей стране это деление
пока условно, так как лишь совсем недавно в практическую психологию стали
приходить люди с медицинским дипломом. До сих пор и психологов-консультантов, и
психотерапевтов в России готовили несколько специализированных вузов и
различные психологические факультеты. Кроме того, задачи профессиональной
деятельности психолога не ограничиваются этими двумя сферами. Они включают
также психокоррекционную деятельность и психодиагностику, каждая из которых
имеет отличительные черты и границы применения, во многом пересекаясь с первыми
двумя [1].
В табл. 1 отражены особенности деятельности психолога в соответствии с различными задачами: консультированием, психотерапией, психокоррекцией и диагностикой.
7
Т а б л и ц а 1
Психологическое психологическая
Критерии отличия Психотерапия Психодиагностика консультирование коррекция
Наличие или отсут Клинически здоро Клинически здоро Клинически здоро Клинически здороствие клинических вая личность вые и больные лю вые и больные лю вые и больные люнарушений ди без ярко выра ди, в том числе и ди, в том числе и с
женной патологии с психопатологией психопатологией (психиатрия) Характер проблем:
а) глубина пробле Ситуационные Глубокие личност Ситуационные Глубокие личност
мы проблемы. ные проблемы. проблемы. ные и ситуационные
проблемы.
б) осознанность Проблема осознает Проблема часто не Проблема осознает
Проблема может проблемы ся осознается или осо ся (в случае со здо
быть как осознанна, знается частично. ровыми людьми). так и неосознанна.
в) направленность Преимущественно Преимущественно Преимущественно Межличностные, межличностные, внутриличностные, межличностные внутриличностные,
иногда внутрилич имеющие отраже или адаптационные групповые, меж
ностные конфлик ние в нарушениях групповые и адапты, проблемы адап межличностного тационные
тации характера и адапта
ции в социуме
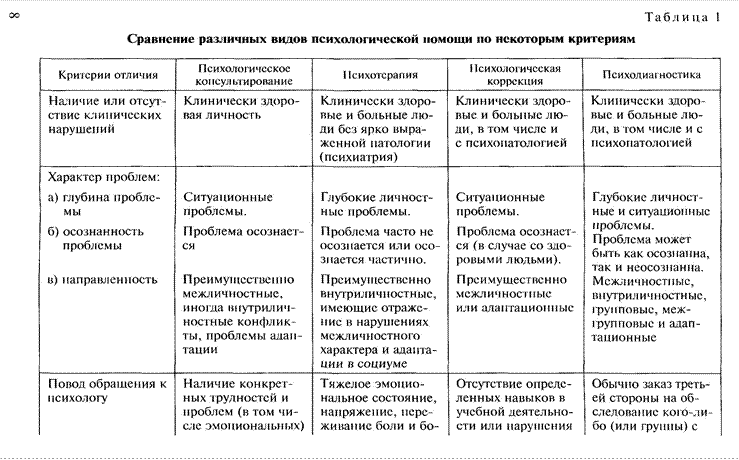 Повод обращения к Наличие
конкрет Тяжелое эмоцио Отсутствие опреде Обычно заказ
третьпсихологу ных трудностей и нальное состояние, ленных
навыков в ей стороны на обпроблем (в том чи напряжение, пере учебной
деятельно следование кого-лисле эмоциональных) живание
боли и бо- сти или нарушения бо (или группы) с
Повод обращения к Наличие
конкрет Тяжелое эмоцио Отсутствие опреде Обычно заказ
третьпсихологу ных трудностей и нальное состояние, ленных
навыков в ей стороны на обпроблем (в том чи напряжение, пере учебной
деятельно следование кого-лисле эмоциональных) живание
боли и бо- сти или нарушения бо (или группы) с
в повседневной лезни, неудовлетво в поведении и/или пелью получения
жизни, взаимо ренность личност межличностном об информации о лич
действие личности ными характерис щении, адаптации в ности: чертах хараки среды, изменение тиками и особенно социуме тера, ее проблемах, поведения; жалобы стями, собственной возможностях, поневротического ха жизнью в целом тенциале и т.д.
рактера; дальней А также в исследошее развитие лич вательских целях о
ности каком-либо явлении
или процессах, происходящих в группе
Временная ориен В основном на на Прошлое, настоя Настоящее время Прошлое, настоя
тированность стоящее и будущее щее, будущее щее и будущее
клиента
Количество сеансов Краткосрочная по Не менее полугода В зависимости от Кратковременная
мощь (5 — 6 встреч, при частоте встреч глубины и характе процедура, включамаксимум 15) или раз в неделю ра проблемы, но не ющая одну или не
эпизодически на менее 10 встреч сколько встреч
1-й - 2-х встречах
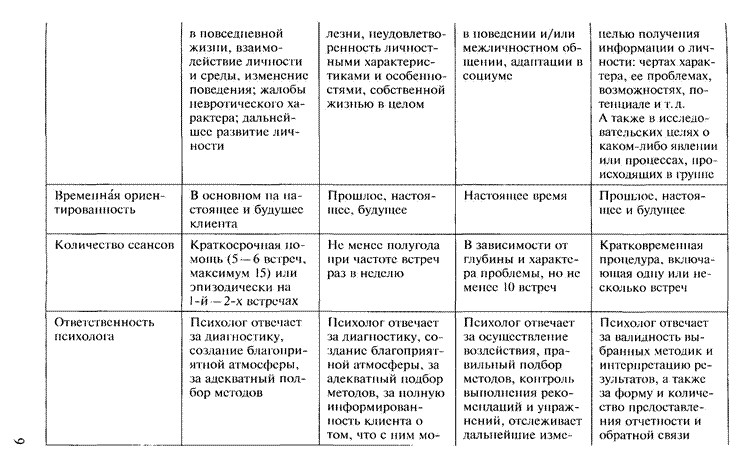 Ответственность Психолог отвечает Психолог
отвечает Психолог отвечает Психолог отвечает
психолога за диагностику, за диагностику, со за
осуществление за валидность высоздание благопри здание благоприят воздействия,
пра бранных методик и ятной атмосферы, ной атмосферы, за вильный
подбор интерпретацию реза адекватный под адекватный подбор методов,
контроль зультатов, а также бор методов методов, за
полную выполнения реко за форму и количе
Ответственность Психолог отвечает Психолог
отвечает Психолог отвечает Психолог отвечает
психолога за диагностику, за диагностику, со за
осуществление за валидность высоздание благопри здание благоприят воздействия,
пра бранных методик и ятной атмосферы, ной атмосферы, за вильный
подбор интерпретацию реза адекватный под адекватный подбор методов,
контроль зультатов, а также бор методов методов, за
полную выполнения реко за форму и количе
информирован мендаций и упраж ство предоставленость клиента о нений, отслеживает ния отчетности и том, что с ним мо- дальнейшие изме- обратной связи
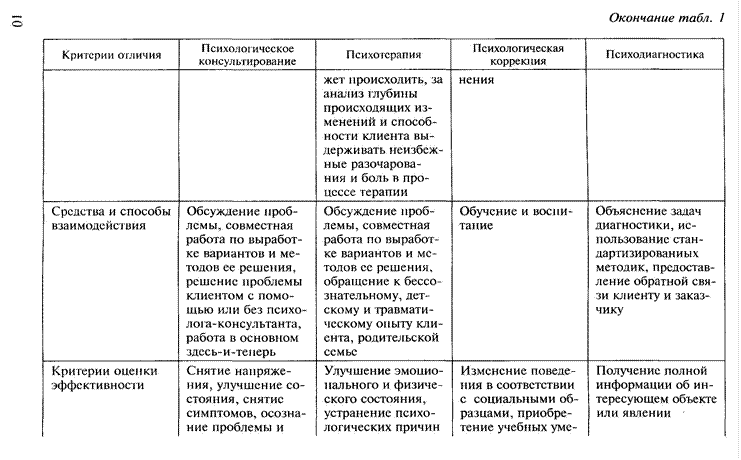
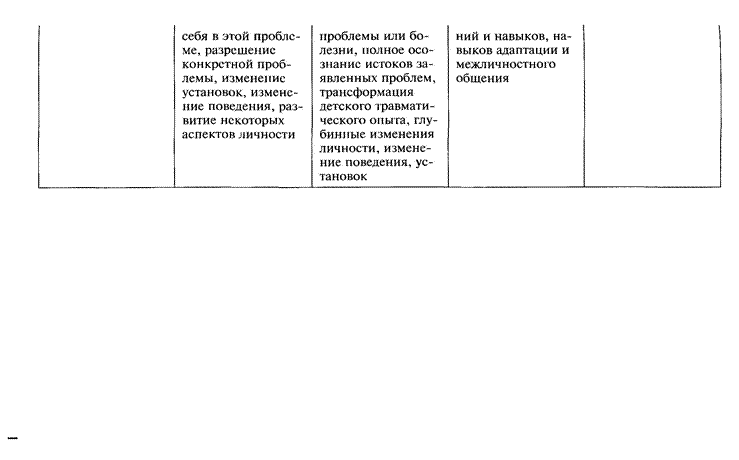
Таким образом, психологическое консультирование — это такая деятельность психолога, которая предусматривает краткосрочную работу с клинически здоровыми людьми, имеющими конкретные ситуационные проблемы преимущественно межличностного и адаптационного характера. Эти проблемы, даже когда они носят внутриличностный характер, хорошо осознаются и затрагивают в основном настоящее и будущее клиента.
Безусловно, в реальной практической работе задачи, выполняемые психологом, часто пересекаются и сливаются. Психологу, ведущему прием в психологическом центре или имеющему частную практику, в большинстве случаев не так важно, какую профессиональную задачу приходится выполнять в каждом конкретном случае. Он легко может переходить от одной задачи к другой в соответствии с текущей работой с клиентом. Его может ограничивать только уровень собственной профессиональной компетентности и личные пристрастия. Но у психолога, работающего в организации, должно быть четкое представление о функциональных обязанностях в соответствии с каждой выполняемой им задачей.
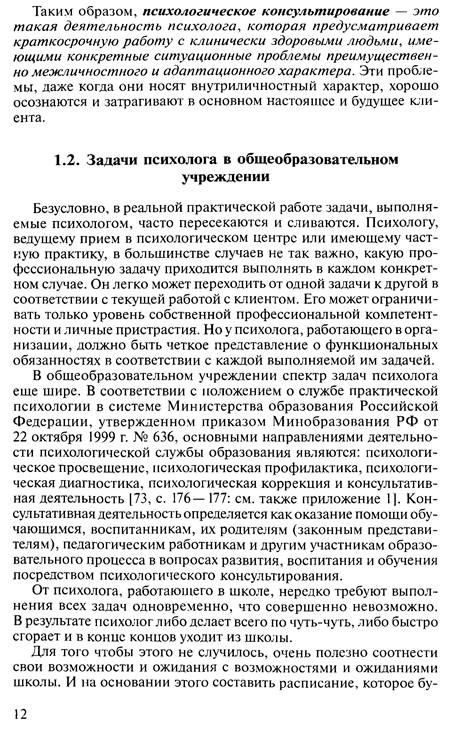 В
общеобразовательном учреждении спектр задач психолога еще шире. В соответствии
с положением о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации, утвержденном приказом М инобразования РФ от
22 октября 1999 г. № 636, основными направлениями деятельности психологической
службы образования являются: психологическое просвещение, психологическая
профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция и
консультативная деятельность [73, с. 176— 177: см. также приложение 1].
Консультативная деятельность определяется как оказание помощи обучающимся,
воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,
воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
В
общеобразовательном учреждении спектр задач психолога еще шире. В соответствии
с положением о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации, утвержденном приказом М инобразования РФ от
22 октября 1999 г. № 636, основными направлениями деятельности психологической
службы образования являются: психологическое просвещение, психологическая
профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция и
консультативная деятельность [73, с. 176— 177: см. также приложение 1].
Консультативная деятельность определяется как оказание помощи обучающимся,
воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,
воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
От психолога, работающего в школе, нередко требуют выполнения всех задач одновременно, что совершенно невозможно. В результате психолог либо делает всего по чуть-чуть, либо быстро сгорает и в конце концов уходит из школы.
Для того чтобы этого не случилось, очень полезно соотнести свои возможности и ожидания с возможностями и ожиданиями школы. И на основании этого составить расписание, которое будет учитывать интересы двух сторон. Расписание позволяет не только структурировать свое время, но и приучает окружающих к бережному отношению ко времени психолога.
Например: утренние часы по договоренности с администрацией можно посвятить диагностике классов, групп и отдельных
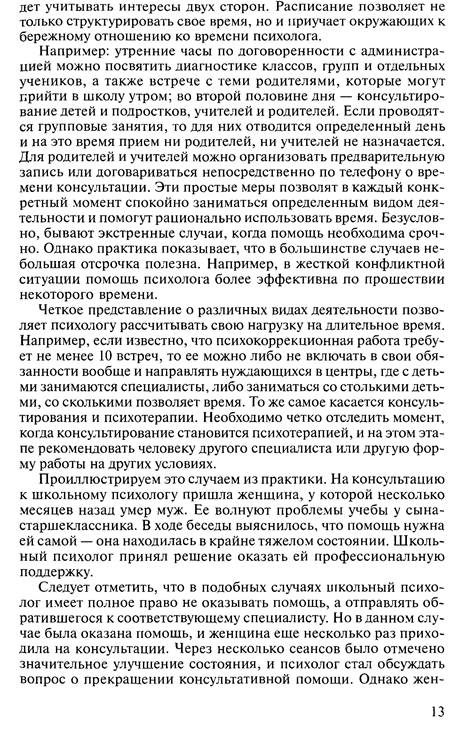 учеников, а также встрече с
теми родителями, которые могут прийти в школу утром; во второй половине дня —
консультирование детей и подростков, учителей и родителей. Если проводятся
групповые занятия, то для них отводится определенный день и на это время прием
ни родителей, ни учителей не назначается. Для родителей и учителей можно
организовать предварительную запись или договариваться непосредственно по
телефону о времени консультации. Эти простые меры позволят в каждый конкретный
момент спокойно заниматься определенным видом деятельности и помогут
рационально использовать время. Безусловно, бывают экстренные случаи, когда
помощь необходима срочно. Однако практика показывает, что в большинстве случаев
небольшая отсрочка полезна. Например, в жесткой конфликтной ситуации помощь
психолога более эффективна по прошествии некоторого времени.
учеников, а также встрече с
теми родителями, которые могут прийти в школу утром; во второй половине дня —
консультирование детей и подростков, учителей и родителей. Если проводятся
групповые занятия, то для них отводится определенный день и на это время прием
ни родителей, ни учителей не назначается. Для родителей и учителей можно
организовать предварительную запись или договариваться непосредственно по
телефону о времени консультации. Эти простые меры позволят в каждый конкретный
момент спокойно заниматься определенным видом деятельности и помогут
рационально использовать время. Безусловно, бывают экстренные случаи, когда
помощь необходима срочно. Однако практика показывает, что в большинстве случаев
небольшая отсрочка полезна. Например, в жесткой конфликтной ситуации помощь
психолога более эффективна по прошествии некоторого времени.
Четкое представление о различных видах деятельности позволяет психологу рассчитывать свою нагрузку на длительное время. Например, если известно, что психокоррекционная работа требует не менее 10 встреч, то ее можно либо не включать в свои обязанности вообще и направлять нуждающихся в центры, где с детьми занимаются специалисты, либо заниматься со столькими детьми, со сколькими позволяет время. То же самое касается консультирования и психотерапии. Необходимо четко отследить момент, когда консультирование становится психотерапией, и на этом этапе рекомендовать человеку другого специалиста или другую фор
му работы на других условиях.
Проиллюстрируем это случаем из практики. На консультацию к школьному психологу пришла женщина, у которой несколько месяцев назад умер муж. Ее волнуют проблемы учебы у сына- старшеклассника. В ходе беседы выяснилось, что помощь нужна ей самой — она находилась в крайне тяжелом состоянии. Школьный психолог принял решение оказать ей профессиональную поддержку.
Следует отметить, что в подобных случаях школьный психолог имеет полное право не оказывать помощь, а отправлять обратившегося к соответствующему специалисту. Но в данном случае была оказана помощь, и женщина еще несколько раз прихо
дила на консультации. Через несколько сеансов было отмечено значительное улучшение состояния, и психолог стал обсуждать вопрос о прекращении консультативной помощи. Однако жен
13
щина запросила помощь по другим вопросам своей жизни. Хорошо понимая разницу между консультированием и психотерапией, психолог порекомендовал ей обратиться за помощью к другому специалисту для проведения долговременной психотерапев
тической работы.
В рамках школы не всегда имеется возможность оказывать консультативную помощь в течение нескольких сеансов, но иногда, если позволяют уровень компетентности и время, гораздо полезнее провести краткосрочную психотерапевтическую работу в рамках консультативной деятельности с одним или двумя родителя
ми, чем с ребенком. О том, как выяснить, что в психологической помощи нуждаются сами родители и какая помощь ребенку будет более эффективна, мы обсудим в следующих главах.
Виды психологического консультирования можно классифицировать по разным основаниям. Перечисленные ниже основания классификации затрагивают базовые характеристики психологического консультирования, по которым их можно разделять.
П о ф о р м а т у психологическое консультирование может быть групповым, индивидуальным, семейным.
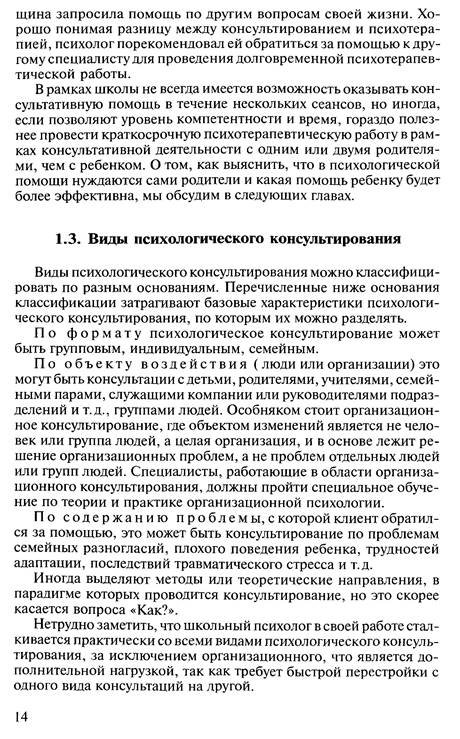 П
о о б ъ е к т у в о з д е й с т в и я (люди или организации) это могут быть
консультации с детьми, родителями, учителями, семейными парами, служащими
компании или руководителями подразделений и т.д., группами людей. Особняком
стоит организационное консультирование, где объектом изменений является не
человек или группа людей, а целая организация, и в основе лежит решение
организационных проблем, а не проблем отдельных людей или групп людей.
Специалисты, работающие в области организационного консультирования, должны
пройти специальное обучение по теории и практике организационной психологии.
П
о о б ъ е к т у в о з д е й с т в и я (люди или организации) это могут быть
консультации с детьми, родителями, учителями, семейными парами, служащими
компании или руководителями подразделений и т.д., группами людей. Особняком
стоит организационное консультирование, где объектом изменений является не
человек или группа людей, а целая организация, и в основе лежит решение
организационных проблем, а не проблем отдельных людей или групп людей.
Специалисты, работающие в области организационного консультирования, должны
пройти специальное обучение по теории и практике организационной психологии.
П о с о д е р ж а н и ю п р о б л е м ы , с которой клиент обратился за помощью, это может быть консультирование по проблемам семейных разногласий, плохого поведения ребенка, трудностей адаптации, последствий травматического стресса и т.д.
Иногда выделяют методы или теоретические направления, в парадигме которых проводится консультирование, но это скорее касается вопроса «Как?».
Нетрудно заметить, что школьный психолог в своей работе сталкивается практически со всеми видами психологического консультирования, за исключением организационного, что является дополнительной нагрузкой, так как требует быстрой перестройки с одного вида консультаций на другой.
Вопрос о целях психологического консультирования столь же сложен и неоднозначен, как и многие другие, сопровождающие обычно становление новой отрасли науки и практики. В литературе, особенно зарубежной, можно встретить значительные расхождения в определении целей консультирования.
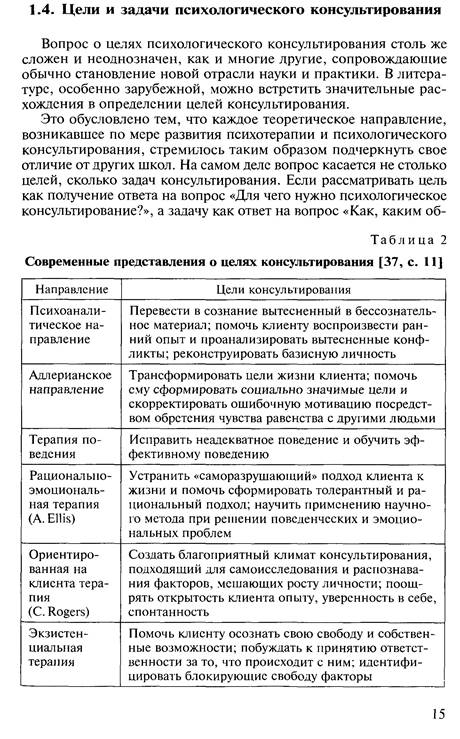 Это
обусловлено тем, что каждое теоретическое направление, возникавшее по мере
развития психотерапии и психологического консультирования, стремилось таким
образом подчеркнуть свое отличие от других школ. На самом деле вопрос касается
не столько целей, сколько задач консультирования. Если рассматривать цель как
получение ответа на вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?»,
а задачу как ответ на вопрос «Как, каким об-
Это
обусловлено тем, что каждое теоретическое направление, возникавшее по мере
развития психотерапии и психологического консультирования, стремилось таким
образом подчеркнуть свое отличие от других школ. На самом деле вопрос касается
не столько целей, сколько задач консультирования. Если рассматривать цель как
получение ответа на вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?»,
а задачу как ответ на вопрос «Как, каким об-
Т а б л и ц а 2
Направление Цели консультирования
Психоанали Перевести в сознание вытесненный в бессознательтическое на ное материал; помочь клиенту воспроизвести ран
правление ний опыт и проанализировать вытесненные конфликты; реконструировать базисную личность
Адлерианское Трансформировать цели жизни клиента; помочь направление ему сформировать социально значимые цели и скорректировать ошибочную мотивацию посредством обретения чувства равенства с другими людьми
Терапия по Исправить неадекватное поведение и обучить эфведения фективному поведению
Рационально- Устранить «саморазрушающий» подход клиента к эмоциональ жизни и помочь сформировать толерантный и раная терапия циональный подход; научить применению научно
(A. Ellis) го метода при решении поведенческих и эмоциональных проблем
Ориентиро Создать благоприятный климат консультирования, ванная на подходящий для самоисследования и распознаваклиента тера ния факторов, мешающих росту личности; поощпия рять открытость клиента опыту, уверенность в себе, (С. Rogers) спонтанность
Экзистен Помочь клиенту осознать свою свободу и собственциальная ные возможности; побуждать к принятию ответсттерапия венности за то, что происходит с ним; идентифи
цировать блокирующие свободу факторы
15
разом цель будет достигнута?» — противоречия в определении целей снимаются, мы получаем лишь путь, способ, каким достигаются цели.
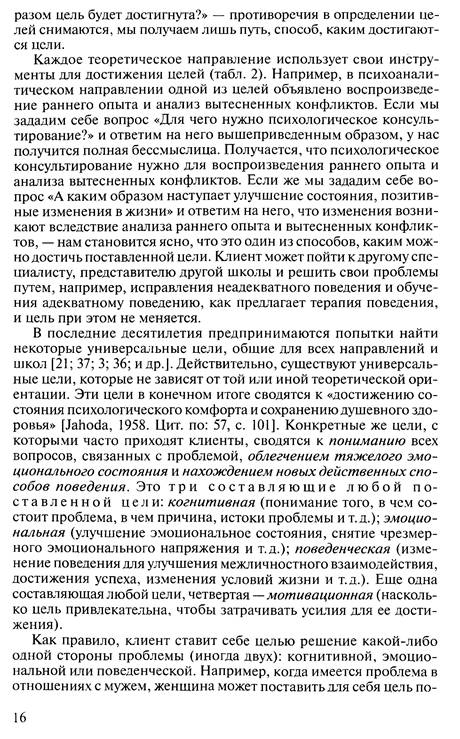 Каждое
теоретическое направление использует свои инструменты для достижения целей
(табл. 2). Например, в психоаналитическом направлении одной из целей объявлено
воспроизведение раннего опыта и анализ вытесненных конфликтов. Если мы зададим
себе вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?» и ответим на
него вышеприведенным образом, у нас получится полная бессмыслица. Получается,
что психологическое консультирование нужно для воспроизведения раннего опыта и
анализа вытесненных конфликтов. Если же мы зададим себе вопрос «А каким образом
наступает улучшение состояния, позитивные изменения в жизни» и ответим на него,
что изменения возникают вследствие анализа раннего опыта и вытесненных
конфликтов, — нам становится ясно, что это один из способов, каким можно
достичь поставленной цели. Клиент может пойти к другому специалисту,
представителю другой школы и решить свои проблемы путем, например, исправления
неадекватного поведения и обучения адекватному поведению, как предлагает
терапия поведения, и цель при этом не меняется.
Каждое
теоретическое направление использует свои инструменты для достижения целей
(табл. 2). Например, в психоаналитическом направлении одной из целей объявлено
воспроизведение раннего опыта и анализ вытесненных конфликтов. Если мы зададим
себе вопрос «Для чего нужно психологическое консультирование?» и ответим на
него вышеприведенным образом, у нас получится полная бессмыслица. Получается,
что психологическое консультирование нужно для воспроизведения раннего опыта и
анализа вытесненных конфликтов. Если же мы зададим себе вопрос «А каким образом
наступает улучшение состояния, позитивные изменения в жизни» и ответим на него,
что изменения возникают вследствие анализа раннего опыта и вытесненных
конфликтов, — нам становится ясно, что это один из способов, каким можно
достичь поставленной цели. Клиент может пойти к другому специалисту,
представителю другой школы и решить свои проблемы путем, например, исправления
неадекватного поведения и обучения адекватному поведению, как предлагает
терапия поведения, и цель при этом не меняется.
В последние десятилетия предпринимаются попытки найти некоторые универсальные цели, общие для всех направлений и школ [21; 37; 3; 36; и др.]. Действительно, существуют универсальные цели, которые не зависят от той или иной теоретической ориентации. Эти цели в конечном итоге сводятся к «достижению состояния психологического комфорта и сохранению душевного здо
ровья» [Jahoda, 1958. Цит. по: 57, с. 101]. Конкретные же цели, с которыми часто приходят клиенты, сводятся к пониманию всех вопросов, связанных с проблемой, облегчением тяжелого эмоционального состояния и нахождением новых действенных способов поведения. Это т р и с о с т а в л я ю щ и е л ю б о й п о с т а в л е н н о й цели: когнитивная (понимание того, в чем состоит проблема, в чем причина, истоки проблемы и т.д.); эмоциональная (улучшение эмоциональное состояния, снятие чрезмерного эмоционального напряжения и т.д.); поведенческая (изменение поведения для улучшения межличностного взаимодействия, достижения успеха, изменения условий жизни и т.д.). Еще одна составляющая любой цели, четвертая — мотивационная (насколько цель привлекательна, чтобы затрачивать усилия для ее достижения).
Как правило, клиент ставит себе целью решение какой-либо одной стороны проблемы (иногда двух): когнитивной, эмоциональной или поведенческой. Например, когда имеется проблема в отношениях с мужем, женщина может поставить для себя цель понять, что ее (или ее мужа) не устраивает в отношениях, или понять, что она хочет от этого брака (когнитивная составляющая). Другой целью может быть улучшение эмоционального самочувствия: чувствовать себя свободно и независимо в браке или больше не обижаться, не раздражаться на мужа (эмоциональная состав
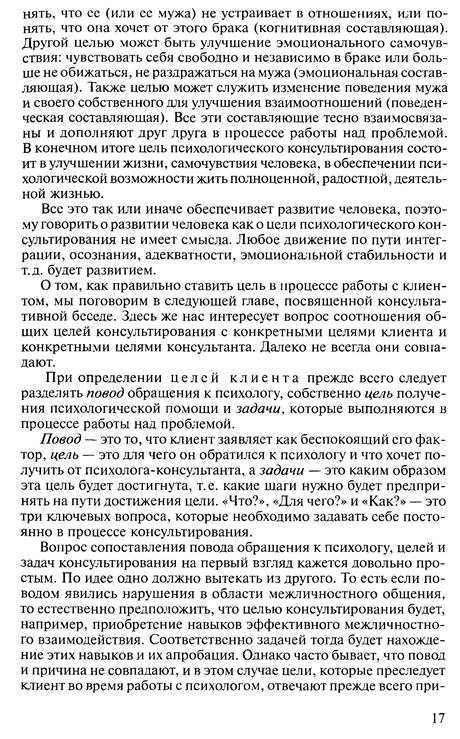 ляющая). Также целью может
служить изменение поведения мужа и своего собственного для улучшения
взаимоотношений (поведенческая составляющая). Все эти составляющие тесно
взаимосвязаны и дополняют друг друга в процессе работы над проблемой. В
конечном итоге цель психологического консультирования состоит в улучшении
жизни, самочувствия человека, в обеспечении психологической возможности жить
полноценной, радостной, деятельной жизнью.
ляющая). Также целью может
служить изменение поведения мужа и своего собственного для улучшения
взаимоотношений (поведенческая составляющая). Все эти составляющие тесно
взаимосвязаны и дополняют друг друга в процессе работы над проблемой. В
конечном итоге цель психологического консультирования состоит в улучшении
жизни, самочувствия человека, в обеспечении психологической возможности жить
полноценной, радостной, деятельной жизнью.
Все это так или иначе обеспечивает развитие человека, поэтому говорить о развитии человека как о цели психологического консультирования не имеет смысла. Любое движение по пути интеграции, осознания, адекватности, эмоциональной стабильности и т.д. будет развитием.
О том, как правильно ставить цель в процессе работы с клиентом, мы поговорим в следующей главе, посвященной консультативной беседе. Здесь же нас интересует вопрос соотношения общих целей консультирования с конкретными целями клиента и конкретными целями консультанта. Далеко не всегда они совпа
дают.
При определении ц е л е й к л и е н т а прежде всего следует разделять повод обращения к психологу, собственно цель получения психологической помощи и задачи, которые выполняются в процессе работы над проблемой.
Повод — это то, что клиент заявляет как беспокоящий его фактор, цель — это для чего он обратился к психологу и что хочет получить от психолога-консультанта, а задачи — это каким образом эта цель будет достигнута, т. е. какие шаги нужно будет предпри
нять на пути достижения цели. «Что?», «Для чего?» и «Как?» — это
три ключевых вопроса, которые необходимо задавать себе постоянно в процессе консультирования.
Вопрос сопоставления повода обращения к психологу, целей и задач консультирования на первый взгляд кажется довольно простым. По идее одно должно вытекать из другого. То есть если поводом явились нарушения в области межличностного общения,
то естественно предположить, что целью консультирования будет, например, приобретение навыков эффективного межличностного взаимодействия. Соответственно задачей тогда будет нахождение этих навыков и их апробация. Однако часто бывает, что повод и причина не совпадают, и в этом случае цели, которые преследует клиент во время работы с психологом, отвечают прежде всего при
17
чине, по которой он оказался в кабинете консультанта. Другими словами, клиент часто заявляет одну проблему, а на самом деле его беспокоит совсем другой вопрос.
Такое положение дел можно проиллюстрировать следующей ситуацией из практики школьного консультирования.
На консультацию к школьному психологу пришла мама по поводу плохого поведения ее 11-летнего сына. Накануне мальчик позвонил в милицию и сказал, что в школе заложена бомба. Как обычно, приехала милиция, специалисты с собаками. Школу закрыли, всех детей вывели, занятия, естественно, прекратились к радости большей части школьного братства. Бомбу в помещении не нашли, и милиция стала искать того, кто позвонил. В последнее десятилетие подобные звонки о заложенных бомбах в общеобразовательных учреждениях регулярны и приходятся в основном на период контрольных и аттестационных работ, и у милиции уже хорошо отлажена система вылавливания «шутников». Мальчика нашли быстро и назначили очень большой штраф его маме, которая воспитывает сына одна.
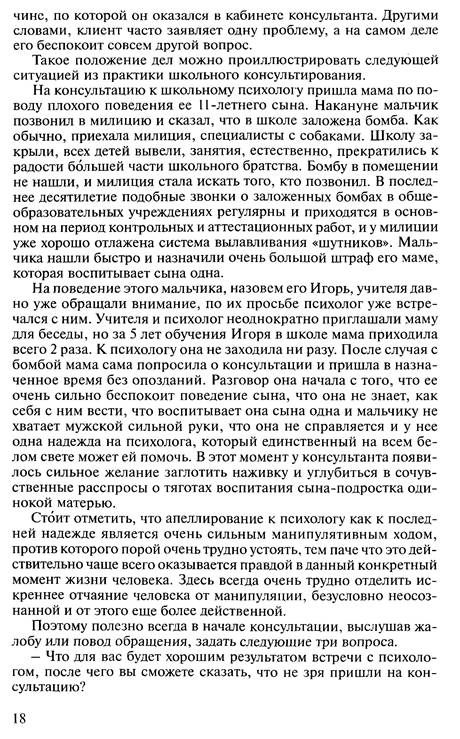 На
поведение этого мальчика, назовем его Игорь, учителя давно уже обращали
внимание, по их просьбе психолог уже встречался с ним. Учителя и психолог
неоднократно приглашали маму для беседы, но за 5 лет обучения Игоря в школе
мама приходила всего 2 раза. К психологу она не заходила ни разу. После случая
с бомбой мама сама попросила о консультации и пришла в назначенное время без
опозданий. Разговор она начала с того, что ее очень сильно беспокоит поведение
сына, что она не знает, как себя с ним вести, что воспитывает она сына одна и
мальчику не хватает мужской сильной руки, что она не справляется и у нее одна
надежда на психолога, который единственный на всем белом свете может ей помочь.
В этот момент у консультанта появилось сильное желание заглотить наживку и
углубиться в сочувственные расспросы о тяготах воспитания сына-подростка
одинокой матерью.
На
поведение этого мальчика, назовем его Игорь, учителя давно уже обращали
внимание, по их просьбе психолог уже встречался с ним. Учителя и психолог
неоднократно приглашали маму для беседы, но за 5 лет обучения Игоря в школе
мама приходила всего 2 раза. К психологу она не заходила ни разу. После случая
с бомбой мама сама попросила о консультации и пришла в назначенное время без
опозданий. Разговор она начала с того, что ее очень сильно беспокоит поведение
сына, что она не знает, как себя с ним вести, что воспитывает она сына одна и
мальчику не хватает мужской сильной руки, что она не справляется и у нее одна
надежда на психолога, который единственный на всем белом свете может ей помочь.
В этот момент у консультанта появилось сильное желание заглотить наживку и
углубиться в сочувственные расспросы о тяготах воспитания сына-подростка
одинокой матерью.
Стоит отметить, что апеллирование к психологу как к последней надежде является очень сильным манипулятивным ходом, против которого порой очень трудно устоять, тем паче что это действительно чаще всего оказывается правдой в данный конкретный момент жизни человека. Здесь всегда очень трудно отделить искреннее отчаяние человека от манипуляции, безусловно неосознанной и от этого еще более действенной.
Поэтому полезно всегда в начале консультации, выслушав жалобу или повод обращения, задать следующие три вопроса.
— Что для вас будет хорошим результатом встречи с психологом, после чего вы сможете сказать, что не зря пришли на консультацию?
— В чем вы видите мою роль как специалиста, чем я, как вы считаете, могу вам помочь?
— Что было сделано до прихода к психологу для решения проблемы (что конкретно, с каким результатом, и считаете ли вы, что было сделано все возможное)?
В случае с Игорем были получены следующие ответы на эти вопросы.
— Хорошим результатом будет, если я буду знать, как на него воздействовать, чтобы он вел себя хорошо.
Дальнейшие вопросы для прояснения того, что мама считает
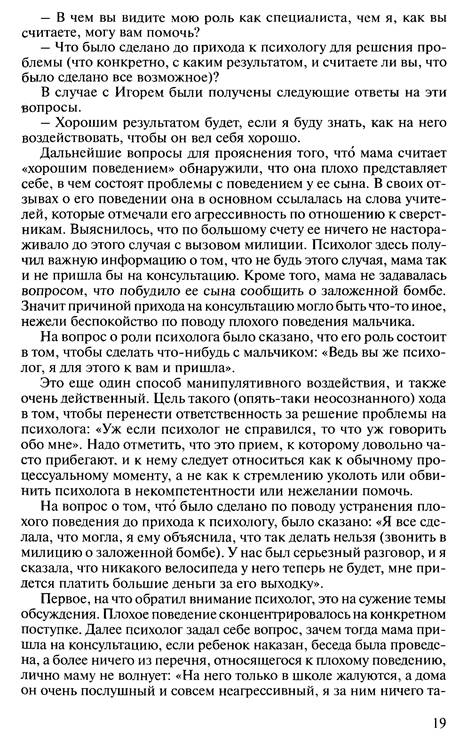 «хорошим поведением»
обнаружили, что она плохо представляет себе, в чем состоят проблемы с
поведением у ее сына. В своих отзывах о его поведении она в основном ссылалась
на слова учителей, которые отмечали его агрессивность по отношению к
сверстникам. Выяснилось, что по большому счету ее ничего не настораживало до
этого случая с вызовом милиции. Психолог здесь получил важную информацию о том,
что не будь этого случая, мама так и не пришла бы на консультацию. Кроме того,
мама не задавалась вопросом, что побудило ее сына сообщить о заложенной бомбе.
Значит причиной прихода на консультацию могло быть что-то иное, нежели
беспокойство по поводу плохого поведения мальчика.
«хорошим поведением»
обнаружили, что она плохо представляет себе, в чем состоят проблемы с
поведением у ее сына. В своих отзывах о его поведении она в основном ссылалась
на слова учителей, которые отмечали его агрессивность по отношению к
сверстникам. Выяснилось, что по большому счету ее ничего не настораживало до
этого случая с вызовом милиции. Психолог здесь получил важную информацию о том,
что не будь этого случая, мама так и не пришла бы на консультацию. Кроме того,
мама не задавалась вопросом, что побудило ее сына сообщить о заложенной бомбе.
Значит причиной прихода на консультацию могло быть что-то иное, нежели
беспокойство по поводу плохого поведения мальчика.
На вопрос о роли психолога было сказано, что его роль состоит в том, чтобы сделать что-нибудь с мальчиком: «Ведь вы же психо
лог, я для этого к вам и пришла».
Это еще один способ манипулятивного воздействия, и также очень действенный. Цель такого (опять-таки неосознанного) хода в том, чтобы перенести ответственность за решение проблемы на психолога: «Уж если психолог не справился, то что уж говорить обо мне». Надо отметить, что это прием, к которому довольно часто прибегают, и к нему следует относиться как к обычному процессуальному моменту, а не как к стремлению уколоть или обвинить психолога в некомпетентности или нежелании помочь.
На вопрос о том, что было сделано по поводу устранения плохого поведения до прихода к психологу, было сказано: «Я все сде
лала, что могла, я ему объяснила, что так делать нельзя (звонить в милицию о заложенной бомбе). У нас был серьезный разговор, и я сказала, что никакого велосипеда у него теперь не будет, мне при
дется платить большие деньги за его выходку».
Первое, на что обратил внимание психолог, это на сужение темы обсуждения. Плохое поведение сконцентрировалось на конкретном поступке. Далее психолог задал себе вопрос, зачем тогда мама пришла на консультацию, если ребенок наказан, беседа была проведена, а более ничего из перечня, относящегося к плохому поведению,
лично маму не волнует: «На него только в школе жалуются, а дома он очень послушный и совсем неагрессивный, я за ним ничего та
19
кого не замечала». Второй момент, который бросался в глаза, — это
активность, с которой мама начала обсуждать возникшую проблему. Видно было, что ее это сильно волнует и беспокоит. Однако явно волновало нечто другое, чем возможные причины такого поступка.
И третье, что насторожило психолога, — быстрота ответов на предложенные вопросы, их обобщенный характер и нетерпение при обсуждении «посторонних» тем. Обычно, отвечая на приведенные выше три вопроса, клиенты начинают задумываться и цели прихо
да к психологу.
Исходя из полученных наблюдений, психолог попытался понять, что же на самом деле лежит в основе прихода мамы на консультацию, и не стал торопиться с обсуждением возможной работы с ребенком.
В процессе дальнейшей беседы выяснилось, что плохое поведение сына было поводом обращения к психологу, а причина, т. е. истинный смысл того, что мать вообще пришла на консультацию, заключалась в том, что штраф, который ей назначили, для нее был очень большим. Эта женщина одна воспитывает сына, и ее охва
тила сильная тревога за материальное благополучие, так как она всю жизнь стремилась вырваться из нищеты, в которой жила в
детстве. Мама пришла к психологу в надежде, что психолог проникнется ее бедственным положением и заступится за мальчика и за нее. Таким образом она надеялась снять штраф или снизить его размер. Именно это было целью ее прихода на консультацию.
Итак, мы видим, что порой необходимо проделать достаточно скрупулезную работу, чтобы понять, что же на самом деле является причиной обращения к психологу-консультанту. И уже в соответствии с этим определять цель и задачи возможной работы. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что когда обнаруживается истинная цель визита и психолог оказывается не в состоянии помочь в достижении этой цели, клиент может не захотеть обсуж
дать проблему дальше. К сожалению, в случае с мамой Игоря это было именно так. После того как была выявлена истинная цель прихода мамы (когда она была названа) и психолог отказался воздействовать на администрацию с целью снижения штрафа (а предложил иную возможную цель сотрудничества), женщина тут же свернула разговор, поблагодарила за помощь и ушла.
 Изложенный
выше случай является примером несовпадения целей психологического
консультирования и конкретной цели клиента. Конечной целью мамы Игоря было
снижение суммы штрафа, поэтому ее задачей во время консультации было заставить
психолога заступиться за нее перед администрацией школы. Здесь приход к
психологу выступил средством достижения цели, не имеющей ничего общего с целями
психологического консультирования. В других случаях, после обсуждения и
осознания ис
Изложенный
выше случай является примером несовпадения целей психологического
консультирования и конкретной цели клиента. Конечной целью мамы Игоря было
снижение суммы штрафа, поэтому ее задачей во время консультации было заставить
психолога заступиться за нее перед администрацией школы. Здесь приход к
психологу выступил средством достижения цели, не имеющей ничего общего с целями
психологического консультирования. В других случаях, после обсуждения и
осознания ис
тинных целей прихода к психологу, клиент оказывается способен работать над своей проблемой, и в конечном итоге цели консультирования и цели клиента совпадают.
Очень важным моментом в определении целей является р а з
д е л е н и е и о с о з н а н и е ц е л е й к о н с у л ь т и р о в а н и я и ц е л е й с а м о г о п с и х о л о г а - к о нс у л ь т а н т а . Часто эти
цели воспринимаются как совпадающие, т. е. само собой разумеется, что психолог преследует только цели консультирования. В таком случае психолог выступает в роли инструмента, обеспечивающего консультативный процесс, и забывается о том, что он
тоже человек и у него есть свои цели, которые он преследует в процессе работы. Это его мотивационная, движущая сила — то, для чего он собственно пошел в эту профессию и почему в ней остался. Данный вопрос тесно связан с синдромом эмоционального сгорания, и об этом мы поговорим в главе, посвященной профилактике эмоционального сгорания. Здесь же нас интересует признание факта, что у психолога есть свои скрытые цели [70], о которых он, к сожалению, не всегда догадывается. В таком случае происхо
дит то же самое, что и с клиентом, пришедшим на консультацию: смешиваются повод и причина. Только у психолога-консультанта поводом является оказание психологической помощи, а причиной совсем другие цели, достижение которых жизненно необхо
димо психологу-человеку.
Таких скрытых целей множество, они все встречаются в той или иной мере в обычной жизни: повышение самопринятия и самоуважения, стремление к власти, реализация амбициозных устремлений, интерес к людям, общение, отыгрывание несформированных ролей, накопление профессионального опыта, жажда любви, стремление помогать и спасать, снижение собственной тревоги, осуществление контроля над жизнью и т.д.
Некоторые из этих скрытых целей, являющихся двигателем работы психолога-консультанта, трудно совместимы с профессиональной деятельностью. И здесь, безусловно, может помочь только личная психотерапия, которая каждому психологу обязательна. Очень трудно самому осознать такой движущий механизм, так как может оказаться, что и сам выбор профессии явился способом
достижения личной цели.
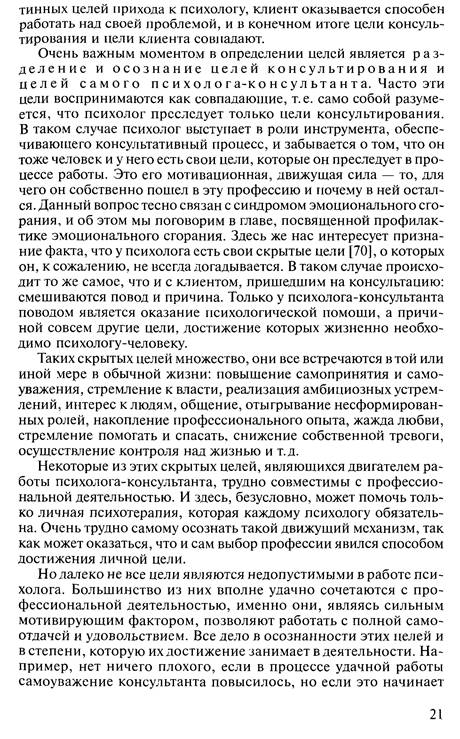 Но
далеко не все цели являются недопустимыми в работе психолога. Большинство из
них вполне удачно сочетаются с профессиональной деятельностью, именно они,
являясь сильным мотивирующим фактором, позволяют работать с полной самоотдачей
и удовольствием. Все дело в осознанности этих целей и в степени, которую их
достижение занимает в деятельности. Например, нет ничего плохого, если в
процессе удачной работы самоуважение консультанта повысилось, но если это
начинает превалировать в работе, и, стремясь сохранить свое самоуважение,
психолог становится неспособным анализировать свои ошибки, это, естественно,
вредит работе. Или, прекрасно, ког
Но
далеко не все цели являются недопустимыми в работе психолога. Большинство из
них вполне удачно сочетаются с профессиональной деятельностью, именно они,
являясь сильным мотивирующим фактором, позволяют работать с полной самоотдачей
и удовольствием. Все дело в осознанности этих целей и в степени, которую их
достижение занимает в деятельности. Например, нет ничего плохого, если в
процессе удачной работы самоуважение консультанта повысилось, но если это
начинает превалировать в работе, и, стремясь сохранить свое самоуважение,
психолог становится неспособным анализировать свои ошибки, это, естественно,
вредит работе. Или, прекрасно, ког
да у психолога есть сильная мотивация помогать людям, но когда он начинает «причинять» добро и «наносить» пользу — это может привести к неспособности клиента разрешить свои проблемы. Интерес к людям может превратиться в назойливое любопытство, а накопление профессионального опыта в отсутствие
эмпатии в работе.
Когда психолог-консультант ясно осознает свои цели, т.е. понимает, что лично он получает в процессе своей профессиональной деятельности, тогда он способен в полной мере реализовывать универсальные цели консультирования, помогая клиенту также осознать свои истинные цели. Таким образом, в пространстве консультирования остается совместная работа над общими целями, а мотивы оказываются той энергией, которая помогает реали
зовать эти цели.
1.5. Проблема ответственности в работе
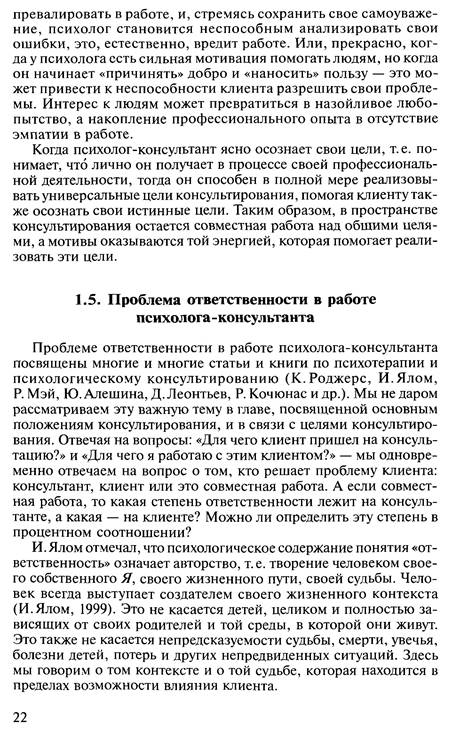 Проблеме
ответственности в работе психолога-консультанта посвящены многие и многие
статьи и книги по психотерапии и психологическому консультированию (К. Роджерс,
И.Ялом, Р. Мэй, Ю. Алешина, Д. Леонтьев, Р. Кочюнас и др.). Мы не даром
рассматриваем эту важную тему в главе, посвященной основным положениям
консультирования, и в связи с целями консультирования. Отвечая на вопросы: «Для
чего клиент пришел на консультацию?» и «Для чего я работаю с этим клиентом?» —
мы одновременно отвечаем на вопрос о том, кто решает проблему клиента:
консультант, клиент или это совместная работа. А если совместная работа, то
какая степень ответственности лежит на консультанте, а какая — на клиенте?
Можно ли определить эту степень в процентном соотношении?
Проблеме
ответственности в работе психолога-консультанта посвящены многие и многие
статьи и книги по психотерапии и психологическому консультированию (К. Роджерс,
И.Ялом, Р. Мэй, Ю. Алешина, Д. Леонтьев, Р. Кочюнас и др.). Мы не даром
рассматриваем эту важную тему в главе, посвященной основным положениям
консультирования, и в связи с целями консультирования. Отвечая на вопросы: «Для
чего клиент пришел на консультацию?» и «Для чего я работаю с этим клиентом?» —
мы одновременно отвечаем на вопрос о том, кто решает проблему клиента:
консультант, клиент или это совместная работа. А если совместная работа, то
какая степень ответственности лежит на консультанте, а какая — на клиенте?
Можно ли определить эту степень в процентном соотношении?
И. Ялом отмечал, что психологическое содержание понятия «ответственность» означает авторство, т. е. творение человеком своего собственного Я, своего жизненного пути, своей судьбы. Человек всегда выступает создателем своего жизненного контекста (И.Ялом, 1999). Это не касается детей, целиком и полностью зависящих от своих родителей и той среды, в которой они живут. Это также не касается непредсказуемости судьбы, смерти, увечья, болезни детей, потерь и других непредвиденных ситуаций. Здесь мы говорим о том контексте и о той судьбе, которая находится в пределах возможности влияния клиента.
Что заставляет женщину жить 20 лет с мужем, который ее бьет? Что мешает человеку добиться признания в выбранной сфере деятельности? Кто ответствен за постоянные скандалы дома?
Придя на консультацию к психологу, человек чаще всего старается найти ответы на эти вопросы так: «Это судьба-злодейка. Это мой характер. Это мои гены. Это муж-пьяница. Это соседи, начальник, родители, кто угодно, только не я». В таком случае запрос к психологу-консультанту звучит следующим образом: «Сделайте так, чтобы муж меня больше не бил». Или: «Повлияйте на моего ребенка, чтобы он меня слушался». Однако это скорее запросы к гадалке, экстрасенсу или к милиционеру, а не к психологу.
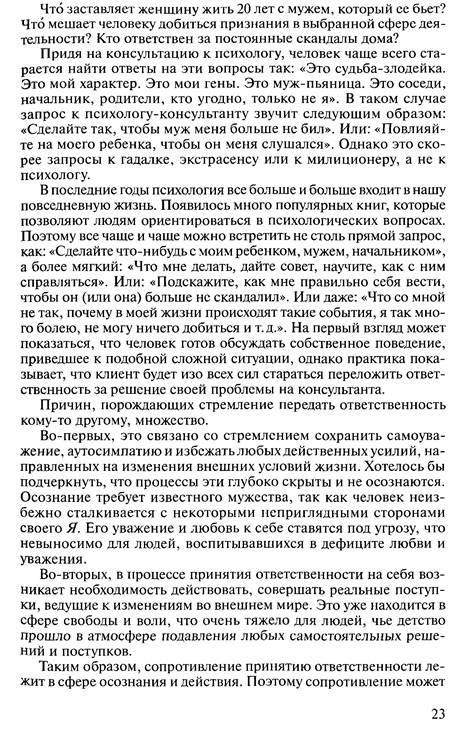 В
последние годы психология все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь.
Появилось много популярных книг, которые позволяют людям ориентироваться в
психологических вопросах. Поэтому все чаще и чаще можно встретить не столь
прямой запрос, как: «Сделайте что-нибудь с моим ребенком, мужем, начальником»,
а более мягкий: «Что мне делать, дайте совет, научите, как с ним справляться».
Или: «Подскажите, как мне правильно себя вести, чтобы он (или она) больше не
скандалил». Или даже: «Что со мной не так, почему в моей жизни происходят такие
события, я так много болею, не могу ничего добиться и т.д.». На первый взгляд
может показаться, что человек готов обсуждать собственное поведение, приведшее
к подобной сложной ситуации, однако практика показывает, что клиент будет изо
всех сил стараться переложить ответственность за решение своей проблемы на
консультанта.
В
последние годы психология все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь.
Появилось много популярных книг, которые позволяют людям ориентироваться в
психологических вопросах. Поэтому все чаще и чаще можно встретить не столь
прямой запрос, как: «Сделайте что-нибудь с моим ребенком, мужем, начальником»,
а более мягкий: «Что мне делать, дайте совет, научите, как с ним справляться».
Или: «Подскажите, как мне правильно себя вести, чтобы он (или она) больше не
скандалил». Или даже: «Что со мной не так, почему в моей жизни происходят такие
события, я так много болею, не могу ничего добиться и т.д.». На первый взгляд
может показаться, что человек готов обсуждать собственное поведение, приведшее
к подобной сложной ситуации, однако практика показывает, что клиент будет изо
всех сил стараться переложить ответственность за решение своей проблемы на
консультанта.
Причин, порождающих стремление передать ответственность кому-то другому, множество.
Во-первых, это связано со стремлением сохранить самоуважение, аутосимпатию и избежать любых действенных усилий, направленных на изменения внешних условий жизни. Хотелось бы подчеркнуть, что процессы эти глубоко скрыты и не осознаются. Осознание требует известного мужества, так как человек неизбежно сталкивается с некоторыми неприглядными сторонами своего Я. Его уважение и любовь к себе ставятся под угрозу, что невыносимо для людей, воспитывавшихся в дефиците любви и
уважения.
Во-вторых, в процессе принятия ответственности на себя возникает необходимость действовать, совершать реальные поступки, ведущие к изменениям во внешнем мире. Это уже находится в сфере свободы и воли, что очень тяжело для людей, чье детство прошло в атмосфере подавления любых самостоятельных решений и поступков.
Таким образом, сопротивление принятию ответственности лежит в сфере осознания и действия. Поэтому сопротивление может возникать на самых разных этапах консультирования, не только на начальных.
Например, поводом обращения женщины к психологу-консульганту является плохое поведение ребенка дома: капризы, ругань с
матерью, побои младшего брата. Принятие на себя ответственности за решение проблемы означает, во-первых, понимание и анализ своего собственного поведения как во многом провоцирующего подобное поведение ребенка (осознание), во-вторых, изменение своего поведения, например изменение привычек, распорядка дня, или переезд на другую квартиру (действие). Женщина может сопротивляться осознанию, что причина невротического состояния ребенка лежит в ее способе общения с ним, из-за боязни, что тогда окажется, что она плохая мать и не любит своего ребенка (угроза самоуважению и аутосимпатии). Или же она может принять тот факт, что ее поведение оставляет желать лучшего, и даже то, что она плохая мать, но не захочет ничего менять в своем укладе жизни, находя массу отговорок и внешних причин, почему она не может этого сделать (страх перед действием).
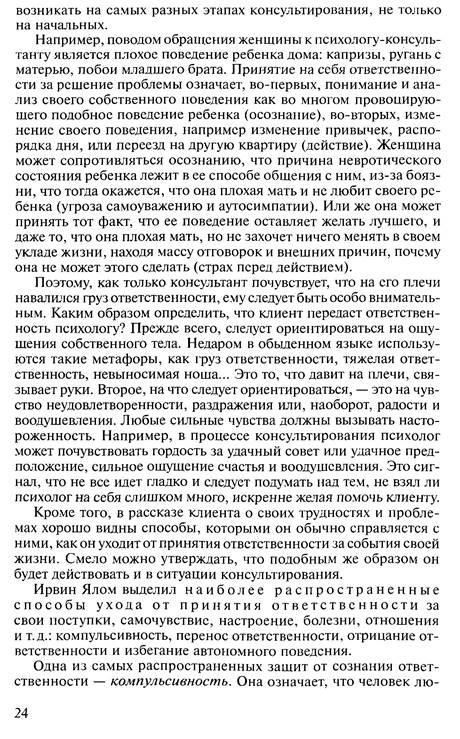 Поэтому,
как только консультант почувствует, что на его плечи навалился груз
ответственности, ему следует быть особо внимательным. Каким образом определить,
что клиент передает ответственность психологу? Прежде всего, следует
ориентироваться на ощущения собственного тела. Недаром в обыденном языке
используются такие метафоры, как груз ответственности, тяжелая ответственность,
невыносимая ноша... Это то, что давит на плечи, связывает руки. Второе, на что
следует ориентироваться, — это на чувство неудовлетворенности, раздражения или,
наоборот, радости и воодушевления. Любые сильные чувства должны вызывать
настороженность. Например, в процессе консультирования психолог может
почувствовать гордость за удачный совет или удачное предположение, сильное
ощущение счастья и воодушевления. Это сигнал, что не все идет гладко и следует
подумать над тем, не взял ли психолог на себя слишком много, искренне желая
помочь клиенту.
Поэтому,
как только консультант почувствует, что на его плечи навалился груз
ответственности, ему следует быть особо внимательным. Каким образом определить,
что клиент передает ответственность психологу? Прежде всего, следует
ориентироваться на ощущения собственного тела. Недаром в обыденном языке
используются такие метафоры, как груз ответственности, тяжелая ответственность,
невыносимая ноша... Это то, что давит на плечи, связывает руки. Второе, на что
следует ориентироваться, — это на чувство неудовлетворенности, раздражения или,
наоборот, радости и воодушевления. Любые сильные чувства должны вызывать
настороженность. Например, в процессе консультирования психолог может
почувствовать гордость за удачный совет или удачное предположение, сильное
ощущение счастья и воодушевления. Это сигнал, что не все идет гладко и следует
подумать над тем, не взял ли психолог на себя слишком много, искренне желая
помочь клиенту.
Кроме того, в рассказе клиента о своих трудностях и проблемах хорошо видны способы, которыми он обычно справляется с ними, как он уходит от принятия ответственности за события своей жизни. Смело можно утверждать, что подобным же образом он будет действовать и в ситуации консультирования.
Ирвин Ялом выделил н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы е с п о с о б ы у х о д а от п р и н я т и я о т в е т с т в е н н о с т и за
свои поступки, самочувствие, настроение, болезни, отношения и т.д.: компульсивность, перенос ответственности, отрицание ответственности и избегание автономного поведения.
Одна из самых распространенных защит от сознания ответственности — компульсивность. Она означает, что человек любые свои приносящие вред ему самому или другим людям поступки объясняет наличием некой высшей силы, чем-то, что он не в состоянии контролировать. В описании предшествующего поступку состояния обычно встречаются выражения: «как будто что-то несло само», «пелена на глазах», «не мог противиться этой силе», «не понимаю, как это могло произойти», «ноги сами шли, руки сами тянулись». В консультативном процессе самое часто повторяющееся слово «не знаю». Все э то напоминает ситуацию, когда маленький ребенок, расшалившись и разбив вазу, говорит маме: «Это не я. Это моя рука. Она как взмахнула сама и задела вазу».
В данном случае полезно подробно расспросить клиента о том, что это за сила и как она действует. Описывая абсурдную, например, в случае воровства ситуацию действия руки автономно от разума, клиент начинает видеть несостоятельность подобного объяснения и появляется вероятность того, что он сможет принять ответственность за неприглядный поступок на себя самого.
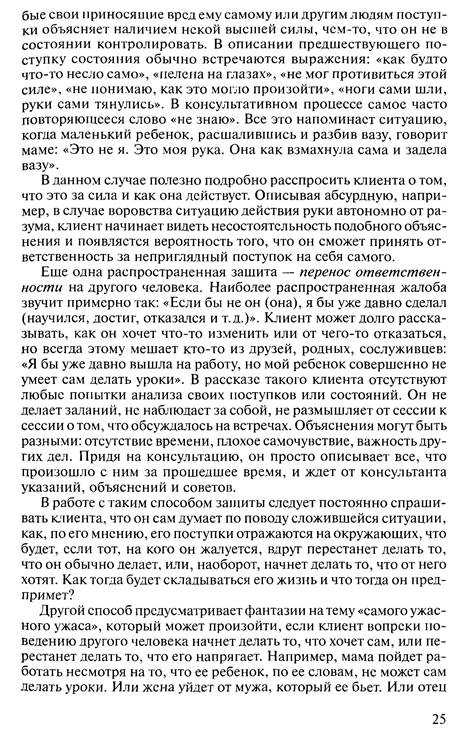 Еще
одна распространенная защита — перенос ответственности на другого человека. Наиболее
распространенная жалоба звучит примерно так: «Если бы не он (она), я бы уже
давно сделал (научился, достиг, отказался и т.д.)». Клиент может долго
рассказывать, как он хочет что-то изменить или от чего-то отказаться, но всегда
этому мешает кто-то из друзей, родных, сослуживцев: «Я бы уже давно вышла на
работу, но мой ребенок совершенно не умеет сам делать уроки». В рассказе такого
клиента отсутствуют любые попытки анализа своих поступков или состояний. Он не
делает заданий, не наблюдает за собой, не размышляет от сессии к сессии о том,
что обсуждалось на встречах. Объяснения могут быть разными: отсутствие времени,
плохое самочувствие, важность других дел. Придя на консультацию, он просто
описывает все, что произошло с ним за прошедшее время, и ждет от консультанта
указаний, объяснений и советов.
Еще
одна распространенная защита — перенос ответственности на другого человека. Наиболее
распространенная жалоба звучит примерно так: «Если бы не он (она), я бы уже
давно сделал (научился, достиг, отказался и т.д.)». Клиент может долго
рассказывать, как он хочет что-то изменить или от чего-то отказаться, но всегда
этому мешает кто-то из друзей, родных, сослуживцев: «Я бы уже давно вышла на
работу, но мой ребенок совершенно не умеет сам делать уроки». В рассказе такого
клиента отсутствуют любые попытки анализа своих поступков или состояний. Он не
делает заданий, не наблюдает за собой, не размышляет от сессии к сессии о том,
что обсуждалось на встречах. Объяснения могут быть разными: отсутствие времени,
плохое самочувствие, важность других дел. Придя на консультацию, он просто
описывает все, что произошло с ним за прошедшее время, и ждет от консультанта
указаний, объяснений и советов.
В работе с таким способом зашиты следует постоянно спрашивать клиента, что он сам думает по поводу сложившейся ситуации, как, по его мнению, его поступки отражаются на окружающих, что будет, если тот, на кого он жалуется, вдруг перестанет делать то, что он обычно делает, или, наоборот, начнет делать то, что от него хотят. Как тогда будет складываться его жизнь и что тогда он предпримет?
Другой способ предусматривает фантазии на тему «самого ужасного ужаса», который может произойти, если клиент вопреки поведению другого человека начнет делать то, что хочет сам, или перестанет делать то, что его напрягает. Например, мама пойдет работать несмотря на то, что ее ребенок, по ее словам, не может сам делать уроки. Или жена уйдет от мужа, который ее бьет. Или отец
перестанет следить за своей 16-летней дочерью, когда она гуляет с мальчиками.
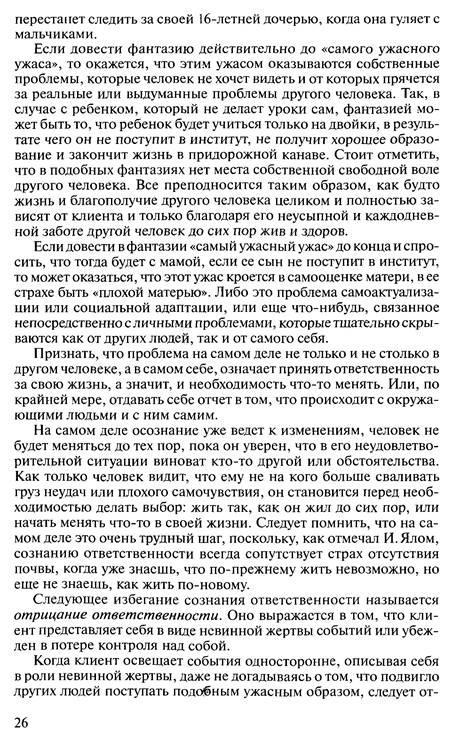 Если
довести фантазию действительно до «самого ужасного ужаса», то окажется, что
этим ужасом оказываются собственные проблемы, которые человек не хочет видеть и
от которых прячется за реальные или выдуманные проблемы другого человека. Так,
в случае с ребенком, который не делает уроки сам, фантазией может быть то, что
ребенок будет учиться только на двойки, в результате чего он не поступит в
институт, не получит хорошее образование и закончит жизнь в придорожной канаве.
Стоит отметить, что в подобных фантазиях нет места собственной свободной воле
другого человека. Все преподносится таким образом, как будто жизнь и
благополучие другого человека целиком и полностью зависят от клиента и только
благодаря его неусыпной и каждодневной заботе другой человек до сих пор жив и
здоров.
Если
довести фантазию действительно до «самого ужасного ужаса», то окажется, что
этим ужасом оказываются собственные проблемы, которые человек не хочет видеть и
от которых прячется за реальные или выдуманные проблемы другого человека. Так,
в случае с ребенком, который не делает уроки сам, фантазией может быть то, что
ребенок будет учиться только на двойки, в результате чего он не поступит в
институт, не получит хорошее образование и закончит жизнь в придорожной канаве.
Стоит отметить, что в подобных фантазиях нет места собственной свободной воле
другого человека. Все преподносится таким образом, как будто жизнь и
благополучие другого человека целиком и полностью зависят от клиента и только
благодаря его неусыпной и каждодневной заботе другой человек до сих пор жив и
здоров.
Если довести в фантазии «самый ужасный ужас» до конца и спросить, что тогда будет с мамой, если ее сын не поступит в институт, то может оказаться, что этот ужас кроется в самооценке матери, в ее страхе быть «плохой матерью». Либо это проблема самоактуализации или социальной адаптации, или еще что-нибудь, связанное непосредственно с личными проблемами, которые тщательно скрываются как от других людей, так и от самого себя.
Признать, что проблема на самом деле не только и не столько в другом человеке, а в самом себе, означает принять ответственность за свою жизнь, а значит, и необходимость что-то менять. Или, по крайней мере, отдавать себе отчет в том, что происходит с окружающими людьми и с ним самим.
На самом деле осознание уже ведет к изменениям, человек не будет меняться до тех пор, пока он уверен, что в его неудовлетворительной ситуации виноват кто-то другой или обстоятельства. Как только человек видит, что ему не на кого больше сваливать груз неудач или плохого самочувствия, он становится перед необ
ходимостью делать выбор: жить так, как он жил до сих пор, или начать менять что-то в своей жизни. Следует помнить, что на самом деле это очень трудный шаг, поскольку, как отмечал И. Ялом, сознанию ответственности всегда сопутствует страх отсутствия почвы, когда уже знаешь, что по-прежнему жить невозможно, но еще не знаешь, как жить по-новому.
Следующее избегание сознания ответственности называется отрицание ответственности. Оно выражается в том, что клиент представляет себя в виде невинной жертвы событий или убежден в потере контроля над собой.
Когда клиент освещает события односторонне, описывая себя в роли невинной жертвы, даже не догадываясь о том, что подвигло
других людей поступать подобным ужасным образом, следует от26
метить для себя, что, вероятно, подобным же образом клиент будет вести себя с психологом-консультантом. То есть в какой-то момент клиент будет пытаться спровоцировать ситуацию, где консультант выступит в роли преследователя, или палача, или несправедливого судьи в зависимости от ситуации, которую клиент предъявляет для рассмотрения. Главное для клиента — получить подтверждение тому, что он не виноват в сложившихся обстоятельствах, что его поступки всегда отличаются искренностью и открытостью, за что он неизбежно расплачивается, так как другие нечестные люди этим пользуются.
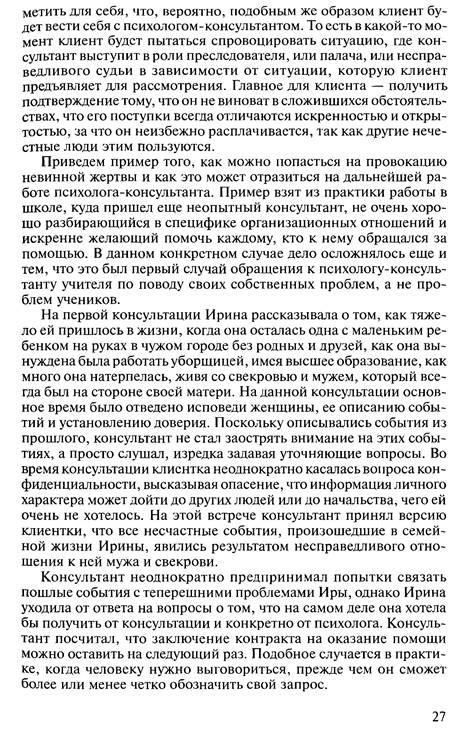 Приведем
пример того, как можно попасться на провокацию невинной жертвы и как это может
отразиться на дальнейшей работе психолога-консультанта. Пример взят из практики
работы в школе, куда пришел еще неопытный консультант, не очень хорошо
разбирающийся в специфике организационных отношений и искренне желающий помочь
каждому, кто к нему обращался за помощью. В данном конкретном случае дело
осложнялось еще и тем, что это был первый случай обращения к
психологу-консультанту учителя по поводу своих собственных проблем, а не
проблем учеников.
Приведем
пример того, как можно попасться на провокацию невинной жертвы и как это может
отразиться на дальнейшей работе психолога-консультанта. Пример взят из практики
работы в школе, куда пришел еще неопытный консультант, не очень хорошо
разбирающийся в специфике организационных отношений и искренне желающий помочь
каждому, кто к нему обращался за помощью. В данном конкретном случае дело
осложнялось еще и тем, что это был первый случай обращения к
психологу-консультанту учителя по поводу своих собственных проблем, а не
проблем учеников.
На первой консультации Ирина рассказывала о том, как тяжело ей пришлось в жизни, когда она осталась одна с маленьким ребенком на руках в чужом городе без родных и друзей, как она вынуждена была работать уборщицей, имея высшее образование, как много она натерпелась, живя со свекровью и мужем, который всегда был на стороне своей матери. На данной консультации основное время было отведено исповеди женщины, ее описанию собы
тий и установлению доверия. Поскольку описывались события из прошлого, консультант не стал заострять внимание на этих собы
тиях, а просто слушал, изредка задавая уточняющие вопросы. Во время консультации клиентка неоднократно касалась вопроса конфиденциальности, высказывая опасение, что информация личного характера может дойти до других людей или до начальства, чего ей очень не хотелось. На этой встрече консультант принял версию клиентки, что все несчастные события, произошедшие в семейной жизни Ирины, явились результатом несправедливого отношения к ней мужа и свекрови.
Консультант неоднократно предпринимал попытки связать пошлые события с теперешними проблемами Иры, однако Ирина уходила от ответа на вопросы о том, что на самом деле она хотела бы получить от консультации и конкретно от психолога. Консультант посчитал, что заключение контракта на оказание помощи можно оставить на следующий раз. Подобное случается в практике, когда человеку нужно выговориться, прежде чем он сможет более или менее четко обозначить свой запрос.
Однако на второй встрече речь пошла, как ни странно, не о личных проблемах, а о ситуации на работе, т. е. в школе. Ирина начала рассказ о гонениях со стороны ее непосредственной начальницы. Ситуация описывалась схожим образом: Ирина выступала в роли невинной жертвы, а ее начальница в роли несправед
ливого гонителя. Здесь психолог-консультант совершил серьезную ошибку, также приняв на веру все, что Ира рассказывала о своей начальнице и о ситуации гонений. Он не стал уточнять и анализировать роль самой Ирины в сложившейся ситуации, а начал разбирать способы выхода из конфликта. Ирина ушла очень довольная, консультант тоже остался доволен своей работой.
Однако когда на следующий день он пришел на работу, его тут же пригласили в кабинет директора, где находилась начальница Ирины. Консультанту высказали претензию, что он разжигает конфликты в школе, что ситуация вражды Ирины с начальницей тянется давно и была замята ценой больших усилий, а из-за вмешательства психолога эта вражда вспыхнула вновь. Консультанта настоятельно попросили больше не вмешиваться в дела, о которых он не имеет ни малейшего представления. Оказалось, что Ирина, приняв молчание психолога-консультанта за полное одобрение своих действий, стала рассказывать всем учителям и начальству, что психолог одобрил ее поведение, считает ее абсолютно правой и осуждает поведение ее начальницы.
Психолог-консультант почувствовал, что его подставили, разозлился и не смог сдержать своей досады при встрече с Ириной. Как можно догадаться, Ирина почувствовала себя оскорбленной и несправедливо обиженной, так как она доверилась психологу, а он ее не только не понял, но и обидел. Таким образом, ситуация повторилась.
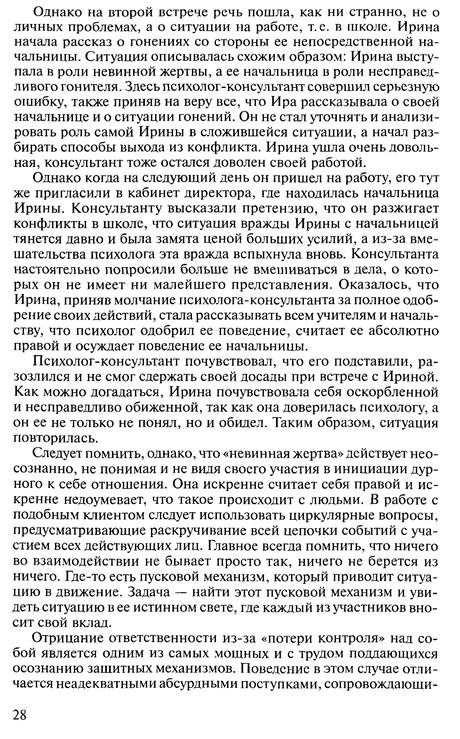 Следует
помнить, однако, что «невинная жертва» действует неосознанно, не понимая и не
видя своего участия в инициации дурного к себе отношения. Она искренне считает
себя правой и искренне недоумевает, что такое происходит с людьми. В работе с
подобным клиентом следует использовать циркулярные вопросы, предусматривающие
раскручивание всей цепочки событий с участием всех действующих лиц. Главное
всегда помнить, что ничего во взаимодействии не бывает просто так, ничего не
берется из ничего. Где-то есть пусковой механизм, который приводит ситуацию в
движение. Задача — найти этот пусковой механизм и увидеть ситуацию в ее
истинном свете, где каждый из участников вносит свой вклад.
Следует
помнить, однако, что «невинная жертва» действует неосознанно, не понимая и не
видя своего участия в инициации дурного к себе отношения. Она искренне считает
себя правой и искренне недоумевает, что такое происходит с людьми. В работе с
подобным клиентом следует использовать циркулярные вопросы, предусматривающие
раскручивание всей цепочки событий с участием всех действующих лиц. Главное
всегда помнить, что ничего во взаимодействии не бывает просто так, ничего не
берется из ничего. Где-то есть пусковой механизм, который приводит ситуацию в
движение. Задача — найти этот пусковой механизм и увидеть ситуацию в ее
истинном свете, где каждый из участников вносит свой вклад.
Отрицание ответственности из-за «потери контроля» над собой является одним из самых мощных и с трудом поддающихся осознанию защитных механизмов. Поведение в этом случае отличается неадекватными абсурдными поступками, сопровождающимися очень сильными эмоциональными проявлениями (истерическими припадками): криками, слезами, воем, стонами и т.д.
Отличительной особенностью подобного способа избегания ответственности является то, что такие припадки начинаются и заканчиваются внезапно и сила их протекания не соответствует тяжести предшествующего события.
Например, в ответ на слабый протест ребенка о том, что ему не хочется сейчас идти гулять, мать может жестоко избить ребенка, объясняя впоследствии свой дикий поступок тем, что на нее нашло помрачение и что она не помнит того, что делала.
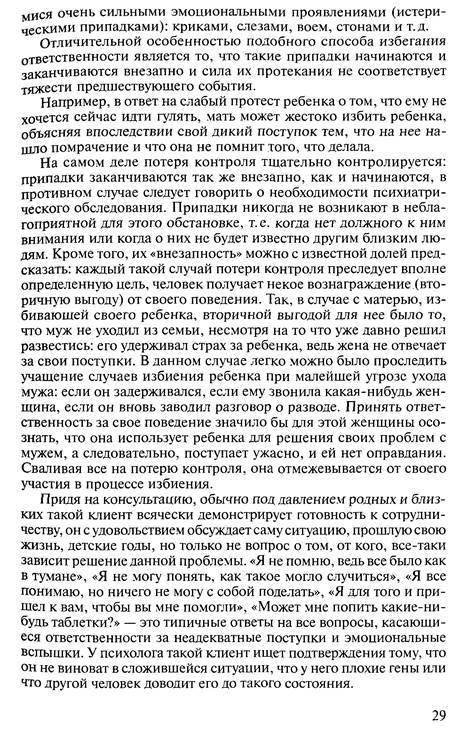 На
самом деле потеря контроля тщательно контролируется: припадки заканчиваются так
же внезапно, как и начинаются, в противном случае следует говорить о
необходимости психиатрического обследования. Припадки никогда не возникают в
неблагоприятной для этого обстановке, т.е. когда нет должного к ним внимания
или когда о них не будет известно другим близким людям. Кроме того, их
«внезапность» можно с известной долей предсказать: каждый такой случай потери
контроля преследует вполне определенную цель, человек получает некое вознаграждение
(вторичную выгоду) от своего поведения. Так, в случае с матерью, избивающей
своего ребенка, вторичной выгодой для нее было то, что муж не уходил из семьи,
несмотря на то что уже давно решил развестись: его удерживал страх за ребенка,
ведь жена не отвечает за свои поступки. В данном случае легко можно было
проследить учащение случаев избиения ребенка при малейшей угрозе ухода мужа:
если он задерживался, если ему звонила какая-нибудь женщина, если он вновь
заводил разговор о разводе. Принять ответственность за свое поведение значило
бы для этой женщины осознать, что она использует ребенка для решения своих
проблем с мужем, а следовательно, поступает ужасно, и ей нет оправдания.
Сваливая все на потерю контроля, она отмежевывается от своего участия в
процессе избиения.
На
самом деле потеря контроля тщательно контролируется: припадки заканчиваются так
же внезапно, как и начинаются, в противном случае следует говорить о
необходимости психиатрического обследования. Припадки никогда не возникают в
неблагоприятной для этого обстановке, т.е. когда нет должного к ним внимания
или когда о них не будет известно другим близким людям. Кроме того, их
«внезапность» можно с известной долей предсказать: каждый такой случай потери
контроля преследует вполне определенную цель, человек получает некое вознаграждение
(вторичную выгоду) от своего поведения. Так, в случае с матерью, избивающей
своего ребенка, вторичной выгодой для нее было то, что муж не уходил из семьи,
несмотря на то что уже давно решил развестись: его удерживал страх за ребенка,
ведь жена не отвечает за свои поступки. В данном случае легко можно было
проследить учащение случаев избиения ребенка при малейшей угрозе ухода мужа:
если он задерживался, если ему звонила какая-нибудь женщина, если он вновь
заводил разговор о разводе. Принять ответственность за свое поведение значило
бы для этой женщины осознать, что она использует ребенка для решения своих
проблем с мужем, а следовательно, поступает ужасно, и ей нет оправдания.
Сваливая все на потерю контроля, она отмежевывается от своего участия в
процессе избиения.
Придя на консультацию, обычно под давлением родных и близких такой клиент всячески демонстрирует готовность к сотрудничеству, он с удовольствием обсуждает саму ситуацию, прошлую свою жизнь, детские годы, но только не вопрос о том, от кого, все-таки зависит решение данной проблемы. «Я не помню, ведь все было как в тумане», «Я не могу понять, как такое могло случиться», «Я все
понимаю, но ничего не могу с собой поделать», «Я для того и пришел к вам, чтобы вы мне помогли», «Может мне попить какие-нибудь таблетки?» — это типичные ответы на все вопросы, касающиеся ответственности за неадекватные поступки и эмоциональные вспышки. У психолога такой клиент ищет подтверждения тому, что он не виноват в сложившейся ситуации, что у него плохие гены или что другой человек доводит его до такого состояния.
Следует отметить, что у психически здорового человека всегда есть средства совладать с собственным эмоциональным состоянием. Один из самых сильных страхов у человека — это страх сумасшествия, когда человек не в состоянии контролировать себя, свои поступки и эмоции. Поэтому, если происходит действительно по
теря контроля, где человек себя не помнит, — это вызывает ужас, который заставляет тут же обращаться к специалистам. Если же че
ловек спокойно, иногда даже с удовольствием рассказывает о том, как он ничего не помнил и не понимал, что делал, это сразу же наводит на мысль о возможных способах управления другими людьми посредством нервных припадков и неадекватных поступков.
Работать с таким способом защиты очень трудно из-за получаемого клиентом вознаграждения. Вторичная выгода всегда сильнее неудобств, доставляемых потерей контроля. Только отказ другого человека реагировать привычным нужным способом (или уг
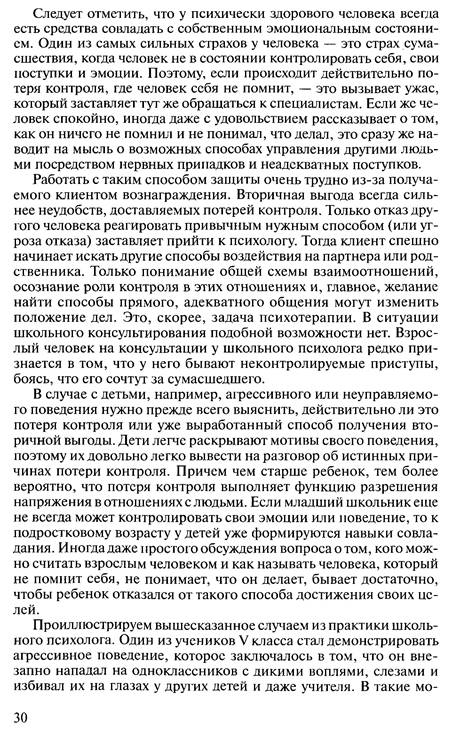 роза отказа) заставляет
прийти к психологу. Тогда клиент спешно начинает искать другие способы воздействия
на партнера или родственника. Только понимание общей схемы взаимоотношений,
осознание роли контроля в этих отношениях и, главное, желание найти способы
прямого, адекватного общения могут изменить положение дел. Это, скорее, задача
психотерапии. В ситуации школьного консультирования подобной возможности нет.
Взрослый человек на консультации у школьного психолога редко признается в том,
что у него бывают неконтролируемые приступы, боясь, что его сочтут за
сумасшедшего.
роза отказа) заставляет
прийти к психологу. Тогда клиент спешно начинает искать другие способы воздействия
на партнера или родственника. Только понимание общей схемы взаимоотношений,
осознание роли контроля в этих отношениях и, главное, желание найти способы
прямого, адекватного общения могут изменить положение дел. Это, скорее, задача
психотерапии. В ситуации школьного консультирования подобной возможности нет.
Взрослый человек на консультации у школьного психолога редко признается в том,
что у него бывают неконтролируемые приступы, боясь, что его сочтут за
сумасшедшего.
В случае с детьми, например, агрессивного или неуправляемого поведения нужно прежде всего выяснить, действительно ли это потеря контроля или уже выработанный способ получения вторичной выгоды. Дети легче раскрывают мотивы своего поведения, поэтому их довольно легко вывести на разговор об истинных при
чинах потери контроля. Причем чем старше ребенок, тем более вероятно, что потеря контроля выполняет функцию разрешения напряжения в отношениях с людьми. Если младший школьник еще не всегда может контролировать свои эмоции или поведение, то к подростковому возрасту у детей уже формируются навыки совла
дания. Иногда даже простого обсуждения вопроса о том, кого можно считать взрослым человеком и как называть человека, который не помнит себя, не понимает, что он делает, бывает достаточно, чтобы ребенок отказался от такого способа достижения своих це
лей.
Проиллюстрируем вышесказанное случаем из практики школьного психолога. Один из учеников V класса стал демонстрировать
агрессивное поведение, которое заключалось в том, что он внезапно нападал на одноклассников с дикими воплями, слезами и избивал их на глазах у других детей и даже учителя. В такие моменты он напоминал сумасшедшего. Был случай, когда он ударил и учителя, который пытался его оттащить. Поводом для нападения могло послужить все, что угодно, вплоть до нечаянно оброненного слова. Слава (назовем его так) не мог объяснить причину своего агрессивного поведения. Он говорил, что у него возникает какой-то туман перед глазами и он начинает бить. Учителя вызва
ли для разговора маму, та была очень сильно удивлена, поскольку дома никогда ничего подобного не происходило. Тогда психолога попросили посмотреть мальчика с целью выявить причины агрессивного поведения.
Прежде всего психолог поговорил с учителем IV класса, из которого пришел ребенок. Портрет, нарисованный им, никак не соответствовал образу неуправляемого бандита, каким Слава предстал в V классе. По словам учителя начальных классов, Слава, наоборот, всегда был очень тихим и даже забитым ребенком. Его вечно донимали мальчишки из его класса и из параллельного. Особенно отличались два друга, которые приставали к Славе в течение последнего года. Слава обычно отмалчивался или уходил.
В V классе Слава стал вести себя агрессивно, и нападки со стороны преследователей прекратились. На консультации Слава про
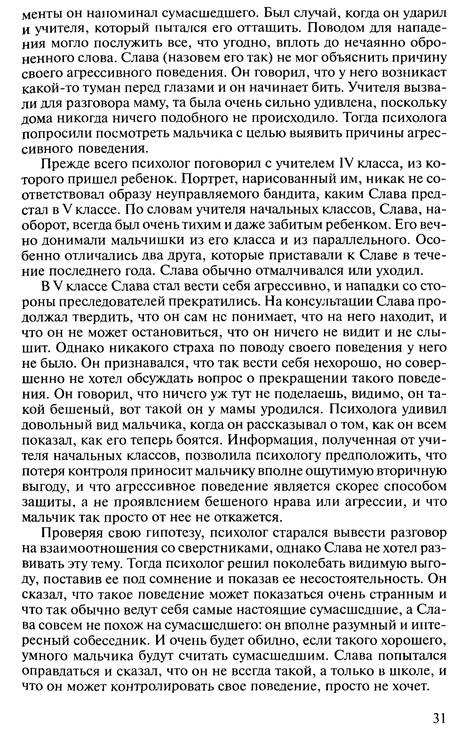 должал твердить, что он сам
не понимает, что на него находит, и что он не может остановиться, что он ничего
не видит и не слышит. Однако никакого страха по поводу своего поведения у него
не было. Он признавался, что так вести себя нехорошо, но совершенно не хотел
обсуждать вопрос о прекращении такого поведения. Он говорил, что ничего уж тут
не поделаешь, видимо, он такой бешеный, вот такой он у мамы уродился. Психолога
удивил довольный вид мальчика, когда он рассказывал о том, как он всем показал,
как его теперь боятся. Информация, полученная от учи
должал твердить, что он сам
не понимает, что на него находит, и что он не может остановиться, что он ничего
не видит и не слышит. Однако никакого страха по поводу своего поведения у него
не было. Он признавался, что так вести себя нехорошо, но совершенно не хотел
обсуждать вопрос о прекращении такого поведения. Он говорил, что ничего уж тут
не поделаешь, видимо, он такой бешеный, вот такой он у мамы уродился. Психолога
удивил довольный вид мальчика, когда он рассказывал о том, как он всем показал,
как его теперь боятся. Информация, полученная от учи
теля начальных классов, позволила психологу предположить, что потеря контроля приносит мальчику вполне ощутимую вторичную выгоду, и что агрессивное поведение является скорее способом защиты, а не проявлением бешеного нрава или агрессии, и что мальчик так просто от нее не откажется.
Проверяя свою гипотезу, психолог старался вывести разговор на взаимоотношения со сверстниками, однако Слава не хотел развивать эту тему. Тогда психолог решил поколебать видимую выго
ду, поставив ее под сомнение и показав ее несостоятельность. Он сказал, что такое поведение может показаться очень странным и
что так обычно ведут себя самые настоящие сумасшедшие, а Слава совсем не похож на сумасшедшего: он вполне разумный и инте
ресный собеседник. И очень будет обидно, если такого хорошего, умного мальчика будут считать сумасшедшим. Слава попытался оправдаться и сказал, что он не всегда такой, а только в школе, и что он может контролировать свое поведение, просто не хочет.
Так появилась возможность обсуждать с ним вопрос ответственности за поведение, а дальше и проблему взаимоотношений со сверстниками. Действительно, Слава нашел способ прекратить насмешки и преследования со стороны одноклассников путем временной потери контроля над собой. С ним никто не решался иметь
дело, его стали бояться. К счастью данный способ не успел закрепиться, и Слава смог достаточно быстро от него отказаться, выра
ботав в совместной работе с психологом новые способы давать отпор обидчикам.
До сих пор мы рассматривали способы ухода от принятия ответственности за свою жизнь, которые касаются нежелания осознавать, что причины тяжелого положения в жизни кроятся в самом человеке, в его способах взаимодействия с миром и людьми, в
том, как он сам распоряжается своей жизнью, а не в происках судьбы-злодейки, других людей, в дурной наследственности, невоздержанном характере и т.д. Однако бывает так, что человек осознает свою ответственность, никого не винит, ни на кого не взваливает вину, но ничего в своей жизни не меняет. Он не в состоянии сде
лать тот действенный шаг, который собственно и изменит его жизнь. Данная зашита называется у И. Ялома избегание автономного поведения.
Например, мать понимает, что ее постоянное сидение у телевизора — с утра до вечера — вредит ребенку: он плохо учится, поздно ложится, почти не гуляет, стал зависимым от телевизора. Мать понимает, что только отказавшись от телевизора сама, она сможет помочь ребенку. И именно это она не в состоянии сделать, это уси
лие слишком тяжело для нее. Такая женщина будет себя бичевать и корить, находя в то же время массу нелепейших причин, почему она не может убрать телевизор из своей жизни сейчас. Или другой случай: сознавая, что на работе сложилась тупиковая и болезненная атмосфера, и, не будучи в состоянии ничего там изменить,
страдая и мучаясь, человек с этой работы не уходит.
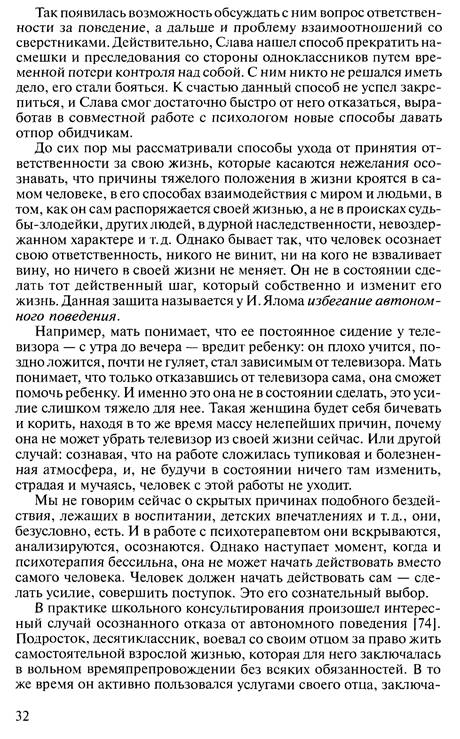 Мы
не говорим сейчас о скрытых причинах подобного бездействия, лежащих в
воспитании, детских впечатлениях и т.д., они, безусловно, есть. И в работе с
психотерапевтом они вскрываются, анализируются, осознаются. Однако наступает
момент, когда и психотерапия бессильна, она не может начать действовать вместо
самого человека. Человек должен начать действовать сам — сде
Мы
не говорим сейчас о скрытых причинах подобного бездействия, лежащих в
воспитании, детских впечатлениях и т.д., они, безусловно, есть. И в работе с
психотерапевтом они вскрываются, анализируются, осознаются. Однако наступает
момент, когда и психотерапия бессильна, она не может начать действовать вместо
самого человека. Человек должен начать действовать сам — сде
лать усилие, совершить поступок. Это его сознательный выбор.
В практике школьного консультирования произошел интересный случай осознанного отказа от автономного поведения [74].
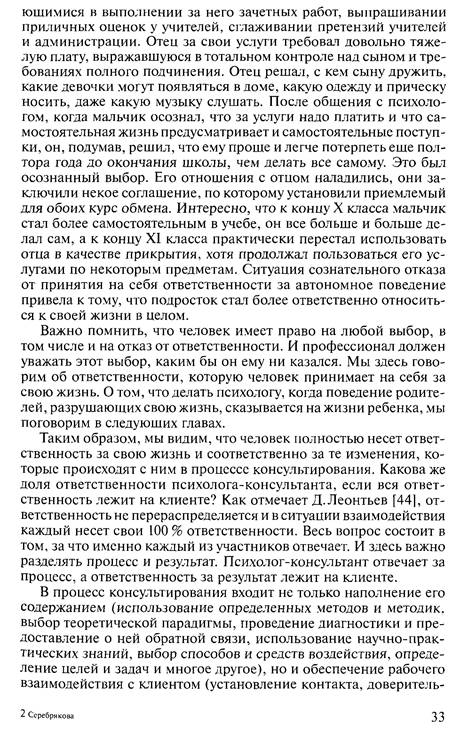 Подросток,
десятиклассник, воевал со своим отцом за право жить самостоятельной взрослой
жизнью, которая для него заключалась в вольном времяпрепровождении без всяких
обязанностей. В то же время он активно пользовался услугами своего отца,
заключаюшимися в выполнении за него зачетных работ, выпрашивании приличных
оценок у учителей, сглаживании претензий учителей и администрации. Отец за свои
услуги требовал довольно тяжелую плату, выражавшуюся в тотальном контроле над
сыном и требованиях полного подчинения. Отец решал, с кем сыну дружить, какие
девочки могут появляться в доме, какую одежду и прическу носить, даже какую
музыку слушать. После общения с психологом, когда мальчик осознал, что за
услуги надо платить и что самостоятельная жизнь предусматривает и
самостоятельные поступки, он, подумав, решил, что ему проще и легче потерпеть
еще полтора года до окончания школы, чем делать все самому. Это был осознанный
выбор. Его отношения с отцом наладились, они заключили некое соглашение, по
которому установили приемлемый для обоих курс обмена. Интересно, что к концу X
класса мальчик стал более самостоятельным в учебе, он все больше и больше де
Подросток,
десятиклассник, воевал со своим отцом за право жить самостоятельной взрослой
жизнью, которая для него заключалась в вольном времяпрепровождении без всяких
обязанностей. В то же время он активно пользовался услугами своего отца,
заключаюшимися в выполнении за него зачетных работ, выпрашивании приличных
оценок у учителей, сглаживании претензий учителей и администрации. Отец за свои
услуги требовал довольно тяжелую плату, выражавшуюся в тотальном контроле над
сыном и требованиях полного подчинения. Отец решал, с кем сыну дружить, какие
девочки могут появляться в доме, какую одежду и прическу носить, даже какую
музыку слушать. После общения с психологом, когда мальчик осознал, что за
услуги надо платить и что самостоятельная жизнь предусматривает и
самостоятельные поступки, он, подумав, решил, что ему проще и легче потерпеть
еще полтора года до окончания школы, чем делать все самому. Это был осознанный
выбор. Его отношения с отцом наладились, они заключили некое соглашение, по
которому установили приемлемый для обоих курс обмена. Интересно, что к концу X
класса мальчик стал более самостоятельным в учебе, он все больше и больше де
лал сам, а к концу XI класса практически перестал использовать отца в качестве прикрытия, хотя продолжал пользоваться его ус
лугами по некоторым предметам. Ситуация сознательного отказа от принятия на себя ответственности за автономное поведение привела к тому, что подросток стал более ответственно относиться к своей жизни в целом.
Важно помнить, что человек имеет право на любой выбор, в том числе и на отказ от ответственности. И профессионал должен уважать этот выбор, каким бы он ему ни казался. Мы здесь говорим об ответственности, которую человек принимает на себя за
свою жизнь. О том, что делать психологу, когда поведение родителей, разрушающих свою жизнь, сказывается на жизни ребенка, мы поговорим в следующих главах.
Таким образом, мы видим, что человек полностью несет ответственность за свою жизнь и соответственно за те изменения, которые происходят с ним в процессе консультирования. Какова же доля ответственности психолога-консультанта, если вся ответственность лежит на клиенте? Как отмечает Д. Леонтьев [44], ответственность не перераспределяется и в ситуации взаимодействия каждый несет свои 100 % ответственности. Весь вопрос состоит в том, за что именно каждый из участников отвечает. И здесь важно разделять процесс и результат. Психолог-консультант отвечает за процесс, а ответственность за результат лежит на клиенте.
В процесс консультирования входит не только наполнение его содержанием (использование определенных методов и методик, выбор теоретической парадигмы, проведение диагностики и предоставление о ней обратной связи, использование научно-практических знаний, выбор способов и средств воздействия, опреде
ление целей и задач и многое другое), но и обеспечение рабочего взаимодействия с клиентом (установление контакта, доверитель
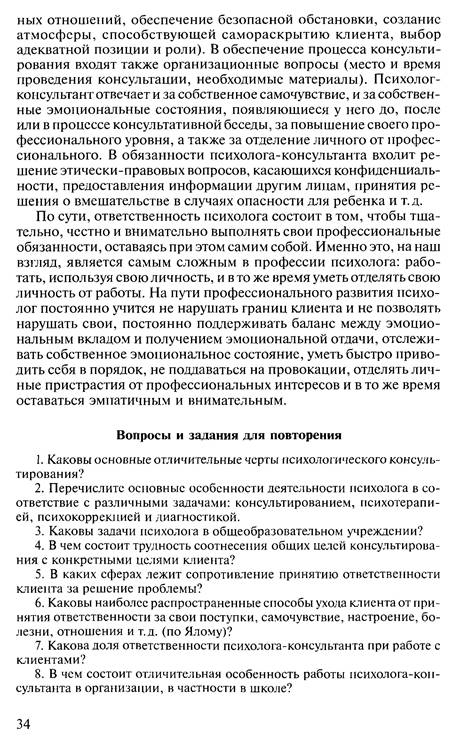 ных отношений, обеспечение
безопасной обстановки, создание атмосферы, способствующей самораскрытию
клиента, выбор адекватной позиции и роли). В обеспечение процесса
консультирования входят также организационные вопросы (место и время проведения
консультации, необходимые материалы). Психолог- консультант отвечает и за
собственное самочувствие, и за собственные эмоциональные состояния,
появляющиеся у него до, после или в процессе консультативной беседы, за
повышение своего профессионального уровня, а также за отделение личного от
профессионального. В обязанности психолога-консультанта входит решение
этически-правовых вопросов, касающихся конфиденциальности, предоставления
информации другим лицам, принятия решения о вмешательстве в случаях опасности
для ребенка и т.д.
ных отношений, обеспечение
безопасной обстановки, создание атмосферы, способствующей самораскрытию
клиента, выбор адекватной позиции и роли). В обеспечение процесса
консультирования входят также организационные вопросы (место и время проведения
консультации, необходимые материалы). Психолог- консультант отвечает и за
собственное самочувствие, и за собственные эмоциональные состояния,
появляющиеся у него до, после или в процессе консультативной беседы, за
повышение своего профессионального уровня, а также за отделение личного от
профессионального. В обязанности психолога-консультанта входит решение
этически-правовых вопросов, касающихся конфиденциальности, предоставления
информации другим лицам, принятия решения о вмешательстве в случаях опасности
для ребенка и т.д.
По сути, ответственность психолога состоит в том, чтобы тщательно, честно и внимательно выполнять свои профессиональные обязанности, оставаясь при этом самим собой. Именно это, на наш взгляд, является самым сложным в профессии психолога: рабо
тать, используя свою личность, и в то же время уметь отделять свою личность от работы. На пути профессионального развития психолог постоянно учится не нарушать границ клиента и не позволять нарушать свои, постоянно поддерживать баланс между эмоциональным вкладом и получением эмоциональной отдачи, отслеживать собственное эмоциональное состояние, уметь быстро приводить себя в порядок, не поддаваться на провокации, отделять личные пристрастия от профессиональных интересов и в то же время оставаться эмпатичным и внимательным.
1. Каковы основные отличительные черты психологического консультирования?
2. Перечислите основные особенности деятельности психолога в соответствие с различными задачами: консультированием, психотерапией, психокоррекцией и диагностикой.
3. Каковы задачи психолога в общеобразовательном учреждении?
4. В чем состоит трудность соотнесения общих целей консультирования с конкретными целями клиента?
5. В каких сферах лежит сопротивление принятию ответственности клиента за решение проблемы?
6. Каковы наиболее распространенные способы ухода клиента от принятия ответственности за свои поступки, самочувствие, настроение, бо
лезни, отношения и т.д. (по Ялому)?
7. Какова доля ответственности психолога-консультанта при работе с клиентами?
8. В чем состоит отличительная особенность работы психолога-консультанта в организации, в частности в школе?
Задания для самостоятельной работы
■ Рассчитайте время, затрачиваемое вами на ту или иную деятельность в течение недели в школе. Сколько времени у вас уходит на психо
логическое просвещение, на психологическую профилактику учеников и учителей, на психологическую диагностику, на психологическую кор
рекцию и консультативную деятельность.
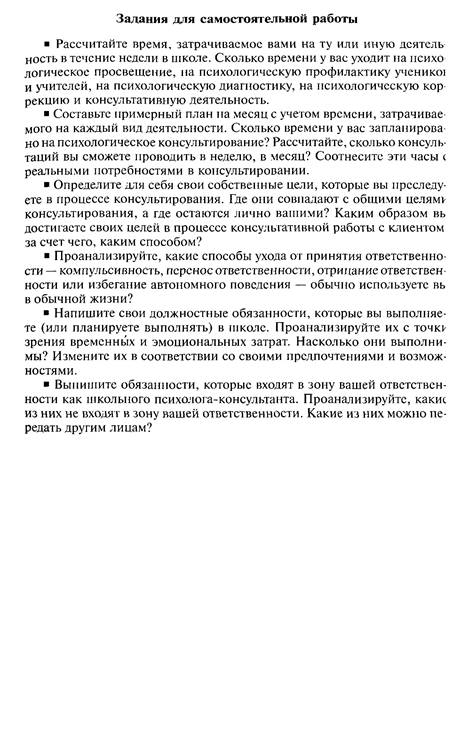 ■ Составьте примерный план на
месяц с учетом времени, затрачиваемого на каждый вид деятельности. Сколько
времени у вас запланировано на психологическое консультирование? Рассчитайте,
сколько консультаций вы сможете проводить в неделю, в месяц? Соотнесите эти
часы с реальными потребностями в консультировании.
■ Составьте примерный план на
месяц с учетом времени, затрачиваемого на каждый вид деятельности. Сколько
времени у вас запланировано на психологическое консультирование? Рассчитайте,
сколько консультаций вы сможете проводить в неделю, в месяц? Соотнесите эти
часы с реальными потребностями в консультировании.
■ Определите для себя свои собственные цели, которые вы преследуете в процессе консультирования. Где они совпадают с общими целями консультирования, а где остаются лично вашими? Каким образом вы
достигаете своих целей в процессе консультативной работы с клиентом за счет чего, каким способом?
■ Проанализируйте, какие способы ухода от принятия ответственности — компульсивность, перенос ответственности, отрицание ответственности или избегание автономного поведения — обычно используете вы в обычной жизни?
■ Напишите свои должностные обязанности, которые вы выполняете (или планируете выполнять) в школе. Проанализируйте их с точки зрения временных и эмоциональных затрат. Насколько они выполнимы? Измените их в соответствии со своими предпочтениями и возможностями.
■ Выпишите обязанности, которые входят в зону вашей ответственности как школьного психолога-консультанта. Проанализируйте, какие из них не входят в зону вашей ответственности. Какие из них можно передать другим лицам?
Каждый раз при обсуждении темы ответственности на занятиях со студентами или на супервизии с начинающими психологами или коллегами при анализе трудных случаев возникает очень много вопросов.
В основном в них звучат опасения, что если мы будем передавать ответственность клиенту за решение его проблем, то могут
возникнуть следующие вопросы: а) что делать, если клиент не справится, не возьмет на себя ответственность и уйдет; б) если клиент возьмет на себя ответственность за свою жизнь и за решение проблемы, тогда в чем будет состоять работа психолога; в) как себя вести на консультации, какое поведение будет оптимальным; г) на что следует прежде всего обращать внимание, чтобы не брать на себя ответственность клиента?
Ответы на эти вопросы лежат в следующих основных положениях психологического консультирования: а) п о з и ц и я психо- лога-консультанта; б) ф у н к ц и и психолога-консультанта; в) р о л и психолога-консультанта; г) п р и н ц и п ы психологиче
ского консультирования.
В литературе, посвященной психологическому консультированию, эти четыре понятия часто смешиваются, взаимозаменяются и четко не определяются, например: роль отождествляется с позицией [23; 25]; роль отождествляется с функцией [36; 81]; роль отож
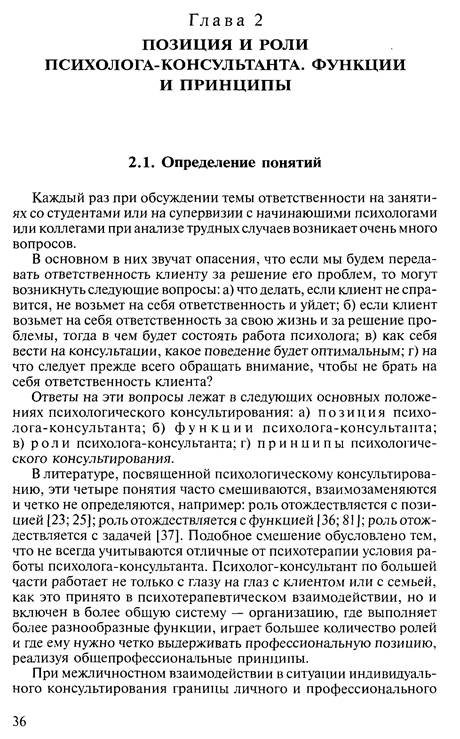 дествляется с задачей [37].
Подобное смешение обусловлено тем, что не всегда учитываются отличные от
психотерапии условия работы психолога-консультанта. Психолог-консультант по
большей части работает не только с глазу на глаз с клиентом или с семьей, как
это принято в психотерапевтическом взаимодействии, но и включен в более общую
систему — организацию, где выполняет более разнообразные функции, играет
большее количество ролей и где ему нужно четко выдерживать профессиональную
позицию, реализуя общепрофессиональные принципы.
дествляется с задачей [37].
Подобное смешение обусловлено тем, что не всегда учитываются отличные от
психотерапии условия работы психолога-консультанта. Психолог-консультант по
большей части работает не только с глазу на глаз с клиентом или с семьей, как
это принято в психотерапевтическом взаимодействии, но и включен в более общую
систему — организацию, где выполняет более разнообразные функции, играет
большее количество ролей и где ему нужно четко выдерживать профессиональную
позицию, реализуя общепрофессиональные принципы.
При межличностном взаимодействии в ситуации индивидуального консультирования границы личного и профессионального
пространства выдерживаются не столь четко и жестко, они могут немного расплываться, позволяя и клиенту, и консультанту устанавливать доверительные отношения. Опытный консультант всегда чувствует ту грань, где допустима некоторая размытость границ и всегда вовремя их восстанавливает, когда рабочее взаимо
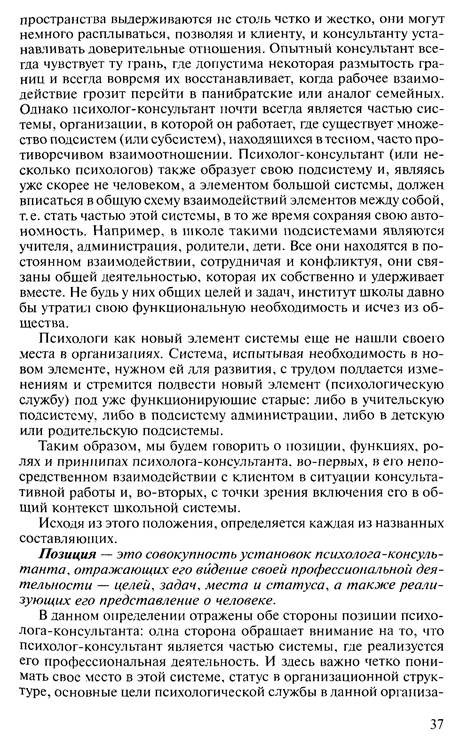 действие грозит перейти в
панибратские или аналог семейных. Однако психолог-консультант почти всегда
является частью системы, организации, в которой он работает, где существует
множество подсистем (или субсистем), находящихся в тесном, часто противоречивом
взаимоотношении. Психолог-консультант (или несколько психологов) также образует
свою подсистему и, являясь уже скорее не человеком, а элементом большой
системы, должен вписаться в общую схему взаимодействий элементов между собой,
т.е. стать частью этой системы, в то же время сохраняя свою автономность.
Например, в школе такими подсистемами являются
действие грозит перейти в
панибратские или аналог семейных. Однако психолог-консультант почти всегда
является частью системы, организации, в которой он работает, где существует
множество подсистем (или субсистем), находящихся в тесном, часто противоречивом
взаимоотношении. Психолог-консультант (или несколько психологов) также образует
свою подсистему и, являясь уже скорее не человеком, а элементом большой
системы, должен вписаться в общую схему взаимодействий элементов между собой,
т.е. стать частью этой системы, в то же время сохраняя свою автономность.
Например, в школе такими подсистемами являются
учителя, администрация, родители, дети. Все они находятся в постоянном взаимодействии, сотрудничая и конфликтуя, они связаны общей деятельностью, которая их собственно и удерживает вместе. Не будь у них общих целей и задач, институт школы давно бы утратил свою функциональную необходимость и исчез из общества.
Психологи как новый элемент системы еще не нашли своего места в организациях. Система, испытывая необходимость в новом элементе, нужном ей для развития, с трудом поддается изменениям и стремится подвести новый элемент (психологическую службу) под уже функционирующие старые: либо в учительскую подсистему, либо в подсистему администрации, либо в детскую или родительскую подсистемы.
Таким образом, мы будем говорить о позиции, функциях, ролях и принципах психолога-консультанта. во-первых, в его непосредственном взаимодействии с клиентом в ситуации консультативной работы и, во-вторых, с точки зрения включения его в общий контекст школьной системы.
Исходя из этого положения, определяется каждая из названных составляющих.
Позиция — это совокупность установок психолога-консультанта, отражающих его видение своей профессиональной деятельности — целей, задач, места и статуса, а также реализующих его представление о человеке.
В данном определении отражены обе стороны позиции психолога-консультанта: одна сторона обращает внимание на то, что психолог-консультант является частью системы, где реализуется его профессиональная деятельность. И здесь важно четко понимать свое место в этой системе, статус в организационной структуре, основные цели психологической службы в данной организации и задачи, которые в соответствии с этими целями он выполняет в ней. Вторая сторона — та призма, через которую профессионал смотрит на человека, то, как он его воспринимает, как видит природу человека, его личность.
Позиция неизменна, однозначна и устойчива. Позиция — это фундамент, на котором надстраивается конкретная работа психолога-консультанта в данном конкретном учреждении. В соответствии со своей позицией психолог-консультант корректирует свои функциональные обязанности, определяет ролевой репертуар, необходимый ему для выполнения профессиональных задач, и придерживается тех или иных принципов в своей работе.
В отличие от позиции роли часто меняются в зависимости от ситуации взаимодействия или от выполняемых задач. Роли подвижны, ситуативны, изменчивы, постоянно корректируются. Основатель психодрамы Я. Морено вкладывал в понятие «роль» много значений. Для него роль — это и «воображаемая личность, созданная драматургом», и «модель существования», и «некоторый образ или характер», и «некоторый обобщенный характер или функция, существующая в социальной реальности», и «актуальная на
данный момент и осязаемая форма, которую принимает наша самость» [53, с. 207].
В дальнейшем изложении материала будет использоваться следующее определение роли: «Роль — это форма функционирования, которую принимает индивид в определенный момент, реагируя на определенную ситуацию, в которую вовлечены другие
лица или объекты» [18, с. 309].
Любой человек играет множество ролей в своей жизни. И это не только социальные роли, но и роли состояния или настроения, например «задумчивый» или «уставший». Или это могут быть роли
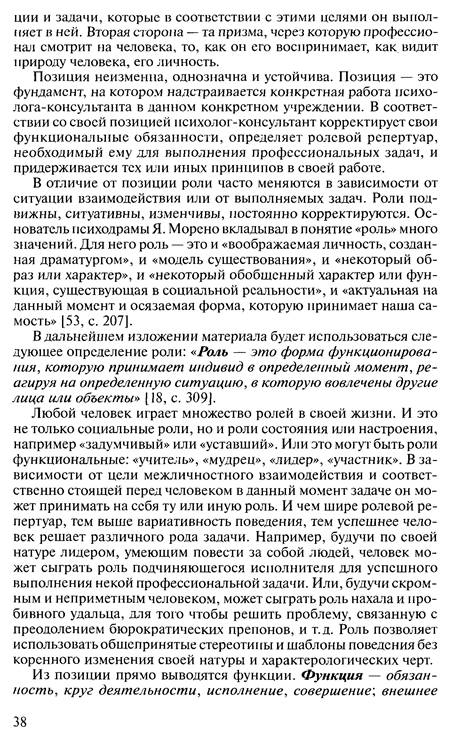 функциональные: «учитель»,
«мудрец», «лидер», «участник». В зависимости от цели межличностного
взаимодействия и соответственно стоящей перед человеком в данный момент задаче
он может принимать на себя ту или иную роль. И чем шире ролевой репертуар, тем
выше вариативность поведения, тем успешнее человек решает различного рода
задачи. Например, будучи по своей натуре лидером, умеющим повести за собой
людей, человек может сыграть роль подчиняющегося исполнителя для успешного
выполнения некой профессиональной задачи. Или, будучи скромным и неприметным
человеком, может сыграть роль нахала и пробивного удальца, для того чтобы
решить проблему, связанную с преодолением бюрократических препонов, и т.д. Роль
позволяет использовать общепринятые стереотипы и шаблоны поведения без
коренного изменения своей натуры и характерологических черт.
функциональные: «учитель»,
«мудрец», «лидер», «участник». В зависимости от цели межличностного
взаимодействия и соответственно стоящей перед человеком в данный момент задаче
он может принимать на себя ту или иную роль. И чем шире ролевой репертуар, тем
выше вариативность поведения, тем успешнее человек решает различного рода
задачи. Например, будучи по своей натуре лидером, умеющим повести за собой
людей, человек может сыграть роль подчиняющегося исполнителя для успешного
выполнения некой профессиональной задачи. Или, будучи скромным и неприметным
человеком, может сыграть роль нахала и пробивного удальца, для того чтобы
решить проблему, связанную с преодолением бюрократических препонов, и т.д. Роль
позволяет использовать общепринятые стереотипы и шаблоны поведения без
коренного изменения своей натуры и характерологических черт.
Из позиции прямо выводятся функции. Функция — обязанность, круг деятельности, исполнение, совершение; внешнее
проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений [85; 39]. Функции выстраиваются в зависимости от позиции психолога-консультанта.
И наконец, в зависимости от позиции психолог-консультант придерживается тех или иных принципов в своей работе. Можно
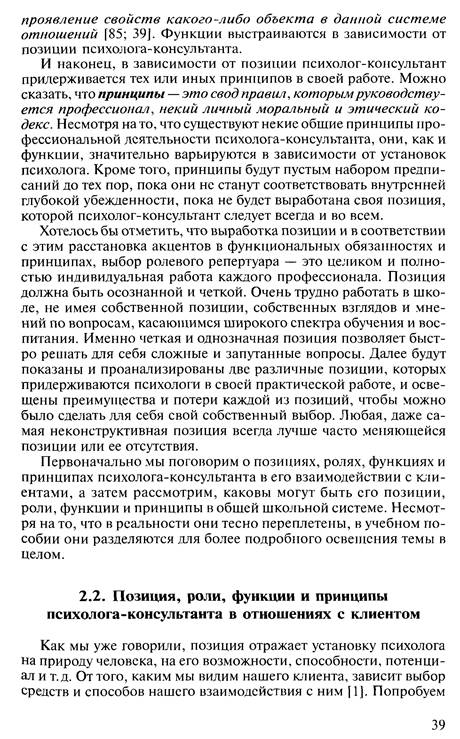 сказать, что принципы — это свод правил, которым руководствуется
профессионал, некий личный моральный и этический кодекс. Несмотря на
то, что существуют некие общие принципы профессиональной деятельности
психолога-консультанта, они, как и функции, значительно варьируются в
зависимости от установок психолога. Кроме того, принципы будут пустым набором
предписаний до тех пор, пока они не станут соответствовать внутренней глубокой
убежденности, пока не будет выработана своя позиция, которой
психолог-консультант следует всегда и во всем.
сказать, что принципы — это свод правил, которым руководствуется
профессионал, некий личный моральный и этический кодекс. Несмотря на
то, что существуют некие общие принципы профессиональной деятельности
психолога-консультанта, они, как и функции, значительно варьируются в
зависимости от установок психолога. Кроме того, принципы будут пустым набором
предписаний до тех пор, пока они не станут соответствовать внутренней глубокой
убежденности, пока не будет выработана своя позиция, которой
психолог-консультант следует всегда и во всем.
Хотелось бы отметить, что выработка позиции и в соответствии с этим расстановка акцентов в функциональных обязанностях и принципах, выбор ролевого репертуара — это целиком и полностью индивидуальная работа каждого профессионала. Позиция
должна быть осознанной и четкой. Очень трудно работать в школе, не имея собственной позиции, собственных взглядов и мнений по вопросам, касающимся широкого спектра обучения и воспитания. Именно четкая и однозначная позиция позволяет быст
ро решать для себя сложные и запутанные вопросы. Далее будут показаны и проанализированы две различные позиции, которых придерживаются психологи в своей практической работе, и освещены преимущества и потери каждой из позиций, чтобы можно было сделать для себя свой собственный выбор. Любая, даже самая неконструктивная позиция всегда лучше часто меняющейся позиции или ее отсутствия.
Первоначально мы поговорим о позициях, ролях, функциях и принципах психолога-консультанта в его взаимодействии с кли
ентами, а затем рассмотрим, каковы могут быть его позиции, роли, функции и принципы в общей школьной системе. Несмотря на то, что в реальности они тесно переплетены, в учебном пособии они разделяются для более подробного освещения темы в целом.
Как мы уже говорили, позиция отражает установку психолога на природу человека, на его возможности, способности, потенциал и т.д. О т того, каким мы видим нашего клиента, зависит выбор средств и способов нашего взаимодействия с ним [1]. Попробуем нарисовать два портрета клиента, который приходит на консуль
тацию.
П о р т р е т п е р в ы й . Клиент — не очень хорошо приспособленный к жизни человек, который не может решить свои проблемы сам, поэтому он обращается за помощью к психологу. Он ищет поддержки и одобрения, зависим, слаб и несамостоятелен в принятии решений. В решении своей проблемы он беспомощен. Он стойко сопротивляется изменениям, ригиден и закостенел в своих неадекватных устремлениях.
П о р т р е т в т о р о й . Клиент — человек, который хорошо приспособлен к жизни, может решать свои проблемы самостоятельно, принимать решения и отвечать за свою жизнь. Он готов к изменениям, стремится избавиться от своих проблем и напряжений, расти и развиваться. Он ищет помощи в поисках собственных ресурсов для работы над проблемой и над собой.
На первый взгляд, это описание двух типов клиентов: «трудного» и «хорошего». На самом деле — это описание одного и того же клиента, только с разных позиций. Оба эти описания верны. Давайте попробуем разобраться в этом парадоксе. Итак: «Клиент — не очень хорошо приспособленный к жизни человек, который не может решить свои проблемы сам, поэтому он обращается за помощью к психологу» или «Клиент — человек, который хорошо приспособлен к жизни»? Клиент действительно не очень хорошо приспособлен к жизни, поэтому у него возникают проблемы, эмоциональные срывы и нарушены некоторые межличностные отношения. В то же время он, несмотря на проблемы,
функционирует в обществе, имеет работу (или имел до недавнего времени), общается с людьми, занимается какими-то делами, имеет увлечения или интересы — значит он приспособлен к той
жизни, которую ведет.
Далее: «Он ищет поддержки и одобрения, зависим, слаб и несамостоятелен в принятии решений. В решении своей проблемы
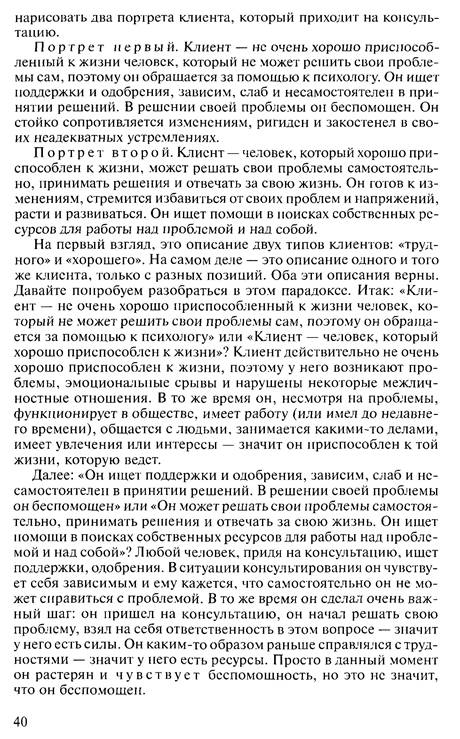 он беспомощен» или «Он может
решать свои проблемы самостоятельно, принимать решения и отвечать за свою
жизнь. Он ищет помощи в поисках собственных ресурсов для работы над проблемой и
над собой»? Любой человек, придя на консультацию, ищет поддержки, одобрения. В
ситуации консультирования он чувствует себя зависимым и ему кажется, что
самостоятельно он не может справиться с проблемой. В то же время он сделал
очень важный шаг: он пришел на консультацию, он начал решать свою проблему,
взял на себя ответственность в этом вопросе — значит у него есть силы. Он
каким-то образом раньше справлялся с трудностями — значит у него есть ресурсы.
Просто в данный момент он растерян и ч у в с т в у е т беспомощность, но это не
значит, что он беспомощен.
он беспомощен» или «Он может
решать свои проблемы самостоятельно, принимать решения и отвечать за свою
жизнь. Он ищет помощи в поисках собственных ресурсов для работы над проблемой и
над собой»? Любой человек, придя на консультацию, ищет поддержки, одобрения. В
ситуации консультирования он чувствует себя зависимым и ему кажется, что
самостоятельно он не может справиться с проблемой. В то же время он сделал
очень важный шаг: он пришел на консультацию, он начал решать свою проблему,
взял на себя ответственность в этом вопросе — значит у него есть силы. Он
каким-то образом раньше справлялся с трудностями — значит у него есть ресурсы.
Просто в данный момент он растерян и ч у в с т в у е т беспомощность, но это не
значит, что он беспомощен.
И наконец: «Он стойко сопротивляется изменениям, ригиден и закостенел в своих неадекватных устремлениях» или «Он готов к изменениям, стремится избавиться от своих проблем и напря
жений, расти и развиваться»? Как это ни парадоксально, но и то и
другое высказывания верны. Если клиент пришел на консультацию за помощью, следует предположить, что он хочет изменить существующее положение дел. Однако сплошь и рядом мы видим ситуацию, когда клиент старается изменить окружение и обстоятельства, но не себя самого. Он сопротивляется изо всех сил, чтобы ничего не менять в своей жизни и в себе самом. С другой стороны, мы видим, как клиент старается и борется, хочет жить по
другому и делает все возможное для него на данный момент времени, чтобы ситуация изменилась, чтобы ушли боль и страдания. Как такое может быть одновременно?
Все дело в оценке степени изменений, которые происходят в клиенте. Наши оценки часто не совпадают с оценками клиентов. Если психолог мыслит категориями глобальной перестройки личности, то робкие попытки клиента что-либо сдвинуть с места кажутся ему убогими и не заслуживающими внимания. Но если представить себе гору всего прошлого опыта, воспитания, привычек и установок — любое движение от этой горы становится прорывом и развитием.
Итак, мы видим, что оба описания верны, они оба отражают правду о клиенте. Подобных представлений множество, мы невольно рисуем в воображении свой портрет клиента. Мы можем выбирать для себя, какой портрет нам наиболее понятен и близок, и в зависимости от своего выбора выстраивать с клиентом те или иные взаимоотношения и использовать в работе те или иные методы, играть те или иные роли.
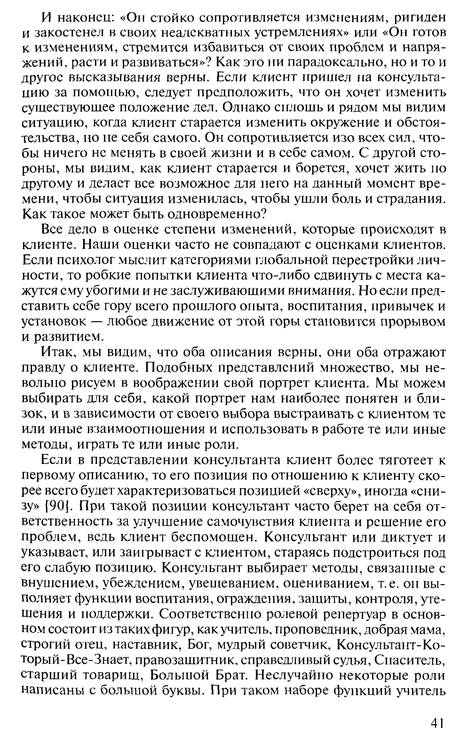 Если
в представлении консультанта клиент более тяготеет к первому описанию, то его
позиция по отношению к клиенту скорее всего будет характеризоваться позицией
«сверху», иногда «снизу» [90]. При такой позиции консультант часто берет на
себя ответственность за улучшение самочувствия клиента и решение его проблем,
ведь клиент беспомощен. Консультант или диктует и указывает, или заигрывает с
клиентом, стараясь подстроиться под его слабую позицию. Консультант выбирает
методы, связанные с внушением, убеждением, увещеванием, оцениванием, т. е. он
выполняет функции воспитания, ограждения, защиты, контроля, утешения и
поддержки. Соответственно ролевой репертуар в основном состоит из таких фигур,
как учитель, проповедник, добрая мама, строгий отец, наставник, Бог, мудрый
советчик, Консультант-Ко
Если
в представлении консультанта клиент более тяготеет к первому описанию, то его
позиция по отношению к клиенту скорее всего будет характеризоваться позицией
«сверху», иногда «снизу» [90]. При такой позиции консультант часто берет на
себя ответственность за улучшение самочувствия клиента и решение его проблем,
ведь клиент беспомощен. Консультант или диктует и указывает, или заигрывает с
клиентом, стараясь подстроиться под его слабую позицию. Консультант выбирает
методы, связанные с внушением, убеждением, увещеванием, оцениванием, т. е. он
выполняет функции воспитания, ограждения, защиты, контроля, утешения и
поддержки. Соответственно ролевой репертуар в основном состоит из таких фигур,
как учитель, проповедник, добрая мама, строгий отец, наставник, Бог, мудрый
советчик, Консультант-Ко
торый-Все-Знает, правозащитник, справедливый судья, Спаситель, старший товарищ, Большой Брат. Неслучайно некоторые роли написаны с большой буквы. При таком наборе функций учитель
становится не просто человеком, который может чему-то научить, а Учителем жизни. То же касается Спасителя, Бога и Консультанта-Который-Все-Знает.
Психолога-консультанта наделяют неким ореолом всезнайства, мудрости, властителя сердец и умов. Он становится фигурой, которую уважают, перед которой преклоняются, которую слушаются и словам которой внимают. Его не оценивают, он всегда нрав и знает, что хорошо для человека, а что плохо. Он относится к своим клиентам, как к детям: неразумным, заблудшим и горячо любимым.
В подобной позиции есть много плюсов. Во-первых, авторитет: консультанту не нужно доказывать свою компетентность и знания, он знает то, чего не знают другие. Во-вторых, с психологом не спорят и выполняют его предписания, не рассуждая. В-третьих, его уважают и боятся: психолог имеет право наказать или по
ощрить. В-четвертых, при такой позиции психологу достается много внимания и любви, иногда даже обожания.
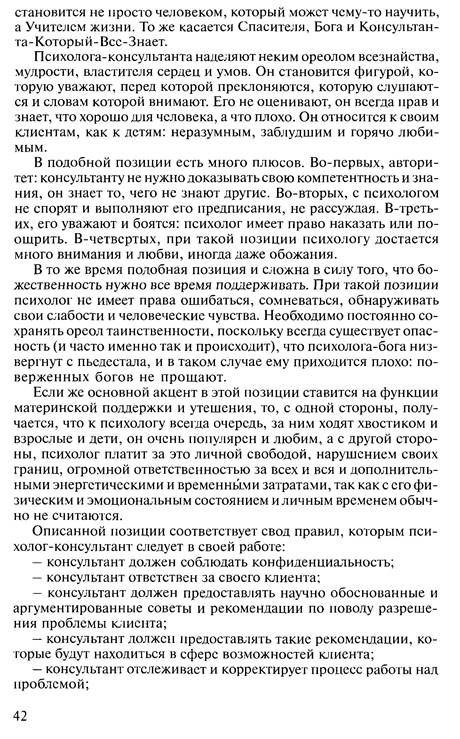 В
то же время подобная позиция и сложна в силу того, что божественность нужно все
время поддерживать. При такой позиции психолог не имеет права ошибаться,
сомневаться, обнаруживать свои слабости и человеческие чувства. Необходимо
постоянно сохранять ореол таинственности, поскольку всегда существует опасность
(и часто именно так и происходит), что психолога-бога низвергнут с пьедестала,
и в таком случае ему приходится плохо: поверженных богов не прощают.
В
то же время подобная позиция и сложна в силу того, что божественность нужно все
время поддерживать. При такой позиции психолог не имеет права ошибаться,
сомневаться, обнаруживать свои слабости и человеческие чувства. Необходимо
постоянно сохранять ореол таинственности, поскольку всегда существует опасность
(и часто именно так и происходит), что психолога-бога низвергнут с пьедестала,
и в таком случае ему приходится плохо: поверженных богов не прощают.
Если же основной акцент в этой позиции ставится на функции материнской поддержки и утешения, то, с одной стороны, полу
чается, что к психологу всегда очередь, за ним ходят хвостиком и взрослые и дети, он очень популярен и любим, а с другой стороны, психолог платит за это личной свободой, нарушением своих границ, огромной ответственностью за всех и вся и дополнительными энергетическими и временными затратами, так как с его физическим и эмоциональным состоянием и личным временем обычно не считаются.
Описанной позиции соответствует свод правил, которым психолог-консультант следует в своей работе:
— консультант должен соблюдать конфиденциальность;
— консультант ответствен за своего клиента;
— консультант должен предоставлять научно обоснованные и аргументированные советы и рекомендации по поводу разрешения проблемы клиента;
— консультант должен предоставлять такие рекомендации, которые будут находиться в сфере возможностей клиента;
— консультант отслеживает и корректирует процесс работы над проблемой;
— консультант контролирует выполнение рекомендаций;
— консультант должен убедить клиента в правильности выбранного пути и всячески поддерживать его на пути решения проблемы;
— консультант оценивает результаты работы, хвалит и поощряет клиента.
Такая позиция психолога напоминает отношение родителя к ребенку младшего школьного возраста, когда ребенка необходимо направлять, контролировать и убеждать в необходимости выполнять домашние задания, делая, однако, это спокойно, после
довательно и непреклонно.
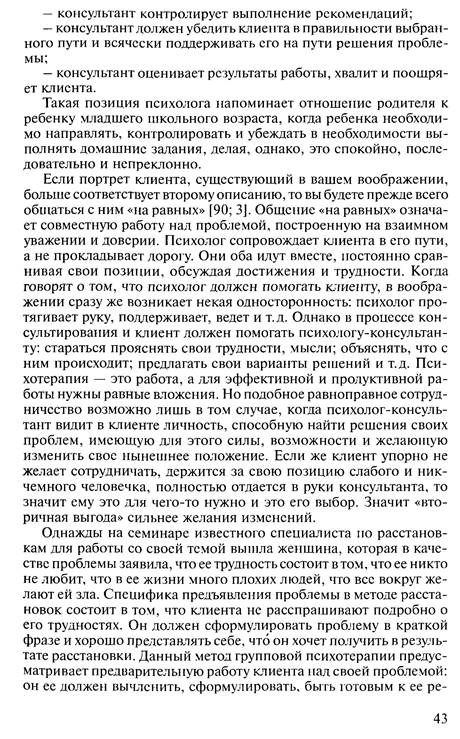 Если
портрет клиента, существующий в вашем воображении, больше соответствует второму
описанию, то вы будете прежде всего общаться с ним «на равных» [90; 3]. Общение
«на равных» означает совместную работу над проблемой, построенную на взаимном
уважении и доверии. Психолог сопровождает клиента в его пути, а не прокладывает
дорогу. Они оба идут вместе, постоянно сравнивая свои позиции, обсуждая
достижения и трудности. Когда говорят о том, что психолог должен помогать
клиенту, в воображении сразу же возникает некая односторонность: психолог
протягивает руку, поддерживает, ведет и т.д. Однако в процессе консультирования
и клиент должен помогать психологу-консультанту: стараться прояснять свои
трудности, мысли; объяснять, что с ним происходит; предлагать свои варианты
решений и т.д. Психотерапия — это работа, а для эффективной и продуктивной работы
нужны равные вложения. Но подобное равноправное сотрудничество возможно лишь в
том случае, когда психолог-консуль
Если
портрет клиента, существующий в вашем воображении, больше соответствует второму
описанию, то вы будете прежде всего общаться с ним «на равных» [90; 3]. Общение
«на равных» означает совместную работу над проблемой, построенную на взаимном
уважении и доверии. Психолог сопровождает клиента в его пути, а не прокладывает
дорогу. Они оба идут вместе, постоянно сравнивая свои позиции, обсуждая
достижения и трудности. Когда говорят о том, что психолог должен помогать
клиенту, в воображении сразу же возникает некая односторонность: психолог
протягивает руку, поддерживает, ведет и т.д. Однако в процессе консультирования
и клиент должен помогать психологу-консультанту: стараться прояснять свои
трудности, мысли; объяснять, что с ним происходит; предлагать свои варианты
решений и т.д. Психотерапия — это работа, а для эффективной и продуктивной работы
нужны равные вложения. Но подобное равноправное сотрудничество возможно лишь в
том случае, когда психолог-консуль
тант видит в клиенте личность, способную найти решения своих проблем, имеющую для этого силы, возможности и желающую изменить свое нынешнее положение. Если же клиент упорно не
желает сотрудничать, держится за свою позицию слабого и никчемного человечка, полностью отдается в руки консультанта, то значит ему это для чего-то нужно и это его выбор. Значит «вторичная выгода» сильнее желания изменений.
Однажды на семинаре известного специалиста по расстановкам для работы со своей темой вышла женщина, которая в каче
стве проблемы заявила, что ее трудность состоит в том, что ее никто не любит, что в ее жизни много плохих людей, что все вокруг желают ей зла. Специфика предъявления проблемы в методе расстановок состоит в том, что клиента не расспрашивают подробно о его трудностях. Он должен сформулировать проблему в краткой фразе и хорошо представлять себе, что он хочет получить в результате расстановки. Данный метод групповой психотерапии предусматривает предварительную работу клиента над своей проблемой: он ее должен вычленить, сформулировать, быть готовым к ее ре
43
шению, иметь для этого силы и желание. Далее психолог и клиент
работают вместе.
На вопрос психолога о том, как она видит решение своей проблемы, женщина лишь беспомощно улыбалась, пожимала плечами и молчала. Создавалось впечатление, что она покорно отдалась в руки могущественного Спасителя, который что-нибудь сотво
рит с ее жизнью. Психолог не стал расспрашивать клиентку о том, кто, как и зачем ее преследует. Он немного подождал, потом еще раз спросил, что она хочет получить в процессе работы. Женщина повторила, что ее все ненавидят, кругом одни плохие люди и она не знает, что с этим делать. Было совершенно непонятно, каким образом она собирается избавляться от этих трудностей: изменить всех окружающих так, чтобы они внезапно ее полюбили, или ждет утешения и жалости к себе, или рассчитывает получить способы влияния на людей. Ясно было только — она не предполагает, что решение может состоять в изменении себя и своего отношения к
людям.
 Психолог
отложил работу с этой клиенткой на следующий день, сказав, что он обязательно
вернется к ее случаю позже. Таким образом он дал клиентке возможность изменить
ее отношение к характеру помощи. В течение двух дней женщина наблюдала за тем,
как решали свои проблемы другие люди, как они старались найти возможные
варианты решений, как учились видеть ситуацию с другой стороны и менять свое
отношение к ней и к окружающим людям. Как они р а б о т а л и . Этот труд был
тяжелым и насыщенным. Их взаимодействие с психотерапевтом проходило в тесном
сотрудничестве, в равноправном стремлении разрешить проблему и найти решение. В
конце последнего дня психотерапевт опять
Психолог
отложил работу с этой клиенткой на следующий день, сказав, что он обязательно
вернется к ее случаю позже. Таким образом он дал клиентке возможность изменить
ее отношение к характеру помощи. В течение двух дней женщина наблюдала за тем,
как решали свои проблемы другие люди, как они старались найти возможные
варианты решений, как учились видеть ситуацию с другой стороны и менять свое
отношение к ней и к окружающим людям. Как они р а б о т а л и . Этот труд был
тяжелым и насыщенным. Их взаимодействие с психотерапевтом проходило в тесном
сотрудничестве, в равноправном стремлении разрешить проблему и найти решение. В
конце последнего дня психотерапевт опять
усадил женщину рядом с собой и спросил, как теперь звучит ее тема и что она хочет получить от расстановки. В ответ он услышал все то же самое без изменений. Тогда психолог отказался с ней
работать и сказал, что, видимо, чаша ее терпения еще не переполнилась, что не хватает, видимо, еще одной капли, после которой она скажет сама себе, что надо в жизни что-то менять, что больше так невозможно жить дальше, а пока ей нравится страдать, для нес это сладкое страдание. За все время семинара клиенткой не было сделано ничего для себя самой, она по-прежнему уповала на психолога и отказывалась трудиться. Это был ее выбор, и она предпочла жить дальше так, как жила раньше.
В своей работе психолог периодически сталкивается с подобными проявлениями, когда несмотря на все его усилия, клиент по-прежнему не желает работать. И отношение «на равных» тогда означает уважение к выбору клиента, к его отказу от изменений. Иногда такое отношение психолога-консультанта становится переворотом в восприятии клиента, и он начинает принимать
данную форму работы с психологом, что само по себе является огромным достижением. И это касается не только взрослых. С детьми необходима такая же позиция. Им так же, как и взрослым, нужно предоставлять выбор: ходить на консультации или нет, решать свою проблему или нет. Психолог-консультант в школе — это не педагог, не воспитатель, не учитель, не родитель и не инспектор из детской комнаты милиции. Для ребенка важно, что психолог демонстрирует совершенно другое отношение — ребенок ничего не должен, а волен сам распоряжаться своей жизнью, что для многих детей уже само по себе является открытием.
Как отмечал К. Роджерс, «терапевтическое взаимодействие само по себе является опытом роста» [70]. И детям нужно время, чтобы попробовать это новое взаимодействие со взрослым человеком на вкус, привыкнуть к нему и прочувствовать все связанные с этим возможности.
Надо отметить, что многие специалисты, в особенности приверженцы личностно-центрированного консультирования, считают, что консультирование и есть особый вид отношений, включающий эмпатическое понимание, уважительное отношение к по
тенциальной возможности клиента самому строить свою жизнь, конгруэнтность (искренность, подлинность) отношений [57]. По сути дела, это и есть позиция, описываемая нами.
Однако в повседневной жизни и в профессиональной деятельности мы часто сталкиваемся с тем, что от психологов ожидают
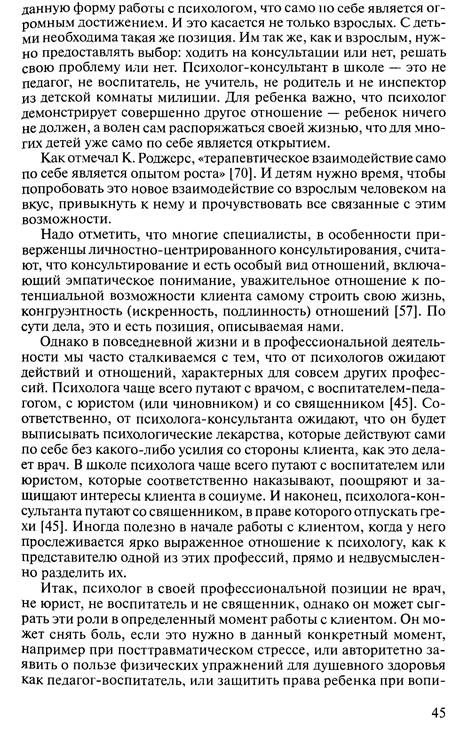 действий и отношений,
характерных для совсем других профессий. Психолога чаще всего путают с врачом,
с воспитателем-педагогом, с юристом (или чиновником) и со священником [45].
Соответственно, от психолога-консультанта ожидают, что он будет выписывать
психологические лекарства, которые действуют сами по себе без какого-либо
усилия со стороны клиента, как это делает врач. В школе психолога чаще всего
путают с воспитателем или юристом, которые соответственно наказывают, поощряют
и защищают интересы клиента в социуме. И наконец, психолога-консультанта путают
со священником, в праве которого отпускать грехи [45]. Иногда полезно в начале
работы с клиентом, когда у него прослеживается ярко выраженное отношение к
психологу, как к представителю одной из этих профессий, прямо и недвусмысленно
разделить их.
действий и отношений,
характерных для совсем других профессий. Психолога чаще всего путают с врачом,
с воспитателем-педагогом, с юристом (или чиновником) и со священником [45].
Соответственно, от психолога-консультанта ожидают, что он будет выписывать
психологические лекарства, которые действуют сами по себе без какого-либо
усилия со стороны клиента, как это делает врач. В школе психолога чаще всего
путают с воспитателем или юристом, которые соответственно наказывают, поощряют
и защищают интересы клиента в социуме. И наконец, психолога-консультанта путают
со священником, в праве которого отпускать грехи [45]. Иногда полезно в начале
работы с клиентом, когда у него прослеживается ярко выраженное отношение к
психологу, как к представителю одной из этих профессий, прямо и недвусмысленно
разделить их.
Итак, психолог в своей профессиональной позиции не врач, не юрист, не воспитатель и не священник, однако он может сыграть эти роли в определенный момент работы с клиентом. Он может снять боль, если это нужно в данный конкретный момент, например при посттравматическом стрессе, или авторитетно за
явить о пользе физических упражнений для душевного здоровья как педагог-воспитатель, или защитить права ребенка при вопиющем случае насилия, или снять вину за несовершенные пре
ступления.
То есть оказать поддержку одним из перечисленных способов. Но это не означает, что психолог решает таким образом проблему клиента, — это лишь временный ход, метод, способ, и не бо
лее того.
Позиция уважения и равенства позволяет использовать больший репертуар ролей. Сюда добавляются детские роли: товарища но играм, Карлсона-который-живет-на-крыше, маленького ребенка. Можно использовать мощнейшие трикстерские роли: плута, мошенника, посредника, хитреца и подстрекателя. Можно выразить
авторитетность в ролях Учителя, Великого ученого, Эксперта, Знающего психолога. Однако, играя роль, мы принимаем на себя ее функции временно, и чем легче мы меняем роль, тем больше способов решения проблемы мы можем предложить клиенту. Клиент в таком случае тоже легко принимает на себя различные роли и быстрее находит для себя тот вариант, который ему подходит.
П р и м е р . На консультацию пришла молодая девушка, которая жаловалась на плохое самочувствие: усталость, отсутствие мотивации к работе, упадок сил, отсутствие всяческих желаний. Беседа первоначально крутилась вокруг двух разнонаправленных желаний девушки: «взять себя в руки» и «ничего не делать». Так как это была первая встреча, психолог еще не знал ни семейных взаимоотношений, ни подробностей жизни и развития этой девушки. В разговоре с консультантом девушка демонстрировала такое же поведение: она то оживленно беседовала и отвечала на вопросы,
то вдруг замыкалась и становилась отстраненно-уставшей. Когда подобное поведение стало прослеживаться явно, психолог обратил на это внимание и сказал, что, похоже, подобный способ поведения вообще характерен для жизни этой девушки. Девушка согласилась с этим утверждением, и консультант вновь спросил ее,
что она хочет получить от работы с психологом и какой бы хотела получить результат.
 Клиентке
было трудно ответить на этот вопрос, так как она еще не решила для себя, нужна
ли ей помощь психолога вообще. Она озвучила свои сомнения таким же
противоречивым образом: с одной стороны, она знает, что помощь ей необходима, и
уверена, что это ей поможет; с другой стороны, по ее мнению, к психологу
обращаются только слабые люди, неспособные самостоятельно справиться со своими
проблемами, т. е. помощь не нужна, поскольку она сама в состоянии с собой
справиться. До сих пор психолог- консультант разговаривал с клиенткой как
внимательный слуша
Клиентке
было трудно ответить на этот вопрос, так как она еще не решила для себя, нужна
ли ей помощь психолога вообще. Она озвучила свои сомнения таким же
противоречивым образом: с одной стороны, она знает, что помощь ей необходима, и
уверена, что это ей поможет; с другой стороны, по ее мнению, к психологу
обращаются только слабые люди, неспособные самостоятельно справиться со своими
проблемами, т. е. помощь не нужна, поскольку она сама в состоянии с собой
справиться. До сих пор психолог- консультант разговаривал с клиенткой как
внимательный слуша
тель и партнер, однако, понимая, что они вновь пошли по кругу противоречий, психолог решил попробовать другие роли для того, чтобы найти доступ к наиболее сильной части клиентки.
Обычно клиент незаметно для себя начинает подыгрывать консультанту, принимая на себя либо схожие роли (например, ребен о к — ребенок), либо роли в противовес (учитель—ученик, хулиган—правильный зануда).
К о н с у л ь т а н т . Скажите, Лиза, а что нужно сделать, чтобы вам стало еще хуже? Я могу вам в этом помочь (роль провокатора).
Л и з а (смеется, но слегка испуганно). Да, я понимаю, мне нужно взять себя в руки.
К о н с у л ь т а н т . Ну зачем же прямо так брать себя в руки, можно подождать, чтобы стало совсем плохо, а потом уже чего-
то начинать делать. Еще не полная безнадежность (роль провокатора).
Л и з а . Я могу, я знаю, что могу. Я занималась йогой, и мне это помогало. Это серьезная вещь, я имею в виду и философию, а не
только упражнения.
К о н с у л ь т а н т . Да, йога это очень полезная и нужная практика, и она часто действительно помогает (роль эксперта).
Л и з а (поскучнев, вяло). Да, конечно, только я не могу себя заставить. Понимаю, что надо, но силы воли, что ли, нет.
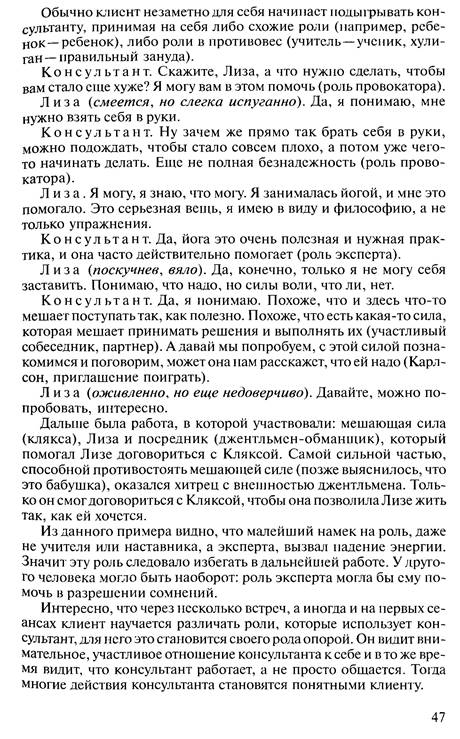 К
о н с у л ь т а н т . Да, я понимаю. Похоже, что и здесь что-то мешает
поступать так, как полезно. Похоже, что есть какая-то сила, которая мешает
принимать решения и выполнять их (участливый собеседник, партнер). А давай мы
попробуем, с этой силой познакомимся и поговорим, может она нам расскажет, что
ей надо (Карлсон, приглашение поиграть).
К
о н с у л ь т а н т . Да, я понимаю. Похоже, что и здесь что-то мешает
поступать так, как полезно. Похоже, что есть какая-то сила, которая мешает
принимать решения и выполнять их (участливый собеседник, партнер). А давай мы
попробуем, с этой силой познакомимся и поговорим, может она нам расскажет, что
ей надо (Карлсон, приглашение поиграть).
Л и з а (оживленно, но еще недоверчиво). Давайте, можно попробовать, интересно.
Дальше была работа, в которой участвовали: мешающая сила (клякса), Лиза и посредник (джентльмен-обманщик), который помогал Лизе договориться с Кляксой. Самой сильной частью,
способной противостоять мешающей силе (позже выяснилось, что это бабушка), оказался хитрец с внешностью джентльмена. Только он смог договориться с Кляксой, чтобы она позволила Лизе жить
так, как ей хочется.
Из данного примера видно, что малейший намек на роль, даже не учителя или наставника, а эксперта, вызвал падение энергии. Значит эту роль следовало избегать в дальнейшей работе. У другого человека могло быть наоборот: роль эксперта могла бы ему помочь в разрешении сомнений.
Интересно, что через несколько встреч, а иногда и на первых сеансах клиент научается различать роли, которые использует консультант, для него это становится своего рода опорой. Он видит внимательное, участливое отношение консультанта к себе и в то же время видит, что консультант работает, а не просто общается. Тогда многие действия консультанта становятся понятными клиенту.
Одна клиентка, научившись распознавать роль маленькой девочки, которую она поначалу играла с психологом, при малейшем намеке на то, что консультант сейчас начнет ей подыгрывать из этой же роли, стала себя останавливать и говорила: «Ой, нет, а то мы сейчас опять начнем разговаривать как маленькие дети». Она сама научилась выводить себя во взрослое состояние. И это было достигнуто во многом благодаря умению консультанта играть различные роли.
Часто психологу-консультанту рекомендуют оставаться нейтральным. Иногда нейтральность понимается как отстраненность,
«непрозрачность», безэмоциональность. Однако, как отмечал Р. Мэй, «ни один терапевт не сможет оставаться нейтральным, у каждого существует своя шкала этических ценностей, и он будет ею пользоваться, если не сознательно, то подсознательно» [55, с. 110]. Под нейтральностью следует понимать объективность, отсутствие предвзятости, преодоление желания влиять на любые решения клиента [36]. Тогда функции, которые выполняет психолог-консультант, ограничиваются поддержкой, сопровождением, «со-проживанием с клиентом куска жизни» [45].
Позиция уважения и равенства также имеет плюсы и минусы. В качестве плюсов можно отметить, что при таком сотрудничестве психолога и клиента возникают особые отношения, которые обогащают консультанта в той же мере, как и клиента. Консультант приобретает бесценный опыт соприкосновения с другой личностью.
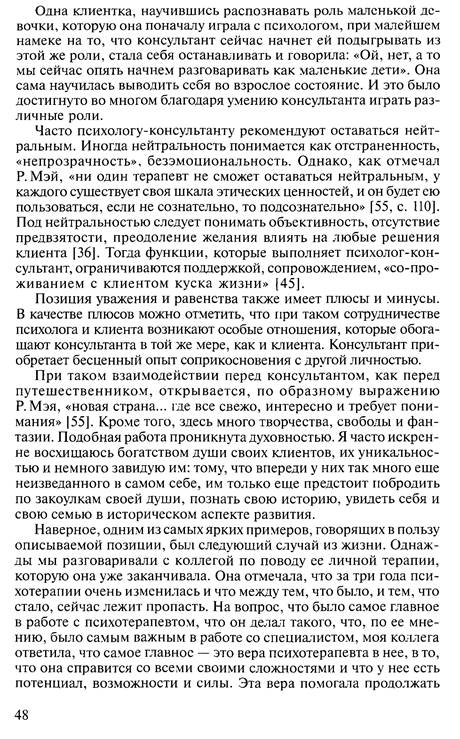 При
таком взаимодействии перед консультантом, как перед путешественником,
открывается, по образному выражению Р. Мэя, «новая страна... где все свежо,
интересно и требует понимания» [55]. Кроме того, здесь много творчества,
свободы и фантазии. Подобная работа проникнута духовностью. Я часто искренне
восхищаюсь богатством души своих клиентов, их уникальностью и немного завидую
им: тому, что впереди у них так много еще неизведанного в самом себе, им только
еще предстоит побродить по закоулкам своей души, познать свою историю, увидеть
себя и свою семью в историческом аспекте развития.
При
таком взаимодействии перед консультантом, как перед путешественником,
открывается, по образному выражению Р. Мэя, «новая страна... где все свежо,
интересно и требует понимания» [55]. Кроме того, здесь много творчества,
свободы и фантазии. Подобная работа проникнута духовностью. Я часто искренне
восхищаюсь богатством души своих клиентов, их уникальностью и немного завидую
им: тому, что впереди у них так много еще неизведанного в самом себе, им только
еще предстоит побродить по закоулкам своей души, познать свою историю, увидеть
себя и свою семью в историческом аспекте развития.
Наверное, одним из самых ярких примеров, говорящих в пользу описываемой позиции, был следующий случай из жизни. Однаж
ды мы разговаривали с коллегой по поводу ее личной терапии, которую она уже заканчивала. Она отмечала, что за три года психотерапии очень изменилась и что между тем, что было, и тем, что стало, сейчас лежит пропасть. На вопрос, что было самое главное в работе с психотерапевтом, что он делал такого, что, по ее мнению, было самым важным в работе со специалистом, моя коллега ответила, что самое главное — это вера психотерапевта в нее, в то, что она справится со всеми своими сложностями и что у нее есть потенциал, возможности и силы. Эта вера помогала продолжать работать и тогда, когда становилось очень тяжело и казалось, что больше не хочется ничего менять.
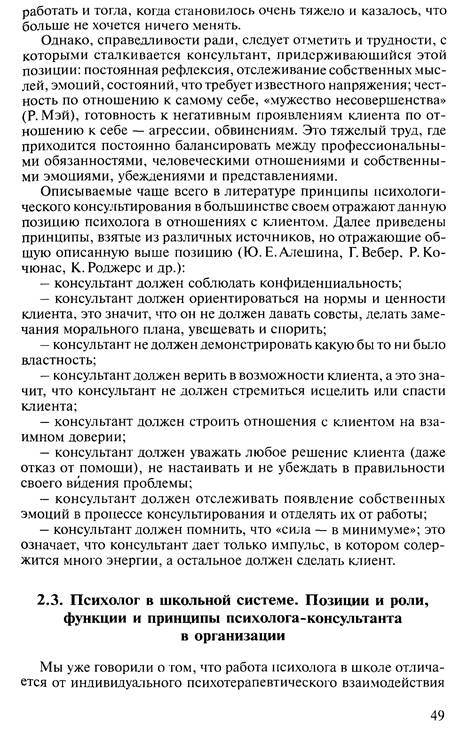 Однако,
справедливости ради, следует отметить и трудности, с которыми сталкивается
консультант, придерживающийся этой позиции: постоянная рефлексия, отслеживание
собственных мыслей, эмоций, состояний, что требует известного напряжения;
честность по отношению к самому себе, «мужество несовершенства» (Р. Мэй),
готовность к негативным проявлениям клиента по отношению к себе — агрессии,
обвинениям. Это тяжелый труд, где приходится постоянно балансировать между
профессиональными обязанностями, человеческими отношениями и собственными
эмоциями, убеждениями и представлениями.
Однако,
справедливости ради, следует отметить и трудности, с которыми сталкивается
консультант, придерживающийся этой позиции: постоянная рефлексия, отслеживание
собственных мыслей, эмоций, состояний, что требует известного напряжения;
честность по отношению к самому себе, «мужество несовершенства» (Р. Мэй),
готовность к негативным проявлениям клиента по отношению к себе — агрессии,
обвинениям. Это тяжелый труд, где приходится постоянно балансировать между
профессиональными обязанностями, человеческими отношениями и собственными
эмоциями, убеждениями и представлениями.
Описываемые чаще всего в литературе принципы психологического консультирования в большинстве своем отражают данную позицию психолога в отношениях с клиентом. Далее приведены принципы, взятые из различных источников, но отражающие общую описанную выше позицию (Ю. Е. Алешина, Г. Вебер, Р. Ко
чюнас, К. Роджерс и др.):
— консультант должен соблюдать конфиденциальность;
— консультант должен ориентироваться на нормы и ценности клиента, это значит, что он не должен давать советы, делать заме
чания морального плана, увещевать и спорить;
— консультант не должен демонстрировать какую бы то ни было властность;
— консультант должен верить в возможности клиента, а это значит, что консультант не должен стремиться исцелить или спасти клиента;
— консультант должен строить отношения с клиентом на взаимном доверии;
— консультант должен уважать любое решение клиента (даже отказ от помощи), не настаивать и не убеждать в правильности своего видения проблемы;
— консультант должен отслеживать появление собственных эмоций в процессе консультирования и отделять их от работы;
— консультант должен помнить, что «сила — в минимуме»; это означает, что консультант дает только импульс, в котором содержится много энергии, а остальное должен сделать клиент.
Мы уже говорили о том, что работа психолога в школе отличается от индивидуального психотерапевтического взаимодействия с клиентом тем, что психолог (психологическая служба) является частью системы — школы, которая, в свою очередь, также является частью другой системы — системы образования, которая также является включенной в другую систему — устройства государства, и т.д. Поэтому, с одной стороны, консультант принадлежит системе и должен соответствовать стандартам, принятым в этой системе, а с другой стороны, он представляет собой отдельный элемент системы, который имеет свои отличительные особенности и не сливается с другими элементами.
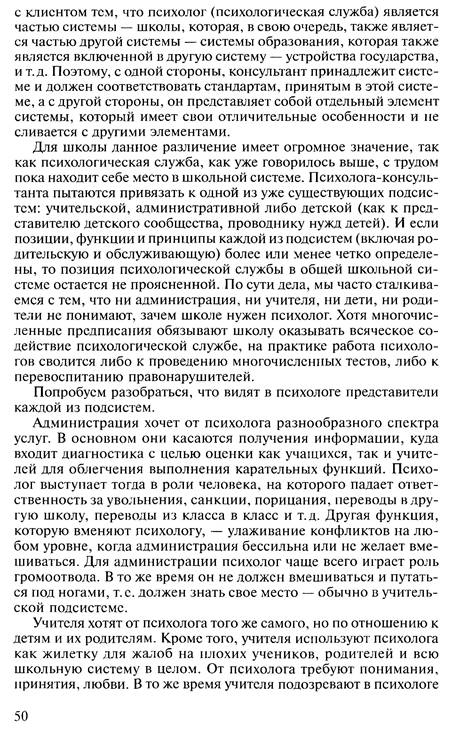 Для
школы данное различение имеет огромное значение, так как психологическая
служба, как уже говорилось выше, с трудом пока находит себе место в школьной
системе. Психолога-консультанта пытаются привязать к одной из уже существующих
подсистем: учительской, административной либо детской (как к представителю
детского сообщества, проводнику нужд детей). И если позиции, функции и принципы
каждой из подсистем (включая родительскую и обслуживающую) более или менее
четко определены, то позиция психологической службы в общей школьной системе
остается не проясненной. По сути дела, мы часто сталкиваемся с тем, что ни
администрация, ни учителя, ни дети, ни родители не понимают, зачем школе нужен
психолог. Хотя многочисленные предписания обязывают школу оказывать всяческое
содействие психологической службе, на практике работа психологов сводится либо
к проведению многочисленных тестов, либо к перевоспитанию правонарушителей.
Для
школы данное различение имеет огромное значение, так как психологическая
служба, как уже говорилось выше, с трудом пока находит себе место в школьной
системе. Психолога-консультанта пытаются привязать к одной из уже существующих
подсистем: учительской, административной либо детской (как к представителю
детского сообщества, проводнику нужд детей). И если позиции, функции и принципы
каждой из подсистем (включая родительскую и обслуживающую) более или менее
четко определены, то позиция психологической службы в общей школьной системе
остается не проясненной. По сути дела, мы часто сталкиваемся с тем, что ни
администрация, ни учителя, ни дети, ни родители не понимают, зачем школе нужен
психолог. Хотя многочисленные предписания обязывают школу оказывать всяческое
содействие психологической службе, на практике работа психологов сводится либо
к проведению многочисленных тестов, либо к перевоспитанию правонарушителей.
Попробуем разобраться, что видят в психологе представители каждой из подсистем.
Администрация хочет от психолога разнообразного спектра услуг. В основном они касаются получения информации, куда входит диагностика с целью оценки как учащихся, так и учителей для облегчения выполнения карательных функций. Психолог выступает тогда в роли человека, на которого падает ответственность за увольнения, санкции, порицания, переводы в другую школу, переводы из класса в класс и т.д. Другая функция, которую вменяют психологу, — улаживание конфликтов на любом уровне, когда администрация бессильна или не желает вмешиваться. Для администрации психолог чаще всего играет роль громоотвода. В то же время он не должен вмешиваться и путаться под ногами, т.е. должен знать свое место — обычно в учительской подсистеме.
Учителя хотят от психолога того же самого, но по отношению к детям и их родителям. Кроме того, учителя используют психолога как жилетку для жалоб на плохих учеников, родителей и всю школьную систему в целом. От психолога требуют понимания, принятия, любви. В то же время учителя подозревают в психологе
шпиона администрации и записывают его в подсистему администрации.
Родители пытаются сориентироваться на месте, и в соответствии с тем, куда они приписывают психолога — к администрации или к учителям, — хотят от психолога соответственно защиты от учителей или воспитательных воздействий на ребенка. Они так
же считают психолога шпионом, который выспрашивает тайны и затем пересказывает всем окружающим.
Обслуживающая система (учебно-вспомогательный персонал), куда входят работники столовой, охранники, уборщицы, начинает относиться к психологу либо как к представителю администрации, и тогда выказывает особое уважение, либо как к учителям, либо как к себе подобным — тогда возможны проблемы с помещением и масса других мелких неприятностей.
Дети ничего не хотят от психолога. Он для них является еще одним представителем клана взрослых, от которых ничего хорошего ждать не приходится.
В описанной выше картине, безусловно, несколько утрированной, отражены основные проблемы, с которыми сталкивается психолог на своем рабочем месте в самом начале своей деятельности. Система, однако, дает некоторое время вновь прибывшему, чтобы посмотреть, куда он направит свои стопы. Это время нужно максимально использовать для того, чтобы выстроить свою позицию и наладить связи с каждой из подсистем.
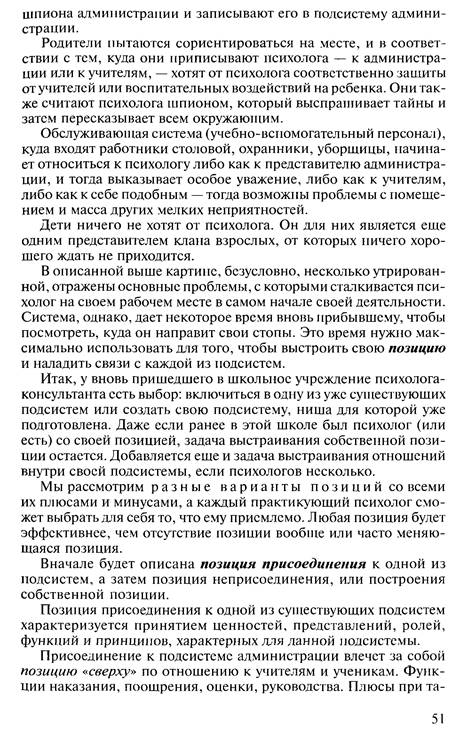 Итак,
у вновь пришедшего в школьное учреждение психолога- консультанта есть выбор:
включиться в одну из уже существующих подсистем или создать свою подсистему,
ниша для которой уже подготовлена. Даже если ранее в этой школе был психолог
(или есть) со своей позицией, задача выстраивания собственной позиции остается.
Добавляется еще и задача выстраивания отношений внутри своей подсистемы, если
психологов несколько.
Итак,
у вновь пришедшего в школьное учреждение психолога- консультанта есть выбор:
включиться в одну из уже существующих подсистем или создать свою подсистему,
ниша для которой уже подготовлена. Даже если ранее в этой школе был психолог
(или есть) со своей позицией, задача выстраивания собственной позиции остается.
Добавляется еще и задача выстраивания отношений внутри своей подсистемы, если
психологов несколько.
Мы рассмотрим р а з н ы е в а р и а н т ы п о з и ц и й со всеми их плюсами и минусами, а каждый практикующий психолог сможет выбрать для себя то, что ему приемлемо. Любая позиция будет эффективнее, чем отсутствие позиции вообще или часто меняющаяся позиция.
Вначале будет описана позиция присоединения к одной из подсистем, а затем позиция неприсоединения, или построения собственной позиции.
Позиция присоединения к одной из существующих подсистем характеризуется принятием ценностей, представлений, ролей, функций и принципов, характерных для данной подсистемы.
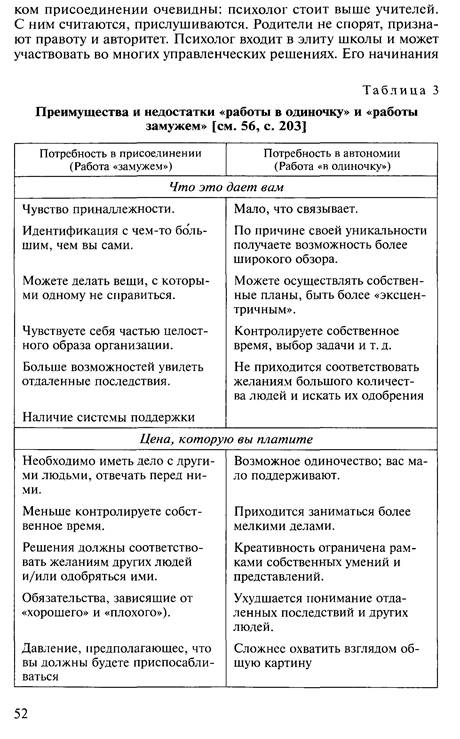 Присоединение
к подсистеме администрации влечет за собой позицию «сверху» по отношению к учителям и ученикам.
Функции наказания, поощрения, оценки, руководства. Плюсы при таком
присоединении очевидны: психолог стоит выше учителей. С ним считаются,
прислушиваются. Родители не спорят, признают правоту и авторитет. Психолог
входит в элиту школы и может участвовать во многих управленческих решениях. Его
начинания
Присоединение
к подсистеме администрации влечет за собой позицию «сверху» по отношению к учителям и ученикам.
Функции наказания, поощрения, оценки, руководства. Плюсы при таком
присоединении очевидны: психолог стоит выше учителей. С ним считаются,
прислушиваются. Родители не спорят, признают правоту и авторитет. Психолог
входит в элиту школы и может участвовать во многих управленческих решениях. Его
начинания
Т а б л и ц а 3
Потребность в присоединении Потребность в автономии
(Работа «замужем») (Работа «в одиночку») Что это дает вам
Чувство принадлежности. Мало, что связывает.
Идентификация с чем-то боль По причине своей уникальности шим, чем вы сами. получаете возможность более
широкого обзора.
Можете делать вещи, с которы Можете осуществлять собственми одному не справиться. ные планы, быть более «эксцентричным».
Чувствуете себя частью целост Контролируете собственное ного образа организации. время, выбор задачи и т. д.
Больше возможностей увидеть Не приходится соответствовать отдаленные последствия. желаниям большого количества людей и искать их одобрения
Наличие системы поддержки
Цена, которую вы платите
Необходимо иметь дело с другими людьми, отвечать перед ними.
Меньше контролируете собственное время.
Решения должны соответствовать желаниям других людей и/или одобряться ими.
Обязательства, зависящие от «хорошего» и «плохого»).
Давление, предполагающее, что вы должны будете приспосабливаться
Возможное одиночество; вас мало поддерживают.
Приходится заниматься более мелкими делами.
Креативность ограничена рамками собственных умений и представлений.
Ухудшается понимание отдаленных последствий и других людей.
Сложнее охватить взглядом общую картину
принимаются более благосклонно, существует вероятность про
движения прогрессивных идей.
Однако и плата за присоединение к административной подсистеме велика: психолог лишается доверия большей части учительского и ученического состава, так как основным условием доверия является сохранение конфиденциальности информации. Даже если психолог на самом деле отказывается предоставлять эту информацию администрации, в то, что он ее не предоставляет, мало кто верит. Его начинают использовать для достижения собствен
ных целей, решения и рекомендации психолога воспринимаются как навязывание роли руководства, его боятся и не любят. Администрация, в свою очередь, далеко не всегда признает психолога за «своего», сваливая на него всю неприятную работу по критике, оценке, увольнению, разрешению конфликтов и т.д. Иногда директор приближает к себе психолога настолько близко, что без психолога не принимает ни одного решения, он первый
друг и советчик, правая рука и помощник. Но тогда это уже не психологическая служба школы, а коучинг — индивидуальное консультирование руководителя.
Если же психолог выбирает присоединение к учительской системе, то он оказывается в центре бурлящей разношерстной команды. Основными функциями являются оценка и наказание, а также борьба за права учителей и зашита от родителей и администрации. Плюсы в такой позиции также очевидны: психолог всегда в центре событий, он знает все обо всех, ему чаше всего доверяют, иногда даже любят, он не одинок, у него есть друзья. С ним охотнее идут на контакт, более благосклонно прислушиваясь к его
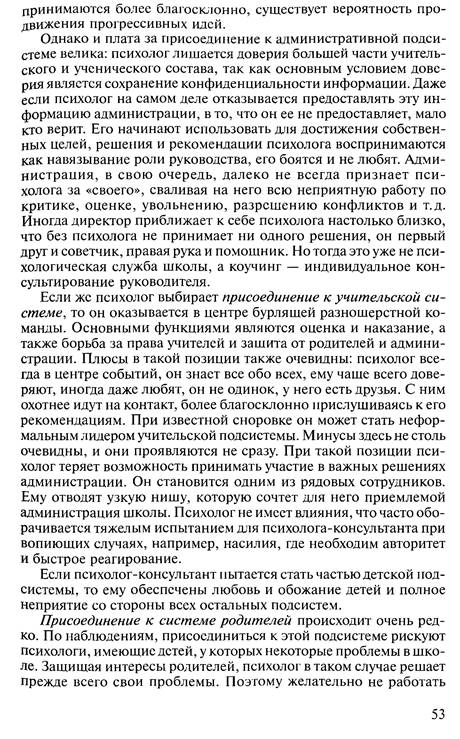 рекомендациям. При известной
сноровке он может стать неформальным лидером учительской подсистемы. Минусы
здесь не столь очевидны, и они проявляются не сразу. При такой позиции психолог
теряет возможность принимать участие в важных решениях администрации. Он
становится одним из рядовых сотрудников. Ему отводят узкую нишу, которую сочтет
для него приемлемой администрация школы. Психолог не имеет влияния, что часто
оборачивается тяжелым испытанием для психолога-консультанта при вопиющих
случаях, например, насилия, где необходим авторитет и быстрое реагирование.
рекомендациям. При известной
сноровке он может стать неформальным лидером учительской подсистемы. Минусы
здесь не столь очевидны, и они проявляются не сразу. При такой позиции психолог
теряет возможность принимать участие в важных решениях администрации. Он
становится одним из рядовых сотрудников. Ему отводят узкую нишу, которую сочтет
для него приемлемой администрация школы. Психолог не имеет влияния, что часто
оборачивается тяжелым испытанием для психолога-консультанта при вопиющих
случаях, например, насилия, где необходим авторитет и быстрое реагирование.
Если психолог-консультант пытается стать частью детской подсистемы, то ему обеспечены любовь и обожание детей и полное неприятие со стороны всех остальных подсистем.
Присоединение к системе родителей происходит очень редко. По наблюдениям, присоединиться к этой подсистеме рискуют психологи, имеющие детей, у которых некоторые проблемы в шко
ле. Защищая интересы родителей, психолог в таком случае решает прежде всего свои проблемы. Поэтому желательно не работать психологом в той школе, в которой учится твой собственный ребенок.
Описанные выше позиции можно объединить под общим названием Работа «замужем», по образному выражению Э. Невиса, организационного консультанта, работающего в парадигме гештальт-подхода [56]. Работа «замужем» означает в нашем случае работу в тесном союзе с одной из подсистем. Психолог становится членом этой подсистемы. У него могут быть несколько иные функции, но между ним и членами данной подсистемы нет границ, они находятся в одном рабочем и межличностном поле.
В противовес работы «замужем» существует Работа «в одиночку», которая в организационном консультировании означает работу консультанта по приглашению, когда он не находится в штате компании. В нашем случае — это обособление психолога-консультанта от других подсистем — он никому не принадлежит, является сторонним наблюдателем, не имеет эмоциональных связей внутри системы. Каждая из позиций имеет свои серьезные преимущества и недостатки (см. табл. 3).
Хотелось бы обратить внимание на два основных момента, отраженных в таблице.
Первый момент касается возможности ориентироваться в процессах и явлениях, происходящих в организации, а второй — взаимоотношений с людьми.
П е р в ы й м о м е н т — находясь внутри какой-либо подсистемы, психолог всегда видит происходящее под одним и тем же углом зрения, поэтому он не может охватить всю картину целиком во всех взаимосвязях и переплетениях. Вид «сверху», т.е. отстраненно-объективный, может дать только работа «в одиночку». В то
же время, общую картину в этом случае охватить сложнее, поскольку выводы приходится делать самому, опираясь только на свои собственные наблюдения и размышления. То же самое касается отдаленных последствий. Если психолог принадлежит к какому-то сообществу в организации, то он знает все подводные камни, которые могут повлиять на данную подсистему. Поэтому он может с очень большой точностью прогнозировать последствия предпринимаемых шагов. Работа «в одиночку» такой возможности не дает.
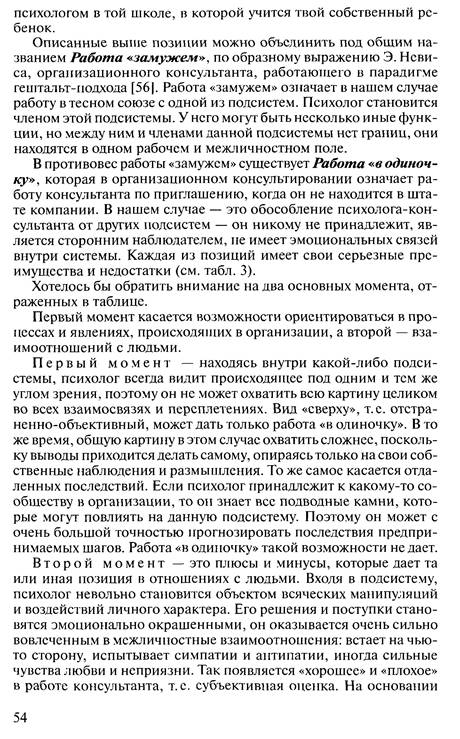 В
т о р о й м о м е н т — это плюсы и минусы, которые дает та или иная позиция в
отношениях с людьми. Входя в подсистему, психолог невольно становится объектом
всяческих манипуляций и воздействий личного характера. Его решения и поступки
становятся эмоционально окрашенными, он оказывается очень сильно вовлеченным в
межличностные взаимоотношения: встает на чью- то сторону, испытывает симпатии и
антипатии, иногда сильные чувства любви и неприязни. Так появляется «хорошее» и
«плохое» в работе консультанта, т.е. субъективная оценка. На основании этого он
кому-то начинает оказывать поддержку, а кому-то в ней отказывает. Другими
словами, он н е о б ъ е к т и в е н , что лишает его возможности выполнять
полностью свои профессиональные обязанности. «Одинокий волк», наоборот,
сталкивается с изоляцией и холодностью окружающих его людей. Вплоть до того,
что ему не с кем бывает просто поговорить. Тяжелое испытание для
профессионалов, чья жизнь связана с общением. Ему приходится буквально
вытаскивать людей на контакт.
В
т о р о й м о м е н т — это плюсы и минусы, которые дает та или иная позиция в
отношениях с людьми. Входя в подсистему, психолог невольно становится объектом
всяческих манипуляций и воздействий личного характера. Его решения и поступки
становятся эмоционально окрашенными, он оказывается очень сильно вовлеченным в
межличностные взаимоотношения: встает на чью- то сторону, испытывает симпатии и
антипатии, иногда сильные чувства любви и неприязни. Так появляется «хорошее» и
«плохое» в работе консультанта, т.е. субъективная оценка. На основании этого он
кому-то начинает оказывать поддержку, а кому-то в ней отказывает. Другими
словами, он н е о б ъ е к т и в е н , что лишает его возможности выполнять
полностью свои профессиональные обязанности. «Одинокий волк», наоборот,
сталкивается с изоляцией и холодностью окружающих его людей. Вплоть до того,
что ему не с кем бывает просто поговорить. Тяжелое испытание для
профессионалов, чья жизнь связана с общением. Ему приходится буквально
вытаскивать людей на контакт.
Э. Невис отмечает, что достоинства и преимущества каждой из позиций не сразу выступают столь явно, как это описано. Иногда проходит много времени, прежде чем эти особенности начинают проявляться в их яркой полярности [56]. Выгоды и издержки осознаются лишь постепенно, что может привести к разочарованиям и поспешной смене позиции.
В основе выбора каждой из позиций лежат базовые потребности в аффиляции и автономии, поэтому такой казалось бы простой выход, как выдерживание некой средней позиции, оказывается на практике трудновыполнимым. Любая потребность требует своего полного удовлетворения, однако работа «на границе» [56] никогда не допускает их удовлетворения в полной мере. Человек, пришедший на новое место, выбирает для себя позицию, наибо
лее отвечающую его потребности на данный момент жизни либо в принадлежности, либо в автономии. Поскольку работа «на границе» характеризуется состоянием нестабильности, неопределенности, напряжения и тревоги, консультанту, находящемуся на такой позиции, почти всегда приходится действовать в стрессовой ситуации, под угрозой конфликта.
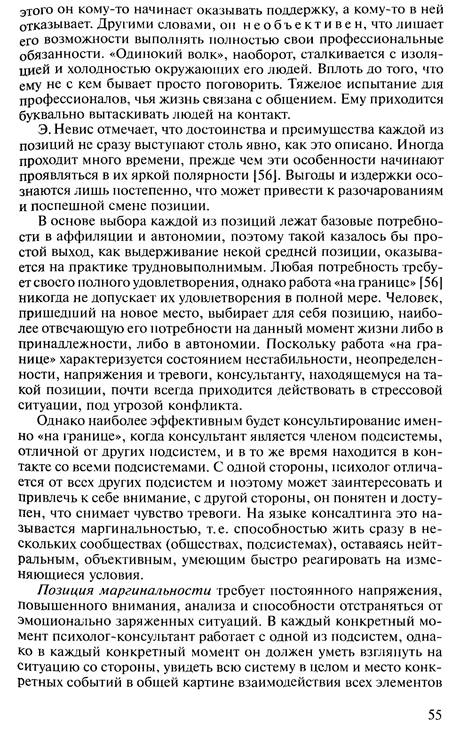 Однако
наиболее эффективным будет консультирование именно «на границе», когда
консультант является членом подсистемы, отличной от других подсистем, и в то же
время находится в контакте со всеми подсистемами. С одной стороны, психолог
отличается от всех других подсистем и поэтому может заинтересовать и привлечь к
себе внимание, с другой стороны, он понятен и доступен, что снимает чувство
тревоги. На языке консалтинга это называется маргинальностью, т.е. способностью
жить сразу в нескольких сообществах (обществах, подсистемах), оставаясь
нейтральным, объективным, умеющим быстро реагировать на изменяющиеся условия.
Однако
наиболее эффективным будет консультирование именно «на границе», когда
консультант является членом подсистемы, отличной от других подсистем, и в то же
время находится в контакте со всеми подсистемами. С одной стороны, психолог
отличается от всех других подсистем и поэтому может заинтересовать и привлечь к
себе внимание, с другой стороны, он понятен и доступен, что снимает чувство
тревоги. На языке консалтинга это называется маргинальностью, т.е. способностью
жить сразу в нескольких сообществах (обществах, подсистемах), оставаясь
нейтральным, объективным, умеющим быстро реагировать на изменяющиеся условия.
Позиция маргинальности требует постоянного напряжения, повышенного внимания, анализа и способности отстраняться от эмоционально заряженных ситуаций. В каждый конкретный момент психолог-консультант работает с одной из подсистем, однако в каждый конкретный момент он должен уметь взглянуть на
ситуацию со стороны, увидеть всю систему в целом и место конкретных событий в общей картине взаимодействия всех элементов системы. Хорошим решением удовлетворения потребности в аффиляции является сотрудничество с коллегами, т.е. ощущение принадлежности к системе практических психологов, к подсистеме школьных психологов или сообществу психологов округа.
Встречи, обсуждения, семинары, дополнительное обучение, круглые столы, конференции — все это позволяет почувствовать свою включенность в общую систему и снимает ощущение одиночества и изолированности.
Основная функция, которую выполняет психолог-консультант, придерживающийся нейтральной позиции, — преодоление разрыва между различными подсистемами: учителями и учениками, учителями и родителями, администрацией и учителями, детьми и администрацией и т.д. Другая важнейшая функция — по мере всех сил и возможностей обеспечивать эффективное функционирование всей системы в целом.
Ролевой репертуар психолога как организационного консультанта не столь широк. Здесь неуместны такие, например, роли, как Учитель, Наставник, дитя или Карлсон. То есть те роли, которые связаны с родительскими или детскими фигурами. Ролевой репертуар ограничивается состоянием «взрослый», если говорить в терминах трансакционного анализа. Здесь могут быть такие роли, как эксперт, партнер, слушатель, фасилитатор, юрист, педагог и т.д.
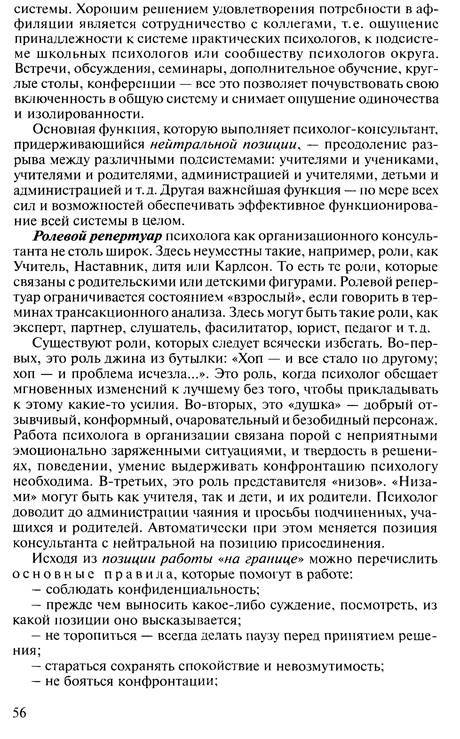 Существуют
роли, которых следует всячески избегать. Во-первых, это роль джина из бутылки:
«Хоп — и все стало по другому; хоп — и проблема исчезла...». Это роль, когда
психолог обещает мгновенных изменений к лучшему без того, чтобы прикладывать к
этому какие-то усилия. Во-вторых, это «душка» — добрый отзывчивый, конформный,
очаровательный и безобидный персонаж. Работа психолога в организации связана
порой с неприятными эмоционально заряженными ситуациями, и твердость в
решениях, поведении, умение выдерживать конфронтацию психологу необходима.
В-третьих, это роль представителя «низов». «Низами» могут быть как учителя, так
и дети, и их родители. Психолог
Существуют
роли, которых следует всячески избегать. Во-первых, это роль джина из бутылки:
«Хоп — и все стало по другому; хоп — и проблема исчезла...». Это роль, когда
психолог обещает мгновенных изменений к лучшему без того, чтобы прикладывать к
этому какие-то усилия. Во-вторых, это «душка» — добрый отзывчивый, конформный,
очаровательный и безобидный персонаж. Работа психолога в организации связана
порой с неприятными эмоционально заряженными ситуациями, и твердость в
решениях, поведении, умение выдерживать конфронтацию психологу необходима.
В-третьих, это роль представителя «низов». «Низами» могут быть как учителя, так
и дети, и их родители. Психолог
доводит до администрации чаяния и просьбы подчиненных, учащихся и родителей. Автоматически при этом меняется позиция консультанта с нейтральной на позицию присоединения.
Исходя из позиции работы «на границе» можно перечислить о с н о в н ы е п р а в и л а , которые помогут в работе:
— соблюдать конфиденциальность;
— прежде чем выносить какое-либо суждение, посмотреть, из какой позиции оно высказывается;
— не торопиться — всегда делать паузу перед принятием решения;
— стараться сохранять спокойствие и невозмутимость;
— не бояться конфронтации;
— не бояться испортить отношения;
— всегда высказывать свою точку зрения прямо и четко, не оставляя возможности интерпретировать слова двояко;
— не бояться ошибок: только тот, кто ничего не делает, не ошибается.
Обратим особое внимание на те шаги, которые следует предпринять в самом начале работы в новом учреждении.
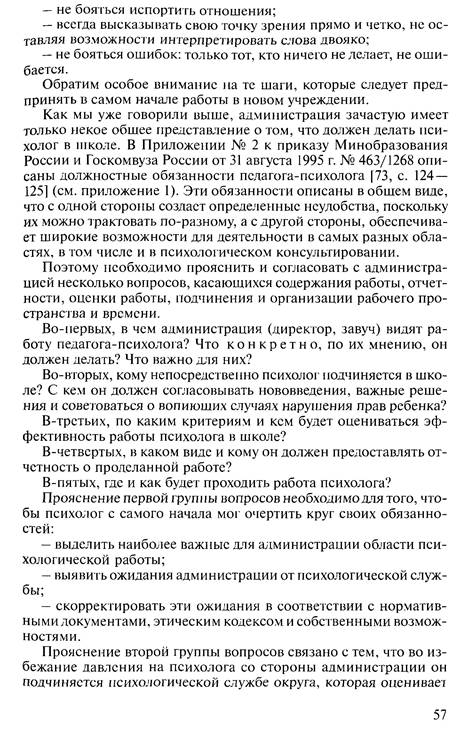 Как
мы уже говорили выше, администрация зачастую имеет только некое общее
представление о том, что должен делать психолог в школе. В Приложении № 2 к
приказу Минобразования России и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. №
463/1268 описаны должностные обязанности педагога-психолога [73, с. 124 — 125]
(см. приложение 1). Эти обязанности описаны в общем виде, что с одной стороны
создает определенные неудобства, поскольку их можно трактовать по-разному, а с
другой стороны, обеспечивает широкие возможности для деятельности в самых
разных областях, в том числе и в психологическом консультировании.
Как
мы уже говорили выше, администрация зачастую имеет только некое общее
представление о том, что должен делать психолог в школе. В Приложении № 2 к
приказу Минобразования России и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. №
463/1268 описаны должностные обязанности педагога-психолога [73, с. 124 — 125]
(см. приложение 1). Эти обязанности описаны в общем виде, что с одной стороны
создает определенные неудобства, поскольку их можно трактовать по-разному, а с
другой стороны, обеспечивает широкие возможности для деятельности в самых
разных областях, в том числе и в психологическом консультировании.
Поэтому необходимо прояснить и согласовать с администрацией несколько вопросов, касающихся содержания работы, отчетности, оценки работы, подчинения и организации рабочего пространства и времени.
Во-первых, в чем администрация (директор, завуч) видят работу педагога-психолога? Что к о н к р е т н о , по их мнению, он
должен делать? Что важно для них?
Во-вторых, кому непосредственно психолог подчиняется в школе? С кем он должен согласовывать нововведения, важные решения и советоваться о вопиющих случаях нарушения прав ребенка?
В-третьих, по каким критериям и кем будет оцениваться эффективность работы психолога в школе?
В-четвертых, в каком виде и кому он должен предоставлять отчетность о проделанной работе?
В-пятых, где и как будет проходить работа психолога?
Прояснение первой группы вопросов необходимо для того, чтобы психолог с самого начала мог очертить круг своих обязанностей:
— выделить наиболее важные для администрации области психологической работы;
— выявить ожидания администрации от психологической службы;
— скорректировать эти ожидания в соответствии с нормативными документами, этическим кодексом и собственными возможностями.
Прояснение второй группы вопросов связано с тем, что во избежание давления на психолога со стороны администрации он подчиняется психологической службе округа, которая оценивает работу психолога. Тем не менее администрация школы обеспечивает руководство всеми членами учреждения, поэтому в школе
должен быть человек, которому психолог непосредственно подчиняется. Такое двойное подчинение, с одной стороны, удобно, поскольку позволяет действовать более свободно, а с другой —
требования к психологу могут быть разнонаправленными.
Прояснение вопроса, кому непосредственно в школе будет подчинен психолог, позволяет одновременно согласовать и вопрос о том, в чем это подчинение будет состоять. Это позволит в дальнейшем избежать неприятных ситуаций, связанных с тем, что каж
дый член администрации будет предъявлять свои требования к работе психолога и оставаться неудовлетворенным результатами его работы. Кроме того, некоторые ситуации требуют вмешательства администрации. Не чувствуя себя ответственным за принятие решения, каждый член администрации, включая директора, будет стараться переложить ответственность на другого. Необхо
димо помнить, что начальником должен быть один конкретный человек. И еще один момент следует иметь в виду: далеко не всегда
реальной властью в школе обладает директор, иногда этой фигурой оказывается завуч.
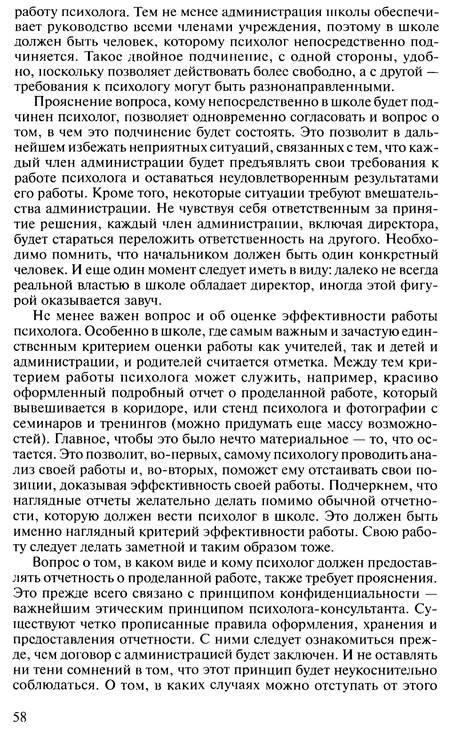 Не
менее важен вопрос и об оценке эффективности работы психолога. Особенно в
школе, где самым важным и зачастую единственным критерием оценки работы как
учителей, так и детей и администрации, и родителей считается отметка. Между тем
критерием работы психолога может служить, например, красиво оформленный
подробный отчет о проделанной работе, который вывешивается в коридоре, или
стенд психолога и фотографии с семинаров и тренингов (можно придумать еще массу
возможностей). Главное, чтобы это было нечто материальное — то, что остается.
Это позволит, во-первых, самому психологу проводить анализ своей работы и,
во-вторых, поможет ему отстаивать свои позиции, доказывая эффективность своей
работы. Подчеркнем, что наглядные отчеты желательно делать помимо обычной отчетности,
которую должен вести психолог в школе. Это должен быть именно наглядный
критерий эффективности работы. Свою рабо
Не
менее важен вопрос и об оценке эффективности работы психолога. Особенно в
школе, где самым важным и зачастую единственным критерием оценки работы как
учителей, так и детей и администрации, и родителей считается отметка. Между тем
критерием работы психолога может служить, например, красиво оформленный
подробный отчет о проделанной работе, который вывешивается в коридоре, или
стенд психолога и фотографии с семинаров и тренингов (можно придумать еще массу
возможностей). Главное, чтобы это было нечто материальное — то, что остается.
Это позволит, во-первых, самому психологу проводить анализ своей работы и,
во-вторых, поможет ему отстаивать свои позиции, доказывая эффективность своей
работы. Подчеркнем, что наглядные отчеты желательно делать помимо обычной отчетности,
которую должен вести психолог в школе. Это должен быть именно наглядный
критерий эффективности работы. Свою рабо
ту следует делать заметной и таким образом тоже.
Вопрос о том, в каком виде и кому психолог должен предоставлять отчетность о проделанной работе, также требует прояснения. Это прежде всего связано с принципом конфиденциальности — важнейшим этическим принципом психолога-консультанта. Существуют четко прописанные правила оформления, хранения и предоставления отчетности. С ними следует ознакомиться преж
де, чем договор с администрацией будет заключен. И не оставлять ни тени сомнений в том, что этот принцип будет неукоснительно соблюдаться. О том, в каких случаях можно отступать от этого принципа, и о сложностях, связанных с его соблюдением, мы поговорим особо, когда будем более подробно рассматривать этические принципы в работе психолога образовательного учреждения.
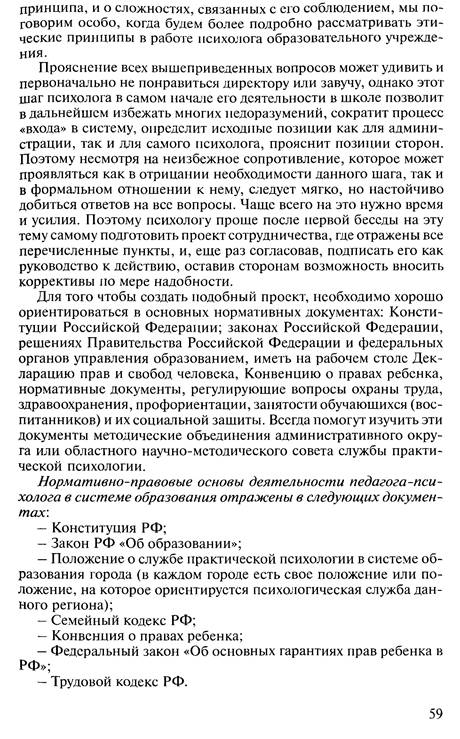 Прояснение
всех вышеприведенных вопросов может удивить и первоначально не понравиться
директору или завучу, однако этот шаг психолога в самом начале его деятельности
в школе позволит в дальнейшем избежать многих недоразумений, сократит процесс
«входа» в систему, определит исходные позиции как для администрации, так и для
самого психолога, прояснит позиции сторон. Поэтому несмотря на неизбежное
сопротивление, которое может проявляться как в отрицании необходимости данного
шага, так и в формальном отношении к нему, следует мягко, но настойчиво
Прояснение
всех вышеприведенных вопросов может удивить и первоначально не понравиться
директору или завучу, однако этот шаг психолога в самом начале его деятельности
в школе позволит в дальнейшем избежать многих недоразумений, сократит процесс
«входа» в систему, определит исходные позиции как для администрации, так и для
самого психолога, прояснит позиции сторон. Поэтому несмотря на неизбежное
сопротивление, которое может проявляться как в отрицании необходимости данного
шага, так и в формальном отношении к нему, следует мягко, но настойчиво
добиться ответов на все вопросы. Чаще всего на это нужно время и усилия. Поэтому психологу проще после первой беседы на эту тему самому подготовить проект сотрудничества, где отражены все перечисленные пункты, и, еще раз согласовав, подписать его как руководство к действию, оставив сторонам возможность вносить коррективы но мере надобности.
Для того чтобы создать подобный проект, необходимо хорошо ориентироваться в основных нормативных документах: Конституции Российской Федерации; законах Российской Федерации, решениях Правительства Российской Федерации и федеральных органов управления образованием, иметь на рабочем столе Декларацию прав и свобод человека, Конвенцию о правах ребенка, нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,
здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной зашиты. Всегда помогут изучить эти
документы методические объединения административного округа или областного научно-методического совета службы практи
ческой психологии.
Нормативно-правовые основы деятельности педагога-психолога в системе образования отражены в следующих докумен
тах:
— Конституция РФ;
— Закон РФ «Об образовании»;
— Положение о службе практической психологии в системе образования города (в каждом городе есть свое положение или положение, на которое ориентируется психологическая служба дан
ного региона);
— Семейный кодекс РФ;
— Конвенция о правах ребенка;
— Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ»;
— Трудовой кодекс РФ.
Правовые и этические вопросы деятельности педагога-психолога образования регламентированы документами:
— Профессиональные стандарты деятельности педагога-психолога;
— Аттестация педагога-психолога;
— Этический кодекс педагога-психолога образования;
— Формы учета деятельности и отчетности педагога-психолога образовательного учреждения.
Вопросы, касающиеся позиций, ролей, функций психолога в школе и принципов психологического консультирования, тесно связаны с наисложнейшей задачей психолога — соблюдением этических норм.
В философском словаре этика определяется как «философская наука, объектом изучения которой является мораль» [85, с. 504]. Этика формулирует идеи о должном, т. е. о том, что человеку нужно делать в соответствии с представлениями об идеалах, добре и
зле, моральных принципах.
В этом и заключается основное противоречие: должное противостоит действительности. Никакие универсальные моральные принципы не могут разрешить дилемму выбора в человеческих отношениях и дилемму собственного выбора человека в сложных и неоднозначных ситуациях. Иногда на помощь приходит закон. Так появляются различные кодексы, своды правил, которыми следует руководствоваться в ситуациях этического и правового выбора.
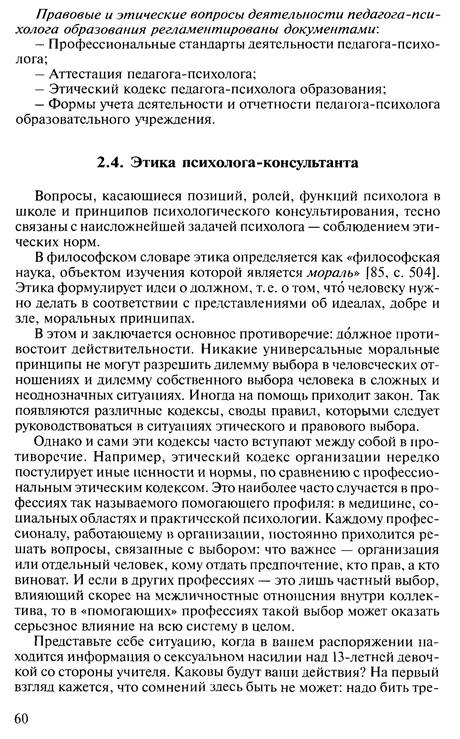 Однако
и сами эти кодексы часто вступают между собой в противоречие. Например,
этический кодекс организации нередко постулирует иные ценности и нормы, по
сравнению с профессиональным этическим кодексом. Это наиболее часто случается в
профессиях так называемого помогающего профиля: в медицине, социальных областях
и практической психологии. Каждому профессионалу, работающему в организации,
постоянно приходится решать вопросы, связанные с выбором: что важнее —
организация или отдельный человек, кому отдать предпочтение, кто прав, а кто виноват.
И если в других профессиях — это лишь частный выбор, влияющий скорее на
межличностные отношения внутри коллектива, то в «помогающих» профессиях такой
выбор может оказать серьезное влияние на всю систему в целом.
Однако
и сами эти кодексы часто вступают между собой в противоречие. Например,
этический кодекс организации нередко постулирует иные ценности и нормы, по
сравнению с профессиональным этическим кодексом. Это наиболее часто случается в
профессиях так называемого помогающего профиля: в медицине, социальных областях
и практической психологии. Каждому профессионалу, работающему в организации,
постоянно приходится решать вопросы, связанные с выбором: что важнее —
организация или отдельный человек, кому отдать предпочтение, кто прав, а кто виноват.
И если в других профессиях — это лишь частный выбор, влияющий скорее на
межличностные отношения внутри коллектива, то в «помогающих» профессиях такой
выбор может оказать серьезное влияние на всю систему в целом.
Представьте себе ситуацию, когда в вашем распоряжении находится информация о сексуальном насилии над 13-летней девочкой со стороны учителя. Каковы будут ваши действия? На первый взгляд кажется, что сомнений здесь быть не может: надо бить тревогу и срочно удалять этого учителя из общеобразовательного уч
реждения. Однако представьте себе следующие сопутствующие обстоятельства:
1) школа находится в маленьком городке, где все друг друга знают. Информация сразу же станет известной каждому в городке. Девочка будет покрыта несмываемым позором, в дальнейшем ей трудно будет выйти замуж, ее личное благополучие окажется под угрозой;
2) у девочки очень жесткий отец, который ее изобьет до полусмерти и отправит к дальней родственнице в Караганду на исправительные работы, и будущее этой девочки окажется под вопросом;
3) директор школы на ваше заявление о сексуальном насилии со стороны учителя говорит, что девочка сама виновата, что она носит короткие юбки и заигрывает со старшеклассниками, что ее давно надо было убрать из школы и что она возводит поклеп на кристально чистого человека. После этого начинается травля девочки, о ней
распускают слухи, и ее с позором изгоняют из школы;
4) эта девочка влюблена в учителя, поджидает его после школы, пишет записки. Есть ли уверенность в том, что информация о насилии правда? И не окажется ли поломанной судьба учителя в случае, если информация окажется ложной?
Что вы предпочтете делать в каждом из этих вариантов?
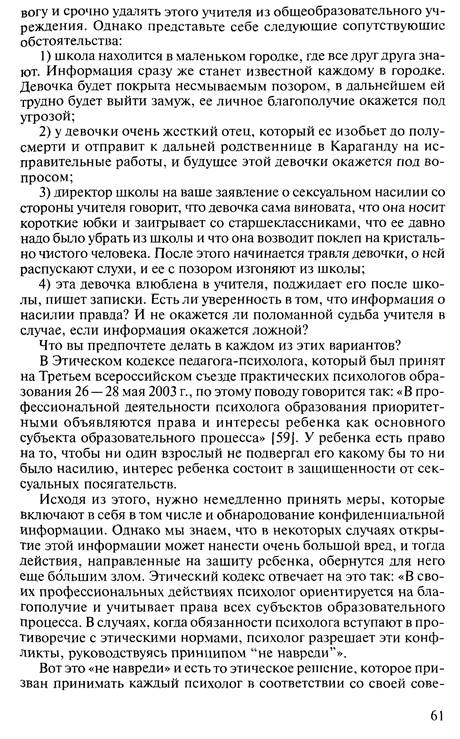 В
Этическом кодексе педагога-психолога, который был принят на Третьем
всероссийском съезде практических психологов образования 26 — 28 мая 2003 г.,
по этому поводу говорится так: «В профессиональной деятельности психолога
образования приоритетными объявляются права и интересы ребенка как основного
субъекта образовательного процесса» [59]. У ребенка есть право на то, чтобы ни один
взрослый не подвергал его какому бы то ни было насилию, интерес ребенка состоит
в защищенности от сексуальных посягательств.
В
Этическом кодексе педагога-психолога, который был принят на Третьем
всероссийском съезде практических психологов образования 26 — 28 мая 2003 г.,
по этому поводу говорится так: «В профессиональной деятельности психолога
образования приоритетными объявляются права и интересы ребенка как основного
субъекта образовательного процесса» [59]. У ребенка есть право на то, чтобы ни один
взрослый не подвергал его какому бы то ни было насилию, интерес ребенка состоит
в защищенности от сексуальных посягательств.
Исходя из этого, нужно немедленно принять меры, которые включают в себя в том числе и обнародование конфиденциальной информации. Однако мы знаем, что в некоторых случаях открытие этой информации может нанести очень большой вред, и тогда действия, направленные на защиту ребенка, обернутся для него еще большим злом. Этический кодекс отвечает на это так: «В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного
процесса. В случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом “не навреди”».
Вот это «не навреди» и есть то этическое решение, которое призван принимать каждый психолог в соответствии со своей совестью, моралью, принципами, знаниями, опытом и страхами. В ситуации выбора каждый остается наедине с самим собой.
Практически все психологи, освещающие вопросы этики, в своих книгах и учебниках отмечают, что вопросы этики неоднозначны и сложны на практике.
Р. Джордж и Т. Кристиани [21, с. 357 — 358] сформулировали ос
новные о б ъ е к т и в н ы е п р и ч и н ы и субъективные факторы, влияющие на соблюдение этических норм в соответствии с прописанными в кодексе правилами:
1) нет четкого, единого этического кодекса, который обеспечивал бы адекватные руководящие принципы этического поведения в самом широком диапазоне ситуаций, с которыми специалисты сталкиваются в отношениях консультирования;
2) большинство профессионалов в области консультирования работают в контексте учреждений, таких как школы, колледжи, больницы и т.д., чьи системы ценностей могут весьма отличаться от ценностей консультирования;
3) консультанты могут столкнуться с ситуациями, где их этические обязательства накладываются друг на друга или конфликтуют. Консультант обычно работает одновременно с несколькими
людьми, включенными в собственные близкие межличностные отношения;
4) собственные установки, ценности и убеждения психолога, которые определяют субъективную оценку ситуации в целом (Уол
лес, Холл, 2003) — тяжести проступка, симпатии или антипатии
по отношению к пострадавшему, расстановку акцентов, опреде
ление доли вины каждого из действующих лиц;
5) собственный жизненный опыт психолога, который влияет на прогнозирование последствий этического выбора — в зависимости о того, как в личной жизни разрешилась аналогичная
проблема, психолог может склоняться к тому или иному решению;
6)
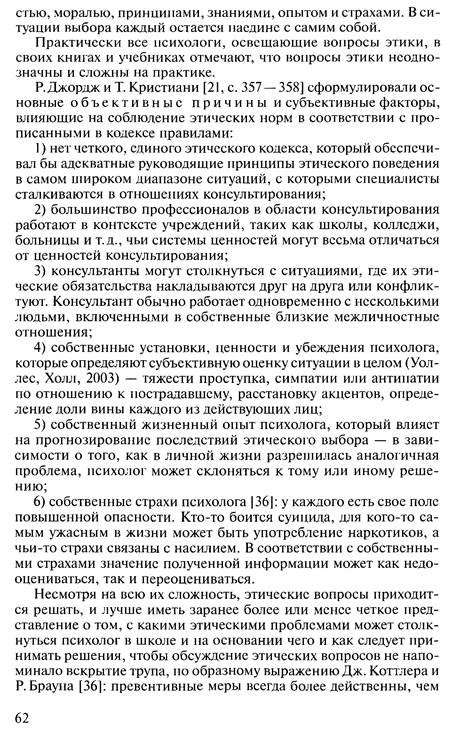 собственные
страхи психолога [36]: у каждого есть свое поле повышенной опасности. Кто-то
боится суицида, для кого-то самым ужасным в жизни может быть употребление
наркотиков, а чьи-то страхи связаны с насилием. В соответствии с собственными
страхами значение полученной информации может как недооцениваться, так и
переоцениваться.
собственные
страхи психолога [36]: у каждого есть свое поле повышенной опасности. Кто-то
боится суицида, для кого-то самым ужасным в жизни может быть употребление
наркотиков, а чьи-то страхи связаны с насилием. В соответствии с собственными
страхами значение полученной информации может как недооцениваться, так и
переоцениваться.
Несмотря на всю их сложность, этические вопросы приходится решать, и лучше иметь заранее более или менее четкое представление о том, с какими этическими проблемами может столкнуться психолог в школе и на основании чего и как следует принимать решения, чтобы обсуждение этических вопросов не напоминало вскрытие трупа, по образному выражению Дж. Коттлера и
Р. Брауна [36]: превентивные меры всегда более действенны, чем обсуждение вопросов о том, что и как следовало бы сделать уже после того, как решение было принято и приведено в действие.
В этическом кодексе педагога-психолога перечислены о с н о в н ы е э т и ч е с к и е п р и н ц и п ы д е я т е л ь н о с т и п с и х о лога:
1) конфиденциальности;
2) компетентности;
3) ответственности;
4) этической и юридической правомочности;
5) квалифицированной пропаганды психологии;
6) благополучия клиента;
7) профессиональной кооперации;
8) информирования клиента о целях и результатах обследования.
Принцип конфиденциальности недаром стоит на первом месте. Он наиболее сложен и противоречив в соблюдении и на практике. В этическом кодексе выделено семь пунктов, пять из которых освещают вопрос передачи информации третьим лицам, а два касаются добровольности и согласия клиентов на работу с ними в том или ином виде.
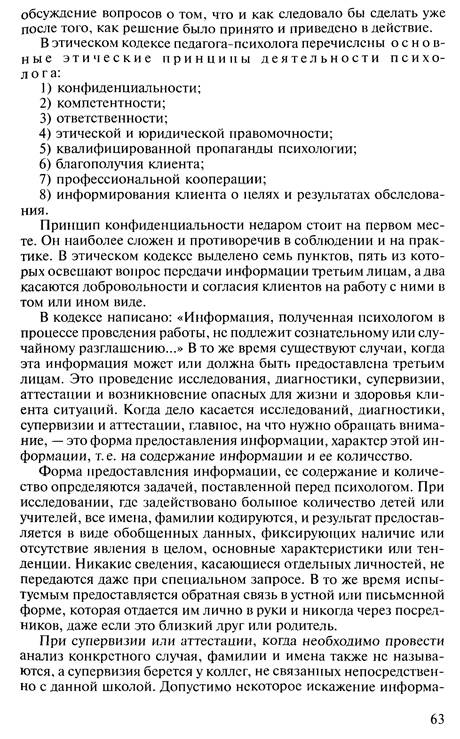 В
кодексе написано: «Информация, полученная психологом в процессе проведения
работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению...» В то же время
существуют случаи, когда эта информация может или должна быть предоставлена
третьим лицам. Это проведение исследования, диагностики, супервизии, аттестации
и возникновение опасных для жизни и здоровья клиента ситуаций. Когда дело
касается исследований, диагностики, супервизии и аттестации, главное, на что
нужно обращать внимание, — это форма предоставления информации, характер этой
информации, т. е. на содержание информации и ее количество.
В
кодексе написано: «Информация, полученная психологом в процессе проведения
работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению...» В то же время
существуют случаи, когда эта информация может или должна быть предоставлена
третьим лицам. Это проведение исследования, диагностики, супервизии, аттестации
и возникновение опасных для жизни и здоровья клиента ситуаций. Когда дело
касается исследований, диагностики, супервизии и аттестации, главное, на что
нужно обращать внимание, — это форма предоставления информации, характер этой
информации, т. е. на содержание информации и ее количество.
Форма предоставления информации, ее содержание и количество определяются задачей, поставленной перед психологом. При исследовании, где задействовано большое количество детей или учителей, все имена, фамилии кодируются, и результат предоставляется в виде обобщенных данных, фиксирующих наличие или отсутствие явления в целом, основные характеристики или тен
денции. Никакие сведения, касающиеся отдельных личностей, не передаются даже при специальном запросе. В то же время испы
туемым предоставляется обратная связь в устной или письменной форме, которая отдается им лично в руки и никогда через посредников, даже если это близкий друг или родитель.
При супервизии или аттестации, когда необходимо провести анализ конкретного случая, фамилии и имена также не называются, а супервизии берется у коллег, не связанных непосредственно с данной школой. Допустимо некоторое искажение информации, которое исключает идентификацию клиента в случае прохож
дения психологом аттестации. Например, можно изменить возраст, место работы, образование родителей, если это не существенно в рассматриваемом случае.
Более сложным случаем является д и а г н о с т и к а , п р о в о д и м а я по з а к а з у т р е т ь е й с т о р о н ы . Здесь нужно соблюдать некоторые п р а в и л а .
1. Следует получить четкий запрос на проведение диагностики. Слова: «Посмотрите, что с ним не так» — не являются основанием для этой работы. Запрос должен быть сформулирован точно и конкретно. В зависимости от того, как будет сформулирован запрос на диагностику, будет сформулирован и отчет (о том, как получать запрос, поговорим в следующей главе).
2. В отчет нельзя вставлять никаких сведений, не отвечающих запросу. Например, если в процессе диагностики вы получили некоторые сведения о взаимоотношениях родителей в семье, то эту информацию не стоит озвучивать.
3. Ребенка, которого вы собираетесь диагностировать, необходимо заранее предупредить о готовящейся диагностике, с тем чтобы он успел сообщить об этом родителям. Ребенок имеет право отказаться от процедуры, а родители имеют право получить дополнительную информацию о целях и методах диагностики.
4. И детям и взрослым необходимо сообщить перед процедурой диагностики, что сведения станут известны определенным лицам. Они имеют право не отвечать на некоторые вопросы.
5. Результаты диагностики в обязательном порядке нужно предоставить самому диагностируемому в том же объеме, что и заказчику. Не рекомендуется применять двойные стандарты: ребенку, например, говорить одно, а родителям или учителям — другое. Информация должна быть одинакова. Может меняться только форма ее предоставления.
6. Заказчика необходимо предупредить, что информация не подлежит распространению, и он несет ответственность за ее разглашение. В случае разглашения информации следует очень жестко и однозначно пресечь дальнейшее распространение.
7.
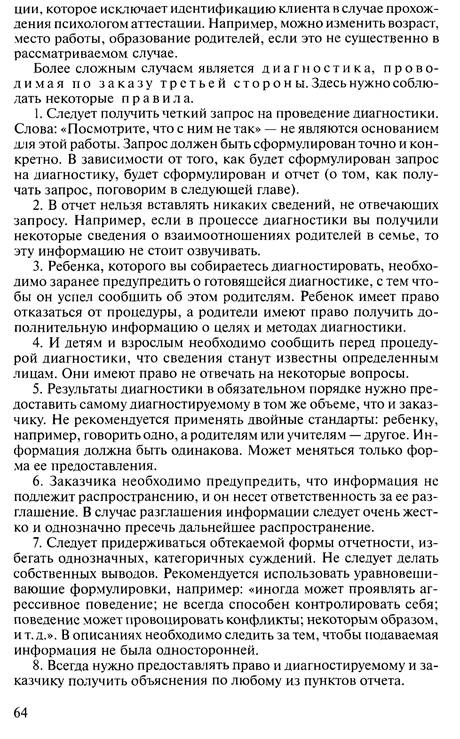 Следует
придерживаться обтекаемой формы отчетности, избегать однозначных, категоричных
суждений. Не следует делать собственных выводов. Рекомендуется использовать
уравновешивающие формулировки, например: «иногда может проявлять агрессивное
поведение; не всегда способен контролировать себя; поведение может
провоцировать конфликты; некоторым образом, и т.д.». В описаниях необходимо
следить за тем, чтобы подаваемая информация не была односторонней.
Следует
придерживаться обтекаемой формы отчетности, избегать однозначных, категоричных
суждений. Не следует делать собственных выводов. Рекомендуется использовать
уравновешивающие формулировки, например: «иногда может проявлять агрессивное
поведение; не всегда способен контролировать себя; поведение может
провоцировать конфликты; некоторым образом, и т.д.». В описаниях необходимо
следить за тем, чтобы подаваемая информация не была односторонней.
8. Всегда нужно предоставлять право и диагностируемому и заказчику получить объяснения по любому из пунктов отчета.
В ситуациях консультирования следование принципу конфиденциальности может быть затруднено неоднозначностью и противоречивостью самой ситуации.
Р. Кочюнас выделяет следующие обстоятельства, при которых может быть нарушен принцип конфиденциальности [37]:
— повышенный риск для жизни клиента или других людей;
— преступные действия (насилие, развращение, инцест и др.), совершаемые над несовершеннолетними;
— необходимость госпитализации клиента;
— участие клиента и других лиц в распространении наркотиков и прочих преступных действиях.
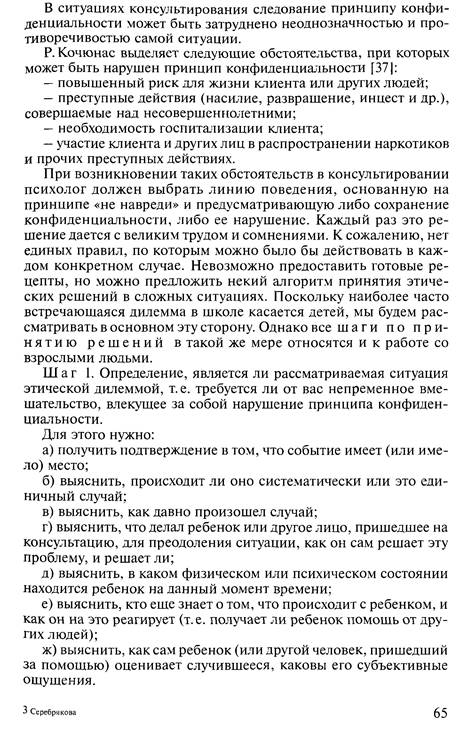 При
возникновении таких обстоятельств в консультировании психолог должен выбрать
линию поведения, основанную на принципе «не навреди» и предусматривающую либо
сохранение конфиденциальности, либо ее нарушение. Каждый раз это решение дается
с великим трудом и сомнениями. К сожалению, нет единых правил, по которым можно
было бы действовать в каждом конкретном случае. Невозможно предоставить готовые
рецепты, но можно предложить некий алгоритм принятия этических решений в
сложных ситуациях. Поскольку наиболее часто встречающаяся дилемма в школе
касается детей, мы будем рассматривать в основном эту сторону. Однако все ш а г
и по п р и н я т и ю р е ш е н и й в такой же мере относятся и к работе со
взрослыми людьми.
При
возникновении таких обстоятельств в консультировании психолог должен выбрать
линию поведения, основанную на принципе «не навреди» и предусматривающую либо
сохранение конфиденциальности, либо ее нарушение. Каждый раз это решение дается
с великим трудом и сомнениями. К сожалению, нет единых правил, по которым можно
было бы действовать в каждом конкретном случае. Невозможно предоставить готовые
рецепты, но можно предложить некий алгоритм принятия этических решений в
сложных ситуациях. Поскольку наиболее часто встречающаяся дилемма в школе
касается детей, мы будем рассматривать в основном эту сторону. Однако все ш а г
и по п р и н я т и ю р е ш е н и й в такой же мере относятся и к работе со
взрослыми людьми.
Ш аг 1. Определение, является ли рассматриваемая ситуация этической дилеммой, т. е. требуется ли от вас непременное вмешательство, влекущее за собой нарушение принципа конфиденциальности. Для этого нужно:
а) получить подтверждение в том, что событие имеет (или име
ло) место;
б) выяснить, происходит ли оно систематически или это еди
ничный случай;
в) выяснить, как давно произошел случай;
г) выяснить, что делал ребенок или другое лицо, пришедшее на
консультацию, для преодоления ситуации, как он сам решает эту проблему, и решает ли;
д) выяснить, в каком физическом или психическом состоянии
находится ребенок на данный момент времени;
е) выяснить, кто еще знает о том, что происходит с ребенком, и
как он на это реагирует (т.е. получает ли ребенок помощь от других людей);
ж) выяснить, как сам ребенок (или другой человек, пришедший за помощью) оценивает случившееся, каковы его субъективные ощущения.
Во время прояснения этих вопросов и ребенок, и психолог определяют, насколько ситуация сложна и в каком виде помощь предпочтительнее. Чем старше ребенок, тем в большем объеме можно обсуждать с ним возможные решения, в том числе и вмешательство третьих лиц. Если ребенок маленький, решать прихо
дится психологу. Однако практика показывает, что даже младшие школьники прекрасно понимают, о чем идет речь. В любом случае с ними нужно обсуждать возможность привлечения других
людей для решения проблемы.
После того, как вы определили для себя, что это случай, который может повлечь нарушение принципа конфиденциальности, вы мысленно останавливаетесь, переводите дыхание и делаете шаг 2.
Ш аг 2. Отделение субъективного эмоционального восприятия ситуации от объективного факта.
Для этого нужно:
а) проанализировать ситуацию с точки зрения собственных ус
тановок, ценностей и убеждений;
б) выделить долю собственного страха;
в) вспомнить и обособить свой опыт (если он есть) совладания
с подобным случаем;
г) оставив сухой остаток, посмотреть на ситуацию со стороны
как на свершившийся факт.
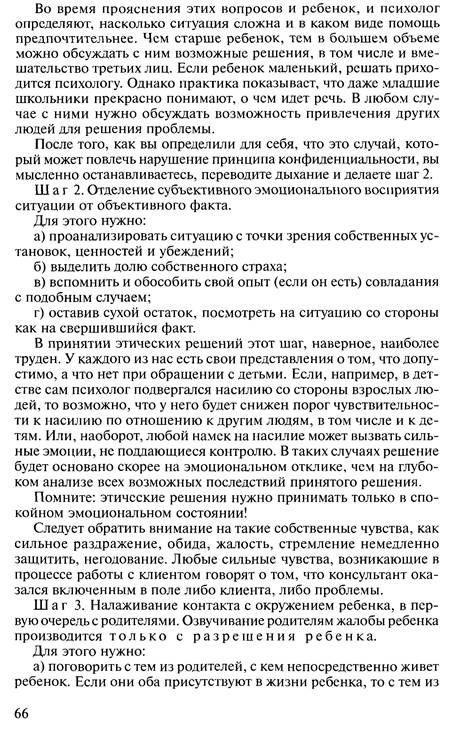 В
принятии этических решений этот шаг, наверное, наиболее труден. У каждого из
нас есть свои представления о том, что допустимо, а что нет при обращении с
детьми. Если, например, в детстве сам психолог подвергался насилию со стороны
взрослых людей, то возможно, что у него будет снижен порог чувствительности к
насилию по отношению к другим людям, в том числе и к детям. Или, наоборот,
любой намек на насилие может вызвать сильные эмоции, не поддающиеся контролю. В
таких случаях решение будет основано скорее на эмоциональном отклике, чем на
глубоком анализе всех возможных последствий принятого решения.
В
принятии этических решений этот шаг, наверное, наиболее труден. У каждого из
нас есть свои представления о том, что допустимо, а что нет при обращении с
детьми. Если, например, в детстве сам психолог подвергался насилию со стороны
взрослых людей, то возможно, что у него будет снижен порог чувствительности к
насилию по отношению к другим людям, в том числе и к детям. Или, наоборот,
любой намек на насилие может вызвать сильные эмоции, не поддающиеся контролю. В
таких случаях решение будет основано скорее на эмоциональном отклике, чем на
глубоком анализе всех возможных последствий принятого решения.
Помните: этические решения нужно принимать только в спокойном эмоциональном состоянии!
Следует обратить внимание на такие собственные чувства, как сильное раздражение, обида, жалость, стремление немедленно защитить, негодование. Любые сильные чувства, возникающие в процессе работы с клиентом говорят о том, что консультант оказался включенным в поле либо клиента, либо проблемы.
Ш аг 3. Налаживание контакта с окружением ребенка, в первую очередь с родителями. Озвучивание родителям жалобы ребенка производится т о л ь к о с р а з р е ш е н и я р е б е н к а .
Для этого нужно:
а) поговорить с тем из родителей, с кем непосредственно живет ребенок. Если они оба присутствуют в жизни ребенка, то с тем из них, кто в первую очередь может его защитить (по словам самого ребенка);
б) поговорить с тем из родителей, который совершает насилие. В зависимости от того, насколько ребенок готов, чтобы психолог озвучил его проблему, психолог либо рассказывает родителю о том, что происходит с его ребенком, либо выясняет, насколько роди
тель адекватен, есть ли какая-то надежда на то, что он изменит свое поведение.
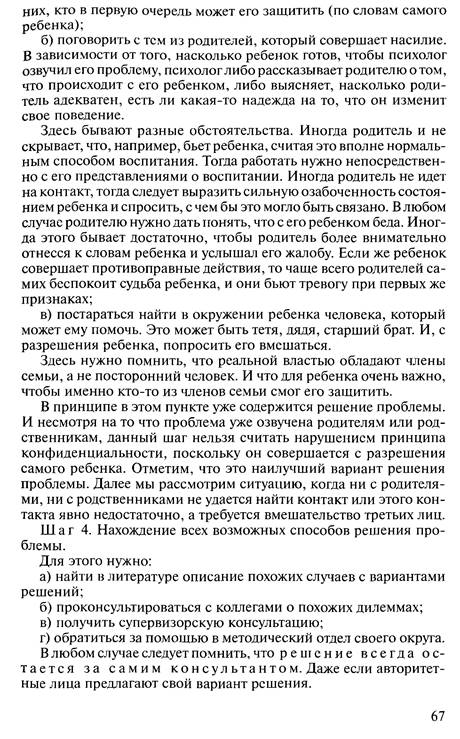 Здесь
бывают разные обстоятельства. Иногда родитель и не скрывает, что, например,
бьет ребенка, считая это вполне нормальным способом воспитания. Тогда работать
нужно непосредственно с его представлениями о воспитании. Иногда родитель не идет
на контакт, тогда следует выразить сильную озабоченность состоянием ребенка и
спросить, с чем бы это могло быть связано. В любом
Здесь
бывают разные обстоятельства. Иногда родитель и не скрывает, что, например,
бьет ребенка, считая это вполне нормальным способом воспитания. Тогда работать
нужно непосредственно с его представлениями о воспитании. Иногда родитель не идет
на контакт, тогда следует выразить сильную озабоченность состоянием ребенка и
спросить, с чем бы это могло быть связано. В любом
случае родителю нужно дать понять, что с его ребенком беда. Иног
да этого бывает достаточно, чтобы родитель более внимательно отнесся к словам ребенка и услышал его жалобу. Если же ребенок совершает противоправные действия, то чаще всего родителей самих беспокоит судьба ребенка, и они бьют тревогу при первых же признаках;
в) постараться найти в окружении ребенка человека, который может ему помочь. Это может быть тетя, дядя, старший брат. И, с разрешения ребенка, попросить его вмешаться.
Здесь нужно помнить, что реальной властью обладают члены семьи, а не посторонний человек. И что для ребенка очень важно, чтобы именно кто-то из членов семьи смог его защитить.
В принципе в этом пункте уже содержится решение проблемы. И несмотря на то что проблема уже озвучена родителям или родственникам, данный шаг нельзя считать нарушением принципа конфиденциальности, поскольку он совершается с разрешения
самого ребенка. Отметим, что это наилучший вариант решения проблемы. Далее мы рассмотрим ситуацию, когда ни с родителями, ни с родственниками не удается найти контакт или этого контакта явно недостаточно, а требуется вмешательство третьих лиц.
Ш аг 4. Нахождение всех возможных способов решения проблемы.
Для этого нужно:
а) найти в литературе описание похожих случаев с вариантами
решений;
б) проконсультироваться с коллегами о похожих дилеммах;
в) получить супервизорскую консультацию;
г) обратиться за помощью в методический отдел своего округа.
В любом случае следует помнить, что р е ш е н и е в с е г д а о с т а е т с я за с а м и м к о н с у л ь т а н т о м . Даже если авторитетные лица предлагают свой вариант решения.
Ш аг 5. Выбор из всего массива предложений нескольких вариантов, кажущихся наиболее приемлемыми в данном конкретном случае.
Обычно в результате отбора их остается 2 — 3.
Ш аг 6. Анализ возможных последствий по каждому решению.
Для этого нужно составить таблицу, в которой будут учтены следующие параметры:
а) решение (например, поставить в известность администра
цию о факте насилия над ребенком);
б) необходимые действия (например: беседа с директором, бе
седа с родителями, обсуждение действий с ребенком и т.д.);
в) возможная реакция каждого из участников на предоставлен
ные сведения;
г) возможные действия каждого из участников по отношению
к ребенку;
д) возможность контролировать последующее развитие событий;
е) возможные долговременные последствия для ребенка;
ж) возможные последствия для психолога;
з) внутреннее ощущение правильности выбора. Когда решение
правильное, оно приносит облегчение и удовлетворение, несмотря на трудности в воплощении или какие-либо препятствия.
Ш аг 7. На основе анализа принятие твердого решения.
Если есть сомнения, то нужно еще раз пройтись по таблице: вероятно, что-то было упущено. На этом этапе в размышлениях
стоит поставить точку.
Ш аг 8. Составление плана последовательных действий.
Ш аг 9 (необязателен). Сообщение в методический отдел принятого решения и его аргументирование в письменном виде.
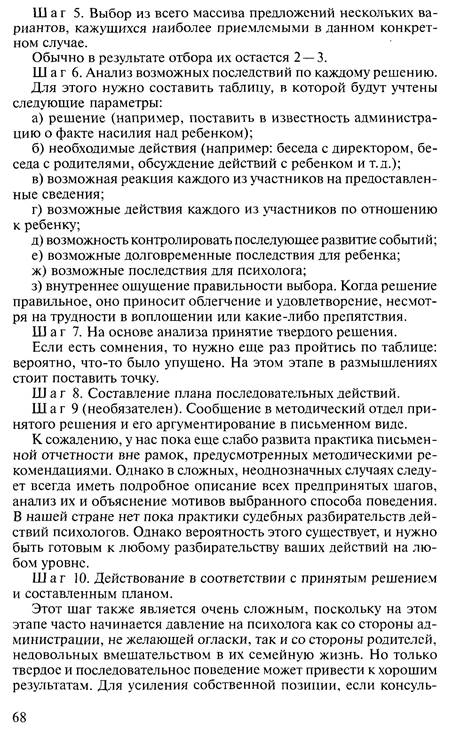 К
сожалению, у нас пока еще слабо развита практика письменной отчетности вне
рамок, предусмотренных методическими рекомендациями. Однако в сложных,
неоднозначных случаях следует всегда иметь подробное описание всех предпринятых
шагов, анализ их и объяснение мотивов выбранного способа поведения. В нашей
стране нет пока практики судебных разбирательств действий психологов. Однако
вероятность этого существует, и нужно быть готовым к любому разбирательству
ваших действий на любом уровне.
К
сожалению, у нас пока еще слабо развита практика письменной отчетности вне
рамок, предусмотренных методическими рекомендациями. Однако в сложных,
неоднозначных случаях следует всегда иметь подробное описание всех предпринятых
шагов, анализ их и объяснение мотивов выбранного способа поведения. В нашей
стране нет пока практики судебных разбирательств действий психологов. Однако
вероятность этого существует, и нужно быть готовым к любому разбирательству
ваших действий на любом уровне.
Ш аг 10. Действование в соответствии с принятым решением и составленным планом.
Этот шаг также является очень сложным, поскольку на этом этапе часто начинается давление на психолога как со стороны администрации, не желающей огласки, так и со стороны родителей, недовольных вмешательством в их семейную жизнь. Но только твердое и последовательное поведение может привести к хорошим результатам. Для усиления собственной позиции, если консультант чувствует себя недостаточно уверенными в том, что сможет довести дело до конца, можно обеспечить себя поддержкой методического отдела округа. Следует помнить, что этот шаг может привести администрацию школы в ярость, поскольку, по ее мнению, нет хуже преступления, чем «вынос сора из избы». В связи с этим рекомендуем использовать все возможные рычаги влияния, чтобы администрация сама приняла меры или сама обратилась за помощью в другие органы защиты детей.
Рассмотрим теперь такой важный момент, как добровольность участия в психологических процедурах.
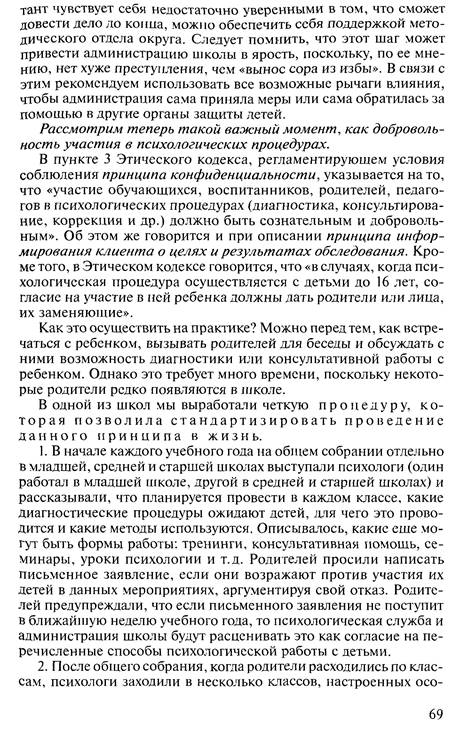 В
пункте 3 Этического кодекса, регламентирующем условия соблюдения принципа конфиденциальности,
указывается на то, что «участие обучающихся, воспитанников, родителей,
педагогов в психологических процедурах (диагностика, консультирование,
коррекция и др.) должно быть сознательным и добровольным». Об этом же говорится
и при описании принципа
информирования клиента о целях и результатах обследования. Кроме
того, в Этическом кодексе говорится, что «в случаях, когда психологическая
процедура осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка
должны дать родители или лица,
В
пункте 3 Этического кодекса, регламентирующем условия соблюдения принципа конфиденциальности,
указывается на то, что «участие обучающихся, воспитанников, родителей,
педагогов в психологических процедурах (диагностика, консультирование,
коррекция и др.) должно быть сознательным и добровольным». Об этом же говорится
и при описании принципа
информирования клиента о целях и результатах обследования. Кроме
того, в Этическом кодексе говорится, что «в случаях, когда психологическая
процедура осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка
должны дать родители или лица,
их заменяющие».
Как это осуществить на практике? Можно перед тем, как встречаться с ребенком, вызывать родителей для беседы и обсуждать с ними возможность диагностики или консультативной работы с ребенком. Однако это требует много времени, поскольку некоторые родители редко появляются в школе.
В одной из школ мы выработали четкую п р о ц е д у р у , к о т о р а я п о з в о л и л а с т а н д а р т и з и р о в а т ь п р о в е д е н и е д а н н о г о п р и н ц и п а в ж и з нь .
1. В начале каждого учебного года на общем собрании отдельно в младшей, средней и старшей школах выступали психологи (один работал в младшей школе, другой в средней и старшей школах) и рассказывали, что планируется провести в каждом классе, какие диагностические процедуры ожидают детей, для чего это проводится и какие методы используются. Описывалось, какие еще могут быть формы работы: тренинги, консультативная помощь, семинары, уроки психологии и т.д. Родителей просили написать письменное заявление, если они возражают против участия их
детей в данных мероприятиях, аргументируя свой отказ. Родителей предупреждали, что если письменного заявления не поступит в ближайшую неделю учебного года, то психологическая служба и администрация школы будут расценивать это как согласие на перечисленные способы психологической работы с детьми.
2. После общего собрания, когда родители расходились по классам, психологи заходили в несколько классов, настроенных особенно настороженно или враждебно по отношению либо к психологической службе вообще, либо конкретно к каким-либо процедурам. Там они еще раз, уже более подробно, объясняли суть, значение и цели психологической работы и еще раз подчеркивали, что родители могут отказаться от участия их детей во всех или в каких-то конкретных мероприятиях.
3. После всех собраний психологи отвечали на вопросы родителей.
4. Был назначен один общий консультативный день для родителей, который проходил раз в месяц, о чем было объявлено на собрании. Кроме того, любой родитель мог записаться на консультацию для получения результатов диагностики или других вопросов и обсуждения этих результатов непосредственно с психологом.
5. Положение об условиях и форме отказа родителей от мероприятий, проводимых психологами, было вывешено на стенде при входе в школу и записано в правилах школы.
6. Информация обо всех психологических мероприятиях, о времени их проведения, возможности получить обратную связь постоянно вывешивалась на стенде при входе в школу.
7.
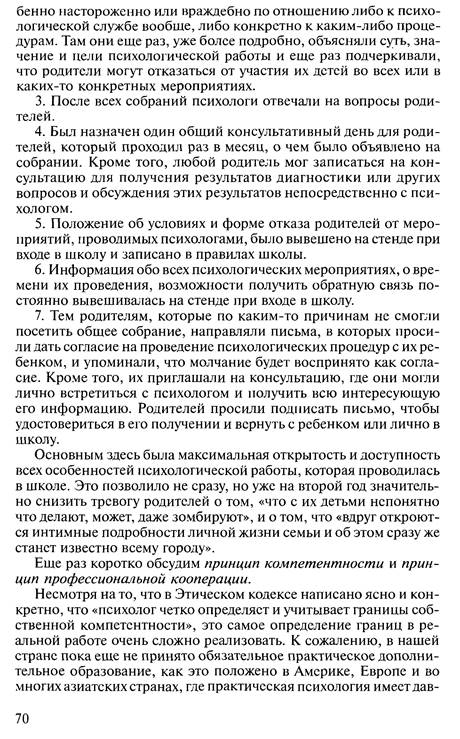 Тем
родителям, которые по каким-то причинам не смогли посетить общее собрание, направляли
письма, в которых просили дать согласие на проведение психологических процедур
с их ребенком, и упоминали, что молчание будет воспринято как согласие. Кроме
того, их приглашали на консультацию, где они могли лично встретиться с
психологом и получить всю интересующую его информацию. Родителей просили
подписать письмо, чтобы удостовериться в его получении и вернуть с ребенком или
лично в школу.
Тем
родителям, которые по каким-то причинам не смогли посетить общее собрание, направляли
письма, в которых просили дать согласие на проведение психологических процедур
с их ребенком, и упоминали, что молчание будет воспринято как согласие. Кроме
того, их приглашали на консультацию, где они могли лично встретиться с
психологом и получить всю интересующую его информацию. Родителей просили
подписать письмо, чтобы удостовериться в его получении и вернуть с ребенком или
лично в школу.
Основным здесь была максимальная открытость и доступность всех особенностей психологической работы, которая проводилась в школе. Это позволило не сразу, но уже на второй год значительно снизить тревогу родителей о том, «что с их детьми непонятно что делают, может, даже зомбируют», и о том, что «вдруг откроются интимные подробности личной жизни семьи и об этом сразу же станет известно всему городу».
Еще раз коротко обсудим принцип компетентности и принцип профессиональной кооперации.
Несмотря на то, что в Этическом кодексе написано ясно и конкретно, что «психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности», это самое определение границ в реальной работе очень сложно реализовать. К сожалению, в нашей стране пока еще не принято обязательное практическое дополнительное образование, как это положено в Америке, Европе и во многих азиатских странах, где практическая психология имеет дав
нюю и отлаженную систему подготовки специалистов. У нас пока
практические навыки в лучшем случае находятся на уровне отдельных занятий в институте и, если повезет, курса по основам консультативной и/или тренинговой работы. Поэтому специалисты, пришедшие в школу сразу же после института или после курсов, часто имеют довольно слабое представление о том, что и как нуж
но делать.
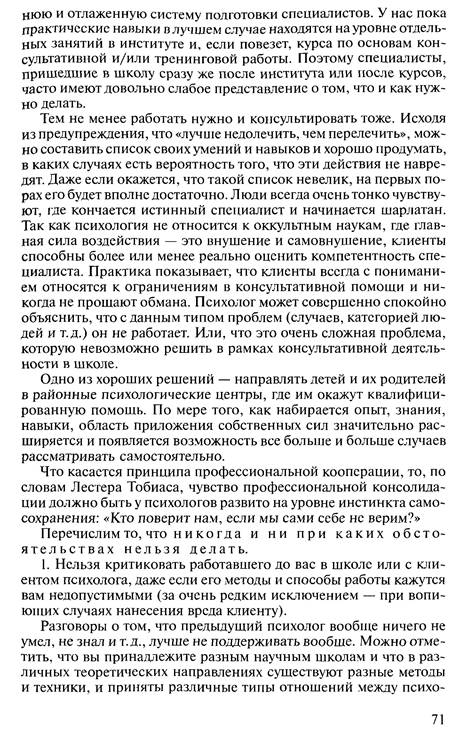 Тем
не менее работать нужно и консультировать тоже. Исходя из предупреждения, что
«лучше недолечить, чем перелечить», можно составить список своих умений и
навыков и хорошо продумать, в каких случаях есть вероятность того, что эти
действия не навредят. Даже если окажется, что такой список невелик, на первых
порах его будет вполне достаточно. Люди всегда очень тонко чувствуют, где
кончается истинный специалист и начинается шарлатан. Так как психология не
относится к оккультным наукам, где главная сила воздействия — это внушение и
самовнушение, клиенты способны более или менее реально оценить компетентность
специалиста. Практика показывает, что клиенты всегда с пониманием относятся к
ограничениям в консультативной помощи и никогда не прощают обмана. Психолог может
совершенно спокойно объяснить, что с данным типом проблем (случаев, категорией
лю
Тем
не менее работать нужно и консультировать тоже. Исходя из предупреждения, что
«лучше недолечить, чем перелечить», можно составить список своих умений и
навыков и хорошо продумать, в каких случаях есть вероятность того, что эти
действия не навредят. Даже если окажется, что такой список невелик, на первых
порах его будет вполне достаточно. Люди всегда очень тонко чувствуют, где
кончается истинный специалист и начинается шарлатан. Так как психология не
относится к оккультным наукам, где главная сила воздействия — это внушение и
самовнушение, клиенты способны более или менее реально оценить компетентность
специалиста. Практика показывает, что клиенты всегда с пониманием относятся к
ограничениям в консультативной помощи и никогда не прощают обмана. Психолог может
совершенно спокойно объяснить, что с данным типом проблем (случаев, категорией
лю
дей и т.д.) он не работает. Или, что это очень сложная проблема, которую невозможно решить в рамках консультативной деятельности в школе.
Одно из хороших решений — направлять детей и их родителей в районные психологические центры, где им окажут квалифици
рованную помощь. По мере того, как набирается опыт, знания, навыки, область приложения собственных сил значительно расширяется и появляется возможность все больше и больше случаев рассматривать самостоятельно.
Что касается принципа профессиональной кооперации, то, по словам Лестера Тобиаса, чувство профессиональной консолидации должно быть у психологов развито на уровне инстинкта самосохранения: «Кто поверит нам, если мы сами себе не верим?»
Перечислим то, что н и к о г д а и ни п р и к а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х н е л ь з я д е ла т ь .
1. Нельзя критиковать работавшего до вас в школе или с кли ентом психолога, даже если его методы и способы работы кажутся вам недопустимыми (за очень редким исключением — при вопиющих случаях нанесения вреда клиенту).
Разговоры о том, что предыдущий психолог вообще ничего не умел, не знал и т.д., лучше не поддерживать вообще. Можно отметить, что вы принадлежите разным научным школам и что в различных теоретических направлениях существуют разные методы и техники, и приняты различные типы отношений между психо
71
логом и клиентами. Эго правда, как правда и то, что многие взгляды и методы устарели.
2. Нельзя вступать в открытую или скрытую конфронтацию с коллегами по цеху, работающими в одной системе.
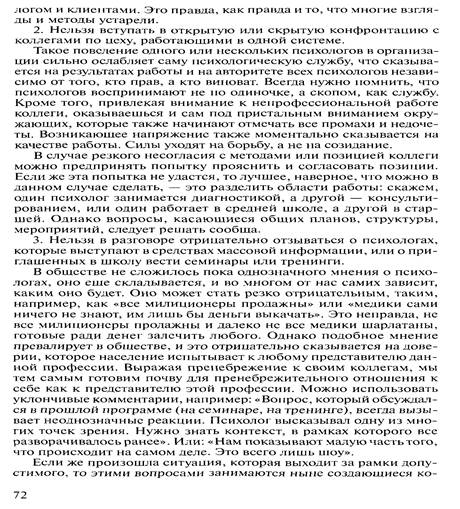 Такое
поведение одного или нескольких психологов в организации сильно ослабляет саму
психологическую службу, что сказывается на результатах работы и на авторитете
всех психологов независимо от того, кто прав, а кто виноват. Всегда нужно
помнить, что психологов воспринимают не по одиночке, а скопом, как службу.
Кроме того, привлекая внимание к непрофессиональной работе коллеги,
оказываешься и сам под пристальным вниманием окружающих, которые также начинают
отмечать все промахи и недочеты. Возникающее напряжение также моментально
сказывается на качестве работы. Силы уходят на борьбу, а не на созидание.
Такое
поведение одного или нескольких психологов в организации сильно ослабляет саму
психологическую службу, что сказывается на результатах работы и на авторитете
всех психологов независимо от того, кто прав, а кто виноват. Всегда нужно
помнить, что психологов воспринимают не по одиночке, а скопом, как службу.
Кроме того, привлекая внимание к непрофессиональной работе коллеги,
оказываешься и сам под пристальным вниманием окружающих, которые также начинают
отмечать все промахи и недочеты. Возникающее напряжение также моментально
сказывается на качестве работы. Силы уходят на борьбу, а не на созидание.
В случае резкого несогласия с методами или позицией коллеги можно предпринять попытку прояснить и согласовать позиции. Если же эта попытка не удастся, то лучшее, наверное, что можно в данном случае сделать, — это разделить области работы: скажем, один психолог занимается диагностикой, а другой — консультированием, или один работает в средней школе, а другой в старшей. Однако вопросы, касающиеся общих планов, структуры, мероприятий, следует решать сообща.
3. Нельзя в разговоре отрицательно отзываться о психологах, которые выступают в средствах массовой информации, или о приглашенных в школу вести семинары или тренинги.
В обществе не сложилось пока однозначного мнения о психологах, оно еще складывается, и во многом от нас самих зависит, каким оно будет. Оно может стать резко отрицательным, таким, например, как «все милиционеры продажны» или «медики сами ничего не знают, им лишь бы деньги выкачать». Это неправда, не все милиционеры продажны и далеко не все медики шарлатаны, готовые ради денег залечить любого. Однако подобное мнение
превалирует в обществе, и это отрицательно сказывается на доверии, которое население испытывает к любому представителю данной профессии. Выражая пренебрежение к своим коллегам, мы
тем самым готовим почву для пренебрежительного отношения к себе как к представителю этой профессии. Можно использовать уклончивые комментарии, например: «Вопрос, который обсуждался в прошлой программе (на семинаре, на тренинге), всегда вызывает неоднозначные реакции. Психолог высказывал одну из многих точек зрения. Нужно знать контекст, в рамках которого все разворачивалось ранее». Или: «Нам показывают малую часть того, что происходит на самом деле. Это всего лишь шоу».
 Если же
произошла ситуация, которая выходит за рамки допустимого, то этими вопросами
занимаются ныне создающиеся комиссии по этике, находящиеся в составе
регионального научно- методического совета службы практической психологии
образования, и вышестоящие организации. В этом случае следует просто признать,
что иногда и в нашу среду попадают непрофессионалы, что очень огорчает нас как
профессионалов.
Если же
произошла ситуация, которая выходит за рамки допустимого, то этими вопросами
занимаются ныне создающиеся комиссии по этике, находящиеся в составе
регионального научно- методического совета службы практической психологии
образования, и вышестоящие организации. В этом случае следует просто признать,
что иногда и в нашу среду попадают непрофессионалы, что очень огорчает нас как
профессионалов.
1. В чем состоит отличие позиции психолога-консультанта от роли?
2. Как определяются функции и принципы в работе школьного психолога?
3. Каковы плюсы и минусы позиции «сверху» или «снизу» в работе психолога-консультанта с клиентами?
4. В чем состоит особенность работы из позиции «на равных»?
5. Какие роли преимущественно играет психолог-консультант при различных позициях?
6. Чем отличаются принципы консультирования при обеих позициях? Перечислите их.
7. Каковы плюсы и минусы при позиции уважения и равенства?
8. Перечислите преимущества работы «замужем» и «в одиночку» (Э. Невис)? Что лежит в основе каждой из позиций?
9. Каковы основные функции, которые выполняет психолог-консультант, придерживающийся нейтральной позиции?
10. Перечислите принципы психолога как организационного консультанта.
11. Какие вопросы, касающиеся содержания работы, отчетности, опенки результатов, подчинения и организации рабочего пространства и времени, следует прояснить и согласовать в самом начале работы в школе?
12. Перечислите основные этические принципы деятельности психолога.
13. Назовите правила, которых следует придерживаться при проведении диагностики по заказу третьей стороны.
14. При каких обстоятельствах может быть нарушен принцип конфиденциальности (Р. Кочюнас)?
15. Перечислите объективные и субъективные причины, из-за которых бывает трудно воплотить на практике принцип конфиденциальности.
16. Перечислите в последовательности все шаги, которые должен совершить психолог при принятии этического решения.
■ Опишите, как вы видите клиента? Какой он, по вашим представлениям? К какому типу он более тяготеет? Что вы чувствуете по отношению к «своему» типу клиента?
■ Оцените свою позицию в учебном учреждении, в котором вы работаете (или проходите практику). Какая политика вам наиболее близка присоединения или неприсоединения? К какой подсистеме вы более все
71
го тяготеете? Н апиш ите трудности, с которы м и вы сталкиваетесь при общ ении с представителями каждой из подсистем.
■ Выполните упражнение с игрушками «Ролевой репертуар».
1. Напишите весь спектр ролей, которые вы играете в жизни. Выделите те из них, которые, во-первых, проявляются в ситуациях взаимодействия с людьми один на один и, во-вторых, проявляются в ситуациях нахождения в коллективе.
2. Выберите из игрушек себя (игрушку, символизирующую вас) и на каждую роль.
3. Поставьте себя в центр и вокруг расположите свои роли на таком расстоянии и с таким разворотом, как вам чувствуется, они проявляются. Вначале поставьте ситуацию взаимодействия с людьми один на один, потом ситуацию нахождения в коллективе.
4. Посмотрите со стороны на получившуюся картину: все ли вам нравится в ней? Какие роли стоят, по вашему мнению, слишком близко к вам? Слишком далеко? Что бы вам хотелось изменить?
5. Поставьте палец на себя (свою игрушку) и почувствуйте, как вы себя ощущаете среди этих ролей?
6. Переставьте роли таким образом, чтобы фигуре в центре (вам) было комфортно. Поставьте палец на игрушку и оцените теперь ваше состоя
ние. Все ли вас устраивает теперь?
7. Запомните или зарисуйте новое расположение ролей-игрушек.■ Выполните упражнение «Мы одной крови».
![]() Представьте, что к вам на консультацию в расстроенных
чувствах пришла мама и рассказала, что она только что разговаривала с вашей
коллегой, которая настоятельно советовала ей обратить внимание на поведение ее
15-летней дочери, которая «кокетничает с мальчиками, о чем-то с ними шушукается
на переменах, хихикает, и вообще слишком женщина для своих лет». Маму напугали,
что это может плохо закончится, если она не прекратит «раннее созревание
дочери». Маму призывали к ограничению женской сущности девочки путем запретов
на косметику, общение с мальчиками и короткие юбки.
Представьте, что к вам на консультацию в расстроенных
чувствах пришла мама и рассказала, что она только что разговаривала с вашей
коллегой, которая настоятельно советовала ей обратить внимание на поведение ее
15-летней дочери, которая «кокетничает с мальчиками, о чем-то с ними шушукается
на переменах, хихикает, и вообще слишком женщина для своих лет». Маму напугали,
что это может плохо закончится, если она не прекратит «раннее созревание
дочери». Маму призывали к ограничению женской сущности девочки путем запретов
на косметику, общение с мальчиками и короткие юбки.
Что вы будете делать в таком случае? Как вы будете разговаривать с мамой? Как оцените поведение вашей коллеги? Составьте устно текст вашей речи.
■ Выполните упражнение «Зона повышенного риска».
Представьте себе, что на консультации с ребенком вы услышали от него некую конфиденциальную историю, содержащую в себе очень тревожную информацию.
Прислушайтесь к себе, какой из перечисленных фактов вызывает у вас наиболее сильные эмоции:
— Отец бьет ребенка каждый раз, когда тот получает плохую отметку.
— Мать запирает ребенка в шкаф и держит его nам несколько часов, если он плохо себя ведет.
— Взрослый дядя изнасиловал девочку 10 лет.
— Подросток угрожает самоубийством.
— Девочка-подросток грозится облить серной кислотой одноклассницу.
![]()
Организация консультативного процесса в школе имеет свои специфические особенности. Мы рассмотрим вопросы, которые отражают реальное положение дел в школе:
— как и где проводить консультации, если кабинет психолога делят и коллеги-психологи, и логопеды, и массажист;
— какое время наиболее удобное для консультаций;
— брать ли детей на консультацию с уроков, и в каких случаях это можно делать;
— сколько должна длиться одна сессия;
— какое количество сессий нужно одному ребенку;
— как и когда организовывать встречи с родителями; — следует ли давать свои телефоны детям и их родителям?
Т р е б о в а н и я к п о м е щ е н и ю , в котором должны проводиться консультации, хорошо известны: оно должно быть изолированным, звуконепроницаемым, светлым, оборудованным мягкой удобной мебелью; достаточно просторным, чтобы поместилось несколько человек; должно быть место, где хранится документация и необходимые материалы: игрушки, бумага, карандаши, пластилин и т.д. Благодаря распоряжениям министерства об
![]() разования во многих школах
уже появились кабинеты психолога. Однако в данном случае мы говорим не о
кабинете психолога, а о месте проведения консультаций. Дело в том, что в
кабинете психолога часто располагаются все, для кого не предусмотрены отдельные
помещения: логопеды, массажисты, социальные работники и т.д. Кабинет психолога
— это место, где ребенок может полежать, если он себя плохо чувствует, где
работают многочисленные комиссии, врачи, проводящие обследование или
исследование. Иногда здесь даже проводят уроки иностранного языка или
разования во многих школах
уже появились кабинеты психолога. Однако в данном случае мы говорим не о
кабинете психолога, а о месте проведения консультаций. Дело в том, что в
кабинете психолога часто располагаются все, для кого не предусмотрены отдельные
помещения: логопеды, массажисты, социальные работники и т.д. Кабинет психолога
— это место, где ребенок может полежать, если он себя плохо чувствует, где
работают многочисленные комиссии, врачи, проводящие обследование или
исследование. Иногда здесь даже проводят уроки иностранного языка или
труда с половиной класса. Даже если кабинет психолога принадлежит только психологам, что уже является большой удачей, негласно считается, что кабинет психолога — это некий открытый, всех принимающий дом, куда каждый может зайти в любое время и не только по серьезному делу, но и просто так забежать на ми
нутку для получения поддержки или совета. Негласно считается также, что психолог не имеет права отказать кому бы то ни было, даже если у него другие дела.
Один из мифов, окружающих практическую психологию, говорит о том, что психолог проникает в самые сокровенные тайники души человека вопреки его желанию, просматривает его как рентгеном. Соответственно он может потом использовать эти знания во вред человеку. Открытые двери кабинета психолога позво
ляют на первых порах справиться с подобной тревогой. Открытые двери говорят, что никакой таинственности нет, что это такой же кабинет, как и многие другие.
Через какое-то время, однако, открытые двери психологического кабинета начинают опять вызывать тревогу: если здесь все открыто, то значит и все сведения могут стать достоянием каждого, значит здесь нет гарантии конфиденциальности. Вот эти разнонаправленные и противоречивые стремления — чтобы двери кабинета психолога были одновременно и закрыты и открыты —
доставляют массу организационных неприятностей психологам, работающим в школе.
Во избежание этих проблем можно порекомендовать следующие ша ги.
1. Во что бы то ни стало нужно добиться выселения всех других служб из кабинета психолога. Исключение может составлять день, когда психолога нет в школе. В этот день кабинет может занимать другая служба: логопед или социальный педагог. Однако нужно очень четко оговорить, что на них лежит ответственность за то, чтобы не оставлять кабинет без присмотра, так как в нем находятся различные документы и материалы, не предназначенные для широкого пользования. В кабинете должны быть запертые шкафы, ключи от которых могут находиться только у психолога.
2.
![]() Необходимо
изготовить табличку с текстом примерно такого содержания: «Идет консультация.
Просьба не входить» или «Тихо. Идет консультация». Во время консультации не
следует открывать дверь, даже если туда настойчиво стучатся. О том, что дверь
не будет открываться ни под каким предлогом, следует заранее всех оповестить.
Первое время все равно будут рваться и сердиться и доказывать, что было
совершенно необходимо взять какие-то материалы или спросить что-то именно во
время консультации. Однако здесь следует быть совершенно непреклонным и не идти
ни на какие уступки. Через какое-то время попытки прекратятся: и учителя, и
учащиеся привыкнут с уважением относиться к консультациям.
Необходимо
изготовить табличку с текстом примерно такого содержания: «Идет консультация.
Просьба не входить» или «Тихо. Идет консультация». Во время консультации не
следует открывать дверь, даже если туда настойчиво стучатся. О том, что дверь
не будет открываться ни под каким предлогом, следует заранее всех оповестить.
Первое время все равно будут рваться и сердиться и доказывать, что было
совершенно необходимо взять какие-то материалы или спросить что-то именно во
время консультации. Однако здесь следует быть совершенно непреклонным и не идти
ни на какие уступки. Через какое-то время попытки прекратятся: и учителя, и
учащиеся привыкнут с уважением относиться к консультациям.
3. Если кабинет делят два психолога, каждому из которых нужно проводить консультации, то здесь нужно устанавливать расписание и твердо его придерживаться. Если же время консультаций совпадает (например, с детьми после уроков), то можно оговорить с администрацией выделение помещения после уроков специально для этих целей. Нужно только помнить, что помещение должно быть одно и то же, всегда на одно и то же количество времени, в одни и те же дни. Если это класс, то эти же условия оговариваются и с учителем. Иначе психолога будут перекидывать из одного класса в другой, и дело закончится тем, что психолог будет мыкаться по
углам, откуда каждый его будет выгонять по своему усмотрению.
4. Практика показывает, что клиенты не любят частой смены места проведения консультаций. Поэтому рекомендуется по возможности проводить консультации в одном и том же месте. Лучше
заранее определить возможность использования кабинета или какого-либо другого помещения под работу с теми или иными категориями клиентов: детьми, родителями, учителями.
Еще раз хотелось бы обратить внимание на достижение четких и однозначных договоренностей по таким, казалось бы, очевидным вопросам, как расписание консультаций, время и условия пользования кабинетом, дополнительное помещение. Хотелось бы
также отметить, что простых договоренностей бывает недостаточно, поскольку основной проблемой в школе является нарушение всех и всяческих границ (о чем мы поговорим далее). Самое распространенное в отношении психолога нарушение — это игнорирование прежде достигнутых договоренностей. На практике это оборачивается довольно трудоемким процессом отстаивания по мелочам времени, пространства, рамок любого психологического процесса, в том числе и консультативного.
![]() Все
в о п р о с ы , с в я з а н н ы е со в р е м е н е м , не являются четко
заданными и обязательными. Каждый психолог решает их по своему усмотрению в
зависимости от собственных предпочтений и возможностей организационного
характера. Отметим лишь, что расписание всегда помогает распределить свое время
оптимальным образом. Такие организационные меры, как предварительная запись
родителей и учителей на консультацию, определенные дни и часы для свободного
(незапланированного) общения психолога с детьми и подростками, четкое время
консультаций для
Все
в о п р о с ы , с в я з а н н ы е со в р е м е н е м , не являются четко
заданными и обязательными. Каждый психолог решает их по своему усмотрению в
зависимости от собственных предпочтений и возможностей организационного
характера. Отметим лишь, что расписание всегда помогает распределить свое время
оптимальным образом. Такие организационные меры, как предварительная запись
родителей и учителей на консультацию, определенные дни и часы для свободного
(незапланированного) общения психолога с детьми и подростками, четкое время
консультаций для
детей, с которыми требуется более длительная работа, и т.д., помогают справиться с большим объемом разнообразных дел. Кроме того, это дисциплинирует и детей и взрослых.
На самом деле не так часто бывают случаи, которые требуют немедленного вмешательства психолога. Хотелось бы предостеречь начинающих психологов от стремления всегда оказываться в эпицентре событий, всегда спешить на помощь и брать на себя функцию третейского судьи. Конечно, если проходя по коридору, пси
холог видит драку между детьми, его обязанность как взрослого вмешаться и прекратить потасовку. Однако после этого психолог может совершенно спокойно оставить разбирательство на усмотрение классного руководителя. Не стоит поддаваться на уговоры прийти в класс и «разобраться» с хулиганами или взять «на перевоспитание» какого-либо ребенка. Это всего лишь попытка учителя снять с себя ответственность и переложить ее на психолога. Воспитывать детей и создавать атмосферу в классе должен классный руководитель. Это его обязанности.
Что же касается расписания консультаций, то здесь часто возникает вопрос о том, можно ли брать детей с уроков? На него так
же нет однозначного ответа. Бывает, что только таким образом можно добиться того, что ребенок будет приходить на консультации. Или это его единственное свободное время. Бывает, что требуется решить сложный вопрос, который не терпит отлагательства. Единственное, что обязательно нужно делать, прежде чем брать ребенка с уроков, — это обговорить такую возможность с администрацией и обязательно спросить разрешения у учителя. Причем спрашивать нужно каждый раз, когда ребенка забирают с урока. Учитель имеет право отказать.
![]() Мы
не будем долго останавливаться на вопросе о том, сколько времени должна длиться
одна сессия. Чаще всего говорят о 40— 60 мин, что обусловлено
психотерапевтической традицией, а не какими то рациональными причинами. Час —
это привычная форма организации времени. Главное, чем должен руководствоваться
консультант, — это что за время сеанса «должно успеть произойти что-то
реальное» [68]. В школе временная политика должна быть по возможности
максимально гибкой. При работе с детьми необходимо идти за их интересом и
возможностями. Некоторые спокойно могут работать час, не отвлекаясь, а другие
дети через 20 мин теряют всякий интерес, и держать их насильно не имеет смысла.
Кроме того, нужно учитывать и собственные предпочтения и собственное ощущение
комфорта. Иногда имеет смысл закончить раньше намеченного срока, если
существует внутренняя потребность остановиться и подумать. Или, наоборот,
увеличить время на консультацию, если есть к тому показания.
Мы
не будем долго останавливаться на вопросе о том, сколько времени должна длиться
одна сессия. Чаще всего говорят о 40— 60 мин, что обусловлено
психотерапевтической традицией, а не какими то рациональными причинами. Час —
это привычная форма организации времени. Главное, чем должен руководствоваться
консультант, — это что за время сеанса «должно успеть произойти что-то
реальное» [68]. В школе временная политика должна быть по возможности
максимально гибкой. При работе с детьми необходимо идти за их интересом и
возможностями. Некоторые спокойно могут работать час, не отвлекаясь, а другие
дети через 20 мин теряют всякий интерес, и держать их насильно не имеет смысла.
Кроме того, нужно учитывать и собственные предпочтения и собственное ощущение
комфорта. Иногда имеет смысл закончить раньше намеченного срока, если
существует внутренняя потребность остановиться и подумать. Или, наоборот,
увеличить время на консультацию, если есть к тому показания.
Такой же подход следует применять и при определении количества сессий, отведенных на одного ребенка. В зависимости от поставленной задачи, характера проблемы и запроса психолог определяет, сколько времени он уделит тому или иному ребенку или взрослому.
При более или менее длительной работе с детьми или подростками необходимо перед каждой сессией им напоминать о том, что сегодня состоится консультация в такой-то час. Иногда следует приходить за ребенком к концу урока, или на перемену, или к обеду. Дети, даже если им нравятся встречи с психологом, часто забывают о времени консультации. Иногда они превращают приходы психолога в увлекательную игру. Ребенок может начать капризничать или прятаться. Это всего лишь игра, в которой он проверяет, насколько он интересен взрослому. На встрече это поведение можно обговорить, если оно начинает доставлять неудобство консультанту и на него тратится много времени. Обычно дети ос
тавляют себе некий ритуал, например, он может тяжело вздыхать, когда его зовут на консультацию, и всем своим видом показывать сверстникам, что это тяжелая обязанность.
Теперь рассмотрим о р г а н и з а ц и о н н ы е а с п е к т ы п р и р а б о т е с у ч и т е л я м и и р о д и т е л я м и .
И учителя и родители имеют тенденцию решать различные вопросы и проблемы на бегу. Забежать к психологу на минуточку и бросить информацию о назревающем в классе конфликте, и тут же спросить, что делать. Или же мельком упомянуть, что последнее
время ругается с мужем и плохо себя чувствует. Или родители забегают к психологу по пути к классному руководителю, мимоходом жалуясь на его грубое обращение с ребенком. Или директор просит психолога немедленно вмешаться в конфликт между учителем и
родителем. Решение вопросов в столовой и коридоре — очень распространенная практика.
Не рекомендуется начинать подробно расспрашивать, что случилось и в чем проблема, и давать какие-то рекомендации на ходу.
Чаще всего стремление решить на ходу некий вопрос может быть связано с несколькими п р и ч и н а м и :
1) нужна поддержка. Человек сам в состоянии решить назревшую проблему, однако эмоционально он слишком возбужден. Ему нужно время, чтобы прийти в себя и подумать. Рандеву в коридоре с психологом — это та пауза, которая ему необходима в
![]() данный момент. От психолога
требуется продемонстрировать уверенность в том, что все получится. Признаки, по
которым можно определить, что это именно такой случай, — это нетерпеливое
поведение человека, обратившегося за советом. Он говорит как бы для себя, в
глаза не смотрит, ответа не ждет, отвечает сам или нетерпеливо несколько раз
спрашивает, что делать. Ответ психолога может состоять в том, чтобы призвать не
решать ситуацию немедленно, а остановиться и подумать. И пригласить на
консультацию;
данный момент. От психолога
требуется продемонстрировать уверенность в том, что все получится. Признаки, по
которым можно определить, что это именно такой случай, — это нетерпеливое
поведение человека, обратившегося за советом. Он говорит как бы для себя, в
глаза не смотрит, ответа не ждет, отвечает сам или нетерпеливо несколько раз
спрашивает, что делать. Ответ психолога может состоять в том, чтобы призвать не
решать ситуацию немедленно, а остановиться и подумать. И пригласить на
консультацию;
2) нужно утешение. С человеком произошла неприятная история на работе или дома. Некоторые люди снимают напряжение и негативное эмоциональное состояние тем, что постоянно рассказывают каждому, кто готов слушать, свою историю. Это помогает им примириться с произошедшим и получить поддержку своей самооценке. Основной признак — это жалоба. От психолога требуется выслушать и посочувствовать. И пригласить на консультацию. Правда, здесь может быть ловушка: под шумок могут попытаться протащить одобрение своим действиям и осуждение чужим. Особенно это вероятно в случае конфликта;
3)
![]() нужна
реальная помощь психолога. У человека серьезная проблема, которую он не может
решить сам. Он хотел бы обратиться за помощью к психологу, но либо боится, либо
еще не готов ее решать. В коридоре происходит «предварительное прощупывание»,
т.е. человек проясняет для себя, насколько внимательно психолог может отнестись
к его случаю. Признаки: заглядывает в глаза, старается увести от шума в
укромное место, спрашивает, можно ли решить эту проблему и в состоянии ли это
сделать данный психолог. Задача психолога состоит в том, чтобы очень
внимательно выслушать и пригласить на консультацию. Лучше не откладывать и по
возможности выделить время в тот же день или на следующий;
нужна
реальная помощь психолога. У человека серьезная проблема, которую он не может
решить сам. Он хотел бы обратиться за помощью к психологу, но либо боится, либо
еще не готов ее решать. В коридоре происходит «предварительное прощупывание»,
т.е. человек проясняет для себя, насколько внимательно психолог может отнестись
к его случаю. Признаки: заглядывает в глаза, старается увести от шума в
укромное место, спрашивает, можно ли решить эту проблему и в состоянии ли это
сделать данный психолог. Задача психолога состоит в том, чтобы очень
внимательно выслушать и пригласить на консультацию. Лучше не откладывать и по
возможности выделить время в тот же день или на следующий;
4) манипуляция. От психолога требуется дать согласие на какие- то действия или одобрение каким-либо действиям с тем, чтобы потом использовать это для достижения своих целей. Рекомендуется вообще не решать никаких вопросов в коридоре, на перемене или в столовой, где много народа, шумно и суматошно. Стандартная фраза, которую можно использовать, звучит примерно так: «То, что вы говорите, очень интересно (важно, любопытно). Это, безусловно, требует к себе внимания и подробного рассмотрения. Мы обязательно вернемся к этому вопросу позже в спокойной обстановке. Когда мы можем подробно об этом поговорить?» Или: «Предложение заманчивое. Мне нужно подумать и кое-что еще прояснить.
Когда мы можем обсудить ваше предложение детально?».
Мы уже говорили о том, что предварительная запись организует и детей и взрослых. Кроме того, это позволяет самому человеку немного переосмыслить свою проблему и произвести некую предварительную работу по ее решению. Более половины запросов, таким образом, отсеивается. Остальные приобретают более четкие очертания.
Н а с к о л ь к о п с и х о л о г д о л ж е н б ы т ь д о с т у п е н ?
Это сложный вопрос. Безусловно, телефон психолога должен быть у администрации и учителей. Кроме того, детям, особенно тем, кто находится в консультативной работе, телефон давать нужно. Они должны иметь возможность связаться с психологом в любое время суток. Практика показывает, что дети не звонят просто так,
для их звонка требуются очень веские причины. Это если психолог четко выдерживает границы. Если же дети стали звонить по любому поводу, следует задуматься, нет ли нарушений в отношениях, не искажена ли иерархия, не позволил ли психолог «поселиться на своей личной территории».
Что же касается взрослых, то не рекомендуем решать какие- либо вопросы по телефону. Можно выслушать и назначить время для более подробного обсуждения. И из этого правила, однако, бывают исключения. Каждый психолог решает этот вопрос для себя сам. Единственное пожелание — не стоит превращать свою частную жизнь в продолжение рабочей.
Любая консультация предваряется или начинается с прояснения запроса, т. е. с определения цели обращения к психологу. Если в самом начале четко и однозначно не обозначить запрос, дальнейшая работа может быть сопряжена со значительными трудностями: начиная от простого недопонимания и кончая попаданием в многослойное манипулятивное взаимодействие.
Прежде всего мы отделим предъявление запроса на получение консультации «для себя» и предъявление запроса на получение консультации «для другого». Когда человек приходит и говорит, что у него самого трудности или проблема, и просит помочь разобраться с трудностями или решить проблему, то запрос предъяв
ляется на помощь себе. Когда человек приходит и говорит о том, что у другого трудности или проблема, то запрос предъявляется на помощь другому. В первом случае он говорит «помоги мне», во втором — «помоги ему». Причем во втором случае человек подразумевает, что помощь будет оказывать именно психолог и именно
другому человеку и что роль обратившегося к психологу заключается лишь в том, чтобы указать ему, что именно не так в другом человеке, обратить, так сказать, внимание и проявить бдительность. И в первом и во втором случае необходимо получить конкретный запрос на оказание психологической помощи.
На самом деле и в том и в другом случае человек запрашивает помощь для себя, а не для другого. Только для того, чтобы прямо запро
сить помощь себе, нужна определенная психологическая зрелость и известное мужество. Особенно когда дело происходит в организации. Многие люди считают, что обращаются за помощью только слабаки и некомпетентные специалисты, которые сами не знают, как выйти из сложной ситуации. Обратиться за помощью — означает распи
саться в своем невежестве. Поэтому так часты заявки на помощь «для
другого». В школе чаще всего «заявляют» детей.
![]() Не
так часто бывает, что дети сами обращаются к психологу за помощью. Это возможно
лишь в тех случаях, когда психолог уже завоевал доверие детей, или если
учитель, которого ребенок уважает и которому верит, советует обратиться за
помощью, или если ребенку настолько плохо, что он готов на любой контакт,
могущий принести облегчение. В основном ребенка н а п р а в л я ю т
Не
так часто бывает, что дети сами обращаются к психологу за помощью. Это возможно
лишь в тех случаях, когда психолог уже завоевал доверие детей, или если
учитель, которого ребенок уважает и которому верит, советует обратиться за
помощью, или если ребенку настолько плохо, что он готов на любой контакт,
могущий принести облегчение. В основном ребенка н а п р а в л я ю т
к психологу или п р и в о д я т к психологу, нередко сопровождая словами: «Посмотрите, все ли у него в порядке с головой, он ведет себя как сумасшедший». Передавая ребенка таким образом, учитель, администратор или родитель как бы говорит: «Сделай мне его таким, каким он мне будет нравиться. Я не знаю и не хочу знать, что ты с ним будешь делать, но исправь (почини, настрой на мою волну, залатай, укроти и т.д.)». Если психолог начинает работу с
ребенком, исходя из такого посыла, то его труд обречен на неудачу, так как совершенно непонятно, кого и зачем он консультирует.
Подобным же образом может поступить заявка и от администрации, которая попросит «поговорить» с каким-либо учителем или родителем, так как у него (у учителя, родителя) большие проблемы и она (администрация) сильно беспокоится за психическое состояние данного учителя или родителя.
Учитель (или родитель) обращается за помощью по поводу какого-либо ребенка только тогда, когда его поведение или состояние внушает взрослому беспокойство. Эту помощь он может по
лучить в любом виде: объяснениях, дополнительной информации, в нахождении новых способов поведения, изменении ракурса рассматриваемой проблемы и т. д. Психологу-консультанту надо иметь
в виду, что это у обратившегося за консультацией взрослого трудности в общении с этим ребенком или в его воспитании. Это означает, что взрослый испытывает замешательство, недоумение, страх, неспособность самостоятельно справиться с выполнением своих профессиональных или родительских обязанностей. Или же он не
уверен, что его методы правильны, и хотел бы получить подтверждение в том, что путь, который он выбрал, приведет к успеху. Данному взрослому нужна консультация, которая приведет в результате к полноценному, успешному выполнению своих функций воспитателя или родителя.
![]() В
идеале картина должна быть следующей. На консультацию к психологу приходит
взрослый человек и говорит о том, что ему сложно общаться с определенным
ребенком, что он испытывает сильные чувства (чаще всего негативные) по
отношению к этому ребенку, что он не знает, как себя с ним вести. В результате
он просит помочь разобраться, все ли он делает правильно, чтобы наладить
контакт с этим ребенком, и спрашивает, с чем могут быть связаны такие сильные
чувства по отношению к нему.
В
идеале картина должна быть следующей. На консультацию к психологу приходит
взрослый человек и говорит о том, что ему сложно общаться с определенным
ребенком, что он испытывает сильные чувства (чаще всего негативные) по
отношению к этому ребенку, что он не знает, как себя с ним вести. В результате
он просит помочь разобраться, все ли он делает правильно, чтобы наладить
контакт с этим ребенком, и спрашивает, с чем могут быть связаны такие сильные
чувства по отношению к нему.
После консультации учитель (или родитель) может построить свое взаимодействие с ребенком так, чтобы ребенку было легче и проще справиться с проблемой. Тогда непосредственно с ребен
ком можно и не проводить психологической работы. Учитель (или родитель) получает знание и инструмент и далее сам преодолевает возникшие разногласия или препятствия, исходя из полученного нового видения. Или же учитель заметил изменения в поведении ребенка, или узнал что-то о переменах в жизни ребенка и просит психолога посмотреть, нужна ли ребенку специальная психологическая помощь и как ему (учителю) себя вести с ребенком исходя из новых обстоятельств. В таком случае консультант принимает решение заниматься с ребенком и отдельно консультирует учи
теля относительно того, как ему себя вести. Консультант только консультирует, но никак не воспитывает ребенка. Он может только помочь найти варианты решений, но не заменять учителя в его функциях обучения и воспитания.
Обратиться за консультацией может и представитель администрации, который испытывает определенные трудности в работе с каким-либо учителем или в общении с родителями некоторых учеников. Тогда он запрашивает способы и методы работы с данным учителем или данным родителем. Опираясь на новые знания, по
лученные в процессе консультации, представитель администрации может иначе построить взаимодействие с «трудными» учителями и «трудными» родителями.
![]() Темп
и ритм школьной жизни настолько высок, что, как уже говорилось, многие важные
дела и вопросы решаются на ходу: в коридоре, в столовой, на перемене, по дороге
домой. Соответственно и психологов вылавливают в раздевалке и в промежутках
между сессиями, на бегу вываливая сложную проблему и требуя немедленно дать
совет, как поступить в том или ином случае. Тут же может подойти еще один
учитель и подключиться к обсуждению. Потом, забыв о психологе, учителя могут
перейти к ожив
Темп
и ритм школьной жизни настолько высок, что, как уже говорилось, многие важные
дела и вопросы решаются на ходу: в коридоре, в столовой, на перемене, по дороге
домой. Соответственно и психологов вылавливают в раздевалке и в промежутках
между сессиями, на бегу вываливая сложную проблему и требуя немедленно дать
совет, как поступить в том или ином случае. Тут же может подойти еще один
учитель и подключиться к обсуждению. Потом, забыв о психологе, учителя могут
перейти к ожив
ленному обсуждению проблем воспитания и обучения, жалуясь друг другу на тяжелые условия работы. После этого учитель бросает: «Ну мы с вами договорились, вы его посмотрите» — и убегает на урок или по делам. Через день или два, пробегая мимо вас, он кричит: «Ну что, посмотрели? И что вы по этому поводу думаете?» Вполуха выслушав ваш сбивчивый рассказ, он радостно сообщает: «Ну вот, я же знала, что ничего нельзя сделать!» или: «Я так и
думала, я именно это и говорила директору школы!»
Чтобы подобное не стало нормой, необходимо планомерно и последовательно доводить до сознания учителей и администрации важность предъявляемых психологу сведений и запросов. Учитель, имеющий проблемы, должен выделить специальное время для предварительной беседы с психологом, пусть и короткой. Результатом беседы должен стать конкретно сформулированный и записанный в присутствии учителя запрос.
П о л у ч е н и е з а п р о с а и з а к л ю ч е н и е к о н т р а к т а н а п о м о щ ь « д р уг ому» — очень важный момент в работе школьного психолога.
Чем четче и конкретнее будет озвучен запрос, тем легче будет удовлетворить его.
Для формирования запроса нужно получить ответ на несколько п р е д в а р и т е л ь н ы х в о п р о с о в .
П е р в ы й в о п р о с , на который следует получить конкретный ответ, звучит так: «В чем вы видите проблему?»
Ответ на этот вопрос заставляет человека, обратившегося за консультацией, выделить главное из всего потока раздражения, недовольства и беспокойства, которые он испытывает по отношению к другому человеку или к себе.
![]() Например,
жалобы учителей по поводу какого-либо ребенка чаше всего бывают очень
расплывчатыми и неконкретными. В одну кучу валятся и трудности с учебой
(невнимательность, отсутствие мотивации к учебе, неспособность к математике и
т.д.) и проблемы с одноклассниками, и черты характера (зависимость,
подозрительность, грубость и т.д.). Понять, что же здесь является основным
беспокоящим моментом, очень сложно. Поэтому вопрос «В чем вы видите проблему?»
превращается часто в небольшое интервью о характере и поведении этого ребенка.
Задача этого интервью — выделить главное, то, что волнует данного конкретного
учителя.
Например,
жалобы учителей по поводу какого-либо ребенка чаше всего бывают очень
расплывчатыми и неконкретными. В одну кучу валятся и трудности с учебой
(невнимательность, отсутствие мотивации к учебе, неспособность к математике и
т.д.) и проблемы с одноклассниками, и черты характера (зависимость,
подозрительность, грубость и т.д.). Понять, что же здесь является основным
беспокоящим моментом, очень сложно. Поэтому вопрос «В чем вы видите проблему?»
превращается часто в небольшое интервью о характере и поведении этого ребенка.
Задача этого интервью — выделить главное, то, что волнует данного конкретного
учителя.
Любое обобщенное высказывание уточняется и конкретизируется:
— В чем конкретно вы видите проблему?
— Как именно он ведет себя с одноклассниками?
— Какой из описанных вами поступков вызывает у вас наибольшее раздражение?
— Что вы имеете в виду под невнимательностью?
— Как понять ваше высказывание «зависимое поведение»?
— В чем конкретно проявляется его наглость?
— А вы сами как бы охарактеризовали его поведение? (В ответ на попытку спрятаться за мнение других людей.) — А что вы сами думаете по этому поводу?
Необходимо понять, что учитель вкладывает в каждую характеристику, которую дает ученику, его поведению, и в заключение еще раз уточнить: «Давайте еще раз уточним, в чем вы видите проблему».
После этого проблема еще раз проговаривается в том виде, в котором она прозвучала в заключение этого интервью, и записывается.
«Итак, на ваш взгляд, проблема в том, что этот ученик ведет себя очень грубо с одноклассниками и даже с учителями. Я могу это записать в таком виде?»
Хотелось бы обратить внимание на непременное присутствие в формулировке проблемы слов: «на ваш взгляд», «по вашему мнению» — вводных фраз, показывающих, что слова учителя (или
другого обратившегося за консультацией человека) всего лишь мнение, впечатление, предположение, а не окончательный диагноз и что это его личное мнение, а не всеобщее впечатление.
Иногда у студентов возникает опасение, что подробный расспрос может травмировать человека, обратившегося за помощью, что конкретные вопросы скорее напоминают допрос, а не расспрос. Или что такое поведение психолога говорит о его некомпетентности, что он должен уметь сразу понять и определить проблему сам, только лишь услышав несколько невнятных фраз.
В таких случаях поможет внутренняя установка психолога, которая может звучать примерно так: «Мне очень интересно все, что вы говорите. Я уверен, что ваш взгляд очень точный и внимательный, что вы знаете гораздо больше меня, так как ежедневно наблюдаете данного человека в жизни. Я буду благодарен вам за любую информацию, которая поможет мне быстрее и точнее разобраться в проблеме».
Иногда имеет смысл этот текст озвучить. Это позволяет человеку почувствовать свою значимость и компетентность, что очень важно для сотрудничества. Кроме того, уточняющие вопросы — это грамотные вопросы, и они сразу же создают впечатление того,
что психолог знает, о чем спрашивать, а не просто разговаривает.
В т о р о й в о п р о с , который задается далее, очерчивает сферу ответственности психолога-консультанта: «В чем вы видите мою помощь как специалиста? Что я как психолог, по вашему мнению, могу здесь сделать?»
Этот вопрос часто ставит в тупик, поскольку направлен в том числе и на прояснение скрытых запросов. Таких, например, как: «Сделай мою работу за меня», или «Утешь меня», или «Скажи, что я все делаю правильно», или «Измени его» и т.д. Он сразу ставит психолога-консультанта рядом, а не вместо. И определяет ту узкую сферу деятельности, которая доступна только психологу.
Если же человек начинает настаивать на поручении, не входящем в сферу влияния психолога-специалиста (например, сделайте так, чтобы он меня слушался и выполнял все мои требования), можно поинтересоваться: «Как, по вашему, я могу это сделать?» Или: «Как вы это себе представляете?» И далее: «Как вы думаете, если я сделаю то, чего вы от меня ждете, это действительно снимет
данную проблему, и он впредь всегда и во всем будет вас слушаться? Или вы планируете каждый раз приводить его ко мне для воздействия? И что вы будете делать, если меня или какого-то другого психолога не окажется в данный момент под рукой?»
![]() Отметим,
что за подобными стремлениями клиента стоит не злостное желание полностью
устраниться и свалить всю работу на другого человека, а убежденность в том, что
все, что можно, уже сделано и что других способов нет, что только остались
такие мощные методы, как вмешательство психолога, а дальше — только колония и
тюрьма. За этой утрированной фразой стоят действительные страхи и мысли многих
людей, обратившихся за помощью по
Отметим,
что за подобными стремлениями клиента стоит не злостное желание полностью
устраниться и свалить всю работу на другого человека, а убежденность в том, что
все, что можно, уже сделано и что других способов нет, что только остались
такие мощные методы, как вмешательство психолога, а дальше — только колония и
тюрьма. За этой утрированной фразой стоят действительные страхи и мысли многих
людей, обратившихся за помощью по
86
поводу тревожащего их поведения другого человека. Им кажется, что все уже перепробовано, что выхода нет и одна надежда — на постороннего человека, который сделает это каким-то необъяснимым новым способом.
Т р е т и й в о п р о с , который может прояснить, что было сделано этим человеком, чтобы самостоятельно справиться с проблемой, формулируется следующим образом: «Скажите, какие методы воздействия вы уже использовали?», «Что вы уже пробовали делать для решения данной проблемы?», «Как вы до сих пор выходили из положения?», «Что еще вы пробовали делать?».
Ответ позволяет психологу-консультанту, во-первых, понять насколько серьезной может быть проблема, во-вторых, определить, насколько человек, обратившийся за помощью, осознает свои возможности и видит свой вклад в решение проблемы, а в-третьих, позволяет перейти с обсуждения третьего лица непосредственно к тому, кто нуждается в консультации. Подчеркнув важность уси
лий, которые человек предпринял для решения проблемы прежде, чем обратился за помощью к психологу, можно уточнить: «Как вы думаете, все ли возможности были использованы, или, может быть, есть что-то еще, о чем вы забыли, или просто не знаете, как
это сделать?»
В этом месте беседы обычно решается, как дальше будет строиться работа с данным человеком. Либо он сам придет на консультацию и будет искать новые возможные выходы из сложной ситуации. Либо он предпочтет, чтобы психолог со своей стороны попытался решить эту проблему.
![]() В
любом случае можно сказать следующее: «Я вижу (слышу, чувствую), что вы многое
сделали для решения этой сложной ситуации (проблемы), и я вижу, что вы очень
хотите найти оптимальное для этого случая решение. Я заметил также, что у вас кончилось
терпение и вы находитесь в растерянности относительно того, что же делать
дальше. Мы можем попробовать найти новый подход, который просто не приходил вам
в голову раньше, и я уверен, что есть интересные и необычные решения». Дальше
беседа либо заканчивается договором о консультации, либо, если человек
предпочтет второй вариант, следует ее продолжение.
В
любом случае можно сказать следующее: «Я вижу (слышу, чувствую), что вы многое
сделали для решения этой сложной ситуации (проблемы), и я вижу, что вы очень
хотите найти оптимальное для этого случая решение. Я заметил также, что у вас кончилось
терпение и вы находитесь в растерянности относительно того, что же делать
дальше. Мы можем попробовать найти новый подход, который просто не приходил вам
в голову раньше, и я уверен, что есть интересные и необычные решения». Дальше
беседа либо заканчивается договором о консультации, либо, если человек
предпочтет второй вариант, следует ее продолжение.
Иногда психолог сразу видит, что далеко не все возможности были использованы, что есть еще по крайней мере две-три, которые лежат на поверхности. Большим искушением бывает начать сразу же перечислять их. В таком случае полезно задать себе во
прос: «А с чего это я взял, что я лучше знаю, как надо поступать в этом случае? Если эта возможность не была использована, значит на это есть веские основания. Я их не знаю». Установка, которая позволяет не лезть со своими советами, гласит: «Тот, кто обратился за помощью, сделал все от него зависящее на данный момент времени, чтобы разрешить эту проблему самостоятельно. Он искренне хочет ее решить. И если до сих пор это ему не удалось, значит что-то ему мешает. Моя задача помочь ему разобраться с помехами и найти силы реализовать свои возможности». И не более
того.
Родители чаше выказывают готовность работать над своими способами воспитания и взаимодействия с ребенком, чем учителя. Этому, как уже говорилось, есть объяснение — страх обвинения в некомпетентности. Поэтому-то так важно признание заслуг и усилий, которые учитель предпринял до того, как обратился к психологу. Учителя, как правило, выбирают вариант, когда с ребенком должен поработать психолог. Если беседа пошла по такому руслу, далее следует заключить контракт на оказание психологической помощи ребенку. Контракт заключается с тем, кто сде
лал заявку, т.е. с родителем или учителем (или администрацией).
Ч е т в е р т ы й в о п р о с направлен на выделение критериев оценки эффективности психологического воздействия: «Каким образом вы определите, что проблема решена? По каким признакам вы увидите, что наступило улучшение? Что конкретно изменится в его поведении, настроении, что позволит вам ска
зать, что работа прошла успешно? Что будет иначе?»
![]() Ответ
даст психологу четкие ориентиры того, что конкретно от него требуется, позволит
скорректировать нереальные ожидания, например изменение характера или
темперамента. Кроме того, человек, обратившийся за помощью, сам начинает
осознавать нереальность некоторых своих претензий и формулирует четкие и
конкретные представления о желаемом поведении другого человека. Или же создает
картину своего будущего существования в позитивном и реалистичном ключе, если
хочет решить свою проблему. Если же он продолжает настаивать на изменении,
например, физиологических характеристик другого человека, следует вернуться к
вопросу о том, каким образом психолог может это сде
Ответ
даст психологу четкие ориентиры того, что конкретно от него требуется, позволит
скорректировать нереальные ожидания, например изменение характера или
темперамента. Кроме того, человек, обратившийся за помощью, сам начинает
осознавать нереальность некоторых своих претензий и формулирует четкие и
конкретные представления о желаемом поведении другого человека. Или же создает
картину своего будущего существования в позитивном и реалистичном ключе, если
хочет решить свою проблему. Если же он продолжает настаивать на изменении,
например, физиологических характеристик другого человека, следует вернуться к
вопросу о том, каким образом психолог может это сде
лать.
Например, мама требует, чтобы ребенок начал делать все быстро, как она сама. Ее раздражает медлительность ребенка, она злится, когда ей приходится ждать его перед выходом на улицу. За этим требованием, безусловно, стоит некая другая проблема отношения матери к собственному ребенку, которую невозможно опре
делить в самом начале. Внешне это выглядит как неспособность мамы принять своего ребенка таким, какой он есть на самом деле. Чем глубже проблема, тем упорнее взрослый будет настаивать на внешнем изменении некоторых параметров ребенка. В данном случае, например, может иметь смысл записать все характеристики, которые перечислит мама, и потом прочитать все сразу. Можно также спросить, насколько получившийся портрет соответству
88
ет ее ребенку. Можно отметить, что, похоже, мама имеет в виду совсем другого ребенка и что даже самому великому психологу не под силу так изменить ребенка, чтобы он стал другим человеком. Тогда это будет уже не он, а кто-то другой. Мы же имеем дело с конкретным человеком со своими характеристиками, особенностями темперамента, потребностями, желаниями, свойствами и т.д. И нам надо научиться жить и взаимодействовать именно с этим человеком, а не с кем-то совсем другим.
![]() Следует
отметить, что подобные случаи редки и поэтому могут вызвать сильное недоумение
и даже страх. Перед таким напором бывает сложно устоять начинающему психологу.
Самый лучший способ в таких случаях — ориентироваться на собственное ощущение
правды, на собственные реальные возможности. Если есть ощущение, что требуемое
невозможно исполнить, это не значит, что психолог некомпетентен и плохой
профессионал, а значит только, что данное требование выходит за рамки
выполнимого.
Следует
отметить, что подобные случаи редки и поэтому могут вызвать сильное недоумение
и даже страх. Перед таким напором бывает сложно устоять начинающему психологу.
Самый лучший способ в таких случаях — ориентироваться на собственное ощущение
правды, на собственные реальные возможности. Если есть ощущение, что требуемое
невозможно исполнить, это не значит, что психолог некомпетентен и плохой
профессионал, а значит только, что данное требование выходит за рамки
выполнимого.
Критерии, по которым подавший заявку определяет улучшения, корректируются до реальных, конкретных и записываются. Определяется также необходимость периодических встреч. Во время этих встреч может произойти постепенное смешение фокуса с ребенка на взрослого и на его проблемы, которые касаются данного ребенка лишь в частности.
Рассмотрим ситуацию п о л у ч е н и я з а п р о с а и з а к л ю ч е н и я к о н т р а к т а на п о м о щ ь «себе».
Если при получении запроса «для другого» определение цели психолого-консультативной помощи обязательно при первом же контакте, то при консультировании человека, который пришел за помощью для себя, постановка цели совсем не обязательно происходит на первой же консультации.
Иногда первая беседа направлена на установление доверия и контакта. Иногда человек не хочет ничего решать, ему нужно, чтобы его выслушали. Иногда эмоциональное состояние настолько тяжелое, что ни о каком структурировании материала не может идти речь. Тогда написание целей откладывается на следующую встречу.
Тем не менее так же, как и в первом случае, полезно задать вопросы, направленные на определение проблемы и запроса.
— В чем проблема?
— В чем вы видите мою помощь как психолога?
— Что было бы для вас хорошим результатом нашей работы?
— Как вы определите, что эта консультация оказалась для вас полезной? Что для вас изменится?
Если же человек пришел для получения конкретной помощи, находится в более или менее адекватном состоянии, способен работать над проблемой или если это уже не первая встреча, то можно определить цели психолого-консультативной работы.
Цель формулируется в совершенном виде, в настоящем времени, без сослагательного наклонения и частички «не». Записыва
ется от первого лица и в настоящем времени.
Например: «Я умею разрешать конфликтные ситуации на работе» или «Я спокоен и уравновешен, когда общаюсь с родителями», «Я уверенно отстаиваю свою точку зрения перед началь
ством».
Цель должна отвечать следующим т р е б о в а н и я м :
— быть конкретной (или специфичной), т. е. касаться довольно узких и конкретных вещей. Иногда при психотерапии клиенты ставят перед собой глобальную проблему, например стать счаст
ливым. Тогда можно оставить это как глобальную цель, к которой надо стремиться, и расписать эту большую цель на множество подцелей — уже конкретных. Например, в это определение счастья может войти интересная работа, прекращение конфликтов с мамой, нахождение сердечного друга, определение взаимоотношений с друзьями, нахождение увлечения и т.д.;
— быть реалистичной (или достижимой), т. е. у клиента должны иметься реальные, а не вымышленные предпосылки для достижения этой цели. Например, если человек ставит себе цель стать миллионером за три года, а сам только что закончил курсы продавцов, то вряд ли эта цель будет достигнута за данный срок само
стоятельно, без получения внезапного наследства и заключения выгодной партии;
![]() —
быть определенной во времени,
т.е. иметь временные рамки, в которых она должна быть достигнута. Например,
цель получения профессии может определяться тремя-пятью годами, а цель
спокойного реагирования в конфликтных ситуациях может быть разрешена в течение
месяца. Задумываясь над вопросом, сколько времени понадобится для достижения
той или иной цели, человек оценивает свои возможности, взвешивает свои силы и
начинает относиться к цели как к реально достижимой. Цель становится осязаемой.
Кроме того, для некоторых людей, для которых собственно достижение цели
является решением их проблемы личных достижений и самооценки, такое временное
ограничение является дополнительным стимулом для работы;
—
быть определенной во времени,
т.е. иметь временные рамки, в которых она должна быть достигнута. Например,
цель получения профессии может определяться тремя-пятью годами, а цель
спокойного реагирования в конфликтных ситуациях может быть разрешена в течение
месяца. Задумываясь над вопросом, сколько времени понадобится для достижения
той или иной цели, человек оценивает свои возможности, взвешивает свои силы и
начинает относиться к цели как к реально достижимой. Цель становится осязаемой.
Кроме того, для некоторых людей, для которых собственно достижение цели
является решением их проблемы личных достижений и самооценки, такое временное
ограничение является дополнительным стимулом для работы;
— быть активной, т.е. по настоящему желанной. Должна существовать достаточно сильная мотивация к достижению цели, чтобы прилагать силы, преодолевать препятствия и не отступать от намеченного пути. Если цель находится вне зоны актуального желания, то она звучит скорее как мечта — сладкая, заманчивая, но очень далекая и недостижимая. Из серии «Если бы я был генералом». Выполнения цели нужно очень и очень хотеть.
90
Большую помощь в мотивации к исполнению цели могут оказать так называемые «чудесные (или волшебные) вопросы», или «вопросы о чуде», разработанные в рамках краткосрочной терапии, ориентированной на решение, Стивом де Шазером и Инсу Ким Берг [94; 111; 102; 109]. «Чудесные» вопросы позволяют при определении цели заглянуть за проблему, представить ее уже решенной, как если бы это был уже свершившийся факт:
— Представьте себе, что вы пришли сегодня после консультации домой, поужинали и легли спать. И вот ночью произошло чудо! Ваша проблема вдруг исчезла. Утром вы встали, а проблемы нет!
Как вы будете себя чувствовать? По каким признакам вы определите, что чудо произошло? Каким будет ваше настроение? Что вы будете делать? Как вы будете себя вести по-новому? Что вы сделаете иначе после того, как произошло чудо? А что вы сделаете потом?
![]() «Чудесные»
вопросы имеют еще одну задачу — выявить скрытые препятствия на пути достижения
цели, если они есть. Такими препятствиями чаще всего бывают близкие люди,
которые не готовы к быстрым и внезапным изменениям и для которых существующее
положение дел отвечает неким потребностям. Даже если сам клиент заявляет о
своей готовности работать над проблемой, подспудно он может ощущать сильное
сопротивление окружающих. Тогда, ощущая сопротивление значимого человека или
всей системы (семьи или организации), клиент скорее откажется от этих
изменений. В то же время, если окружающие поддержат начинание, — это будет
дополнительным, очень мощным мотивирующим фактором. В любом случае идти на риск
лучше, зная, что ждет впе
«Чудесные»
вопросы имеют еще одну задачу — выявить скрытые препятствия на пути достижения
цели, если они есть. Такими препятствиями чаще всего бывают близкие люди,
которые не готовы к быстрым и внезапным изменениям и для которых существующее
положение дел отвечает неким потребностям. Даже если сам клиент заявляет о
своей готовности работать над проблемой, подспудно он может ощущать сильное
сопротивление окружающих. Тогда, ощущая сопротивление значимого человека или
всей системы (семьи или организации), клиент скорее откажется от этих
изменений. В то же время, если окружающие поддержат начинание, — это будет
дополнительным, очень мощным мотивирующим фактором. В любом случае идти на риск
лучше, зная, что ждет впе
реди.
Следующий блок «чудесных» вопросов направлен именно на прояснение этих сдерживающих (или, наоборот, мотивирующих) факторов.
— Кто первый заметит, что с вами произошли изменения? Какова будет его реакция? Как это скажется на ваших отношениях? Как прореагируют другие? Кто больше всех удивится? Кого ваши изменения застанут врасплох? Что они скажут, сделают, подумают? Какими будут ваши отношения через месяц, через год?
Иногда бывает так, что ожидаемая реакция близкого человека настолько резко отрицательная, что клиент сразу же отказывается от данной цели. Тогда имеет смысл поискать либо другую цель, более доступную на данный момент времени, либо составить другую формулировку. Приведем два примера, иллюстрирующих и тот и другой случай.
С л у ч а й п е р в ы й . Среди прочих тем, с которыми пришла молодая женщина на консультацию, прозвучала проблема взаимоотношений с 10-летним сыном. Женщина воспитывала ребенка одна, и ей казалось, что, лишив своего сына отца (она была инициатором развода), она многое делает не так, как надо. Наряду с сильным чувством вины по этому поводу у нее присутствовало очень ярко выраженное стремление сделать так, чтобы сын не был похож на своего отца. Она всячески уничтожат любые проявления в ребенке черт, напоминающих ей манеру поведения бывшего мужа. В ее воспитании превалировали резкий, не терпящий воз
ражений тон, эмоциональные срывы со скандалами, криками и обвинениями, давление на мальчика. Результатом такого воздействия стали ложь мальчика, замкнутость, слезы и обиды. На тот момент, когда она пришла к психологу, она отчетливо понимала, что ее методы воспитания неправильные, что она делает все прямо противоположное тому, что ей хотелось бы. В то же время ее желанием было также избавиться от влияния бывшего мужа на ребенка, несмотря на то что те общались и любили друг друга.
![]() В
ходе беседы выяснилось, что проблема взаимоотношений с сыном была лишь частью
целого кома проблем, которые доставляли беспокойство и тревожили эту женщину.
Тем не менее данная проблема была выделена в конкретную и осязаемую, была
поставлена цель изменения собственного повеления на конструктивное и спокойное.
Отвечая на «чудесные» вопросы, молодая женщина, как она тут же отметила,
ощутила прилив сил и решительно взялась за преодоление собственных
представлений и установок. Ее сомнения исчезли, как только она представила себе
картину будущих отношений с сыном, так как первый, кто намечавшиеся изменения
должен был заметить, был, конечно же, самый значимый в ее жизни человек.
В
ходе беседы выяснилось, что проблема взаимоотношений с сыном была лишь частью
целого кома проблем, которые доставляли беспокойство и тревожили эту женщину.
Тем не менее данная проблема была выделена в конкретную и осязаемую, была
поставлена цель изменения собственного повеления на конструктивное и спокойное.
Отвечая на «чудесные» вопросы, молодая женщина, как она тут же отметила,
ощутила прилив сил и решительно взялась за преодоление собственных
представлений и установок. Ее сомнения исчезли, как только она представила себе
картину будущих отношений с сыном, так как первый, кто намечавшиеся изменения
должен был заметить, был, конечно же, самый значимый в ее жизни человек.
С л у ч а й в т о р о й . В ходе терапии, которая продолжалась уже не первый месяц, всплыла тема актуальных взаимоотношений девушки с ее молодым человеком. Несмотря на то что терапия дли
лась уже довольно долго, данную тему клиентка не поднимала, лишь вскользь иногда рассказывай о неких трудностях во взаимоотношениях. Наконец, на одной из сессий клиентка заявила данную проблему и сказала, что у нее теперь достаточно сил для ее решения. В качестве основного беспокоящего ее факта она отметила ощущение зависимости от молодого человека, неспособность существовать отдельно и независимо от него. К этому моменту они уже три года жили вместе, однако не были расписаны и не имели собственного жилья. Цель была поставлена следующая: «Я все вопросы решаю самостоятельно независимо от мнения Олега».
Отвечая на «чудесные» вопросы, Гатина, так мы назовем девушку, отметила, что первым изменения в ее поведении заметит Олег. Его реакция будет резко отрицательной вплоть до разрыва отношений. Олег, как оказалось позже, очень болезненно реагировал на возросшую самостоятельность Галины, его отношение к
92
![]() сеансам психотерапии,
которые посещала подруга, было неустойчивым и неоднозначным. С одной стороны,
он отмечал, что их отношения стали более спокойными и нежными, с другой — он
боялся личностного роста Галины и опасался ее потерять. В данный момент их
отношений Галина нашла работу в престижной компании, стала хорошо зарабатывать.
Олег же переживал закрытие фирмы, в которой работал. Денег он практически не
зарабатывал. В такой ситуации самостоятельное принятие решений его подругой и
ослабление ее зависимости означало бы для него крах отношений. Как только
Галина представила себе реакцию своего молодого человека, она решила отказаться
на время от этой цели и переформулировала ее в способность спокойно пережидать
неустроенность Олега, не требуя от него денег. По сути эта цель также касалась
ослабления зависимости, но форма ее достижения смещала акценты с противостояния
на принятие.
сеансам психотерапии,
которые посещала подруга, было неустойчивым и неоднозначным. С одной стороны,
он отмечал, что их отношения стали более спокойными и нежными, с другой — он
боялся личностного роста Галины и опасался ее потерять. В данный момент их
отношений Галина нашла работу в престижной компании, стала хорошо зарабатывать.
Олег же переживал закрытие фирмы, в которой работал. Денег он практически не
зарабатывал. В такой ситуации самостоятельное принятие решений его подругой и
ослабление ее зависимости означало бы для него крах отношений. Как только
Галина представила себе реакцию своего молодого человека, она решила отказаться
на время от этой цели и переформулировала ее в способность спокойно пережидать
неустроенность Олега, не требуя от него денег. По сути эта цель также касалась
ослабления зависимости, но форма ее достижения смещала акценты с противостояния
на принятие.
Мы рассмотрели важнейший аспект консультативного процесса, который касается постановки цели. Следует отметить, что несмотря на кажущийся предварительный характер этой процедуры, обсуждение целей является уже собственно психологической работой, при которой выделяется главное, определяются сферы ответственности каждой из участвующих сторон, выявляются реальные возможности и ограничения, появляется ощущение реальной работы и конечности процесса.
Когда определена цель, можно заключать контракт на психологическую работу. В нем еще раз повторяется результат, который должен быть достигнут, определяется примерное количество консультаций или очерчиваются возможности одной-двух консультаций.
Следует сразу же подчеркнуть, что совсем необязательно на первой же встрече удается четко поставить цель и записать ее. Это возможно, как уже говорилось, лишь в том случае, если: во-пер
вых, человек более или менее представляет себе, чего он хочет, и это находится в сфере действия психологического консультирования; во-вторых, человек находится в нормальном эмоциональном состоянии, т.е. способен размышлять, анализировать; в-третьих, целью его является именно решение проблемы, а не какая-то другая цель; в-четвертых, установлен контакт, т. е. некие отношения доверия, а это, как показывает практика, самый важный момент в
начале любой психолого-консультативной работы.
Существует множество рекомендаций относительно того, как лучше строить консультативную беседу, вплоть до указания коли
93
чества времени, которое нужно затратить на тот или иной этап. Можно говорить о стадиях консультативной беседы, последовательно сменяющих друг друга, можно говорить о задачах, решаемых за время консультации. Но с какой стороны ни подойти — это структурированный процесс, подчиняющийся своим законам и
логике. Этим, собственно, консультативная или психотерапевтическая беседа отличается от посиделок на кухне с близкой подругой или задушевной беседы друзей в бане. В самом структурировании и четкости поставленных задач лежит глубокий смысл, направленный на снятие тревоги клиента, появление надежды и возможностей решения трудных жизненных проблем.
Обобщая многочисленную литературу по данному вопросу, можно говорить о начале, середине и конце консультативной беседы, на каждой из которых последовательно, или попеременно, или одновременно решаются межличностные, диагностические,
терапевтические (или лечебные) и информативные задачи [31; 100 и др.]. Для выполнения каждой задачи существуют тщательно разработанные техники, каждая стадия проанализирована и подробнейшим образом описана.
![]() Почти
в каждой книге по психологическому консультированию и психотерапии есть глава,
посвященная структурированию, или описанию отдельной консультации, или первой
встречи с клиентом. И, тем не менее, несмотря на такое обилие информации и
методического материала, самый важный вопрос, который задают себе начинающие
психологи-консультанты, это — «как?» Как вести беседу, на что обращать
внимание, каким образом это делать? На эти вопросы невозможно дать однозначного
ответа и отослать начинающих специалистов к тому или иному источнику. И не
потому, что различных подходов масса и различных техник огромное количество и
разобраться в этом сразу невозможно, а потому, что встреча с клиентом — это не
столько техника и метод, сколько искусство. Может быть, поэтому у различных
психологов- практиков такие разные акценты и комментарии, несмотря на
одинаковое понимание самого процесса и использование по сути дела одних и тех
же техник. Может, поэтому у начинающих психологов, наблюдающих за работой
опытных практиков или читающих отчеты об отдельных сессиях, так много страхов:
подчас невозможно заметить за мастерством технику, за искусством — четкую
структуру, за изяществом — последовательность.
Почти
в каждой книге по психологическому консультированию и психотерапии есть глава,
посвященная структурированию, или описанию отдельной консультации, или первой
встречи с клиентом. И, тем не менее, несмотря на такое обилие информации и
методического материала, самый важный вопрос, который задают себе начинающие
психологи-консультанты, это — «как?» Как вести беседу, на что обращать
внимание, каким образом это делать? На эти вопросы невозможно дать однозначного
ответа и отослать начинающих специалистов к тому или иному источнику. И не
потому, что различных подходов масса и различных техник огромное количество и
разобраться в этом сразу невозможно, а потому, что встреча с клиентом — это не
столько техника и метод, сколько искусство. Может быть, поэтому у различных
психологов- практиков такие разные акценты и комментарии, несмотря на
одинаковое понимание самого процесса и использование по сути дела одних и тех
же техник. Может, поэтому у начинающих психологов, наблюдающих за работой
опытных практиков или читающих отчеты об отдельных сессиях, так много страхов:
подчас невозможно заметить за мастерством технику, за искусством — четкую
структуру, за изяществом — последовательность.
Искусство приходит не сразу, а только после длительного труда, последовательной тренировки и оттачивания отдельных техник, апробации на практике написанных рекомендаций, нахож
дения собственного языка и стиля. На базе осознания: своих предпочтений и критического отношения к чужому опыту; первых собственных удачных находок и отказа от них в какой-то момент; изменения привычных способов работы и риска нового приобретения.
![]() Творчество
возможно лишь при полном понимании тех процессов, которые происходят во
взаимодействии между психологом и клиентом, при четком и структурированном
знании закономерностей этих процессов, а также при наличии умения отслеживать в
каждый конкретный момент собственную позицию. Ниже, наряду с обязательными
техниками, которые можно использовать в практической работе вкупе со многими
другими техниками, будет уделено особое внимание пониманию процессов,
происходящих во время консультативной беседы, взаимосвязи этих процессов между
собой, а также подбору техник под конкретную задачу.
Творчество
возможно лишь при полном понимании тех процессов, которые происходят во
взаимодействии между психологом и клиентом, при четком и структурированном
знании закономерностей этих процессов, а также при наличии умения отслеживать в
каждый конкретный момент собственную позицию. Ниже, наряду с обязательными
техниками, которые можно использовать в практической работе вкупе со многими
другими техниками, будет уделено особое внимание пониманию процессов,
происходящих во время консультативной беседы, взаимосвязи этих процессов между
собой, а также подбору техник под конкретную задачу.
Главный вопрос, который следует начинающему психологу задавать самому себе, — «для чего?» Для чего я делаю то-то и то-то?
Чего я хочу сейчас от процесса? Какова моя цель?
Поскольку мы будем говорить о специфическом консультировании — школьном, перечислим о с н о в н ы е о с о б е н н о с т и ш к о л ь н о й к о н с у л ь т а т и в н о й б е с е д ы .
1. Консультативная беседа в школе часто бывает разовой, без продолжения, поэтому основная ее задача — быть законченной. В данном случае имеется в виду некий конкретный результат. Это накладывает определенные рамки на структуру процесса и на поведение консультанта.
2. Все беседы происходят на территории и в интересах школы как целого. Школа — это организация, которая живет по своим законам и по своим правилам. Консультант является частью этого целого организма и действует, прежде всего, не столько в интересах отдельного человека, сколько в интересах организации. Отдельный человек рассматривается как часть этой организации, и его проблемы — как проблемы организации.
Этот момент очень сложен для понимания, а еще более сложен для выполнения, так как в любой организации действуют разнонаправленные силы, сталкиваются различные интересы, существует явная и скрытая борьба за власть и влияние — система находится в постоянном движении и развитии. Некоторые закономерности существования системы мы рассмотрим отдельно, когда речь пойдет об организационном консультировании. Здесь же важно помнить, что школьный психолог-консультант решает задачи организации как целого, и главная его задача — помощь отдельным
людям в адаптации к требованиям данной конкретной организации.
3. Психологу-консультанту в школе приходится иметь дело с очень разнородным контингентом — и по социальному статусу, и по иерархическому положению внутри организации, и по возрасту, и по интеллектуальному развитию. Помимо знания возрастных и социально-психологических особенностей каждой категории, представленной в школе, необходимо умение быстро переключаться с одного вида консультативной работы на другую, иметь широкий арсенал техник и методов.
4. Психолог-консультант практически всегда работает на стыке различных, часто противоречивых и противоположных интересов, что является сильной эмоциональной нагрузкой. Кроме того, выполняя функцию примирения различных интересов к нуждам организации, он сам является, как мы уже говорили, частью этой системы. Постоянное отслеживание собственной позиции и по отношению к конкретному клиенту, и к организации в целом — одна из основных задач в школе, как и в любой другой организации.
5. Помимо собственно консультативной работы в школе в задачи школьного психолога входят и диагностическая, и коррекционная, и профилактическая, и просветительская деятельность, что делает консультативную работу фрагментарной и почти исключает систематичность и последовательность.
![]() Учитывая
вышеизложенные особенности школьного консультирования, мы большее время и место
уделим тем аспектам, которые чаще всего встречаются именно в практике школьного
консультирования. Это не означает, что некоторые аспекты, которых мы будем
касаться вскользь или недостаточно полно, не имеют важного значения в
психологическом консультировании как таковом, это означает лишь то, что в
рамках учебного пособия по школьному консультированию будут подробно
рассматриваться его важнейшие специфические особенности и предлагаться
конкретные умения и навыки, которые можно смело использовать в работе школьного
консультанта.
Учитывая
вышеизложенные особенности школьного консультирования, мы большее время и место
уделим тем аспектам, которые чаще всего встречаются именно в практике школьного
консультирования. Это не означает, что некоторые аспекты, которых мы будем
касаться вскользь или недостаточно полно, не имеют важного значения в
психологическом консультировании как таковом, это означает лишь то, что в
рамках учебного пособия по школьному консультированию будут подробно
рассматриваться его важнейшие специфические особенности и предлагаться
конкретные умения и навыки, которые можно смело использовать в работе школьного
консультанта.
Если говорить о с т а д и я х к о н с у л ь т а т и в н о г о п р о
ц е с с а, то, по мнению многих психологов, можно вслед за Г. С. Абрамовой [1] выделить пять таких стадий:
1) структурирование и достижение взаимопонимания;
2) выделение проблемы;
3) прояснение желаемого результата;
4) выбор альтернативного решения;5) обобщение результатов беседы.
Обобщенную модель психологического консультирования предлагает Р. Кочюнас; в ней отражены у н и в е р с а л ь н ы е ч е р т ы такого консультирования [37]:
1) исследование проблем, где устанавливается контакт и обоюдное доверие;
2) двумерное определение проблем, где проблема уточняется и оцениваются когнитивные и эмоциональные ее аспекты;
3) идентификация альтернатив — стадия, на которой обсуждаются все возможные альтернативные решения проблемы;
4) планирование — критическая оценка выбранных альтернатив и составление плана реалистичного решения проблем;
5) деятельность — последовательная реализация плана решения проблем;
6) оценка и обратная связь — оценка уровня достижения цели (степень разрешения проблемы) и обобщение достигнутых результатов.
Еще одна модель предложена Б.Д. Карвасарским [31]. Он выделяет следующие стадии:
1) установление контакта;
2) сбор анамнестических сведений и диагностика;
3) определение проявлений болезни в процессе лечения;
4) психотерапевтические воздействия;
5) оценка успешности хода терапии;
6) итог поставленных и решенных в беседе задач.
Учитывая стадиальность консультативной беседы, ее некоторый порядок (например, невозможно подводить итоги беседы, не ознакомившись с проблемой, или вырабатывать решения, не познакомившись с клиентом и не установив с ним первичный контакт), следует ориентироваться все-таки в большей степени не на строгий порядок ведения беседы и тем более не на жесткую привязанность по времени к каждой стадии, а на задачи, которые решаются в процессе беседы.
![]() Хотелось
бы отметить, что з а д а ч и , р е ш а е м ы е в ходе к о н с у л ь т а т и в н
о й в с т р е ч и , не сменяют друг друга последовательно, а переплетаются и
дополняют друг друга в каждый конкретный момент времени. На каждой стадии на
первый план выступает своя — та или иная — задача, однако часто бывает так, что
в течение всей консультации решается одна и та же задача: например, установление
контакта и доверия. Или бывает так, что само предъявление проблемы уже является
тем решением, за которым, собственно, и пришел человек. Поэтому, ориентируясь
на знание стадий и задач консультативного процесса, можно более гибко подходить
к построению консультативной беседы. Но для этого важно понимать те процессы,
которые происходят при решении той или иной задачи.
Хотелось
бы отметить, что з а д а ч и , р е ш а е м ы е в ходе к о н с у л ь т а т и в н
о й в с т р е ч и , не сменяют друг друга последовательно, а переплетаются и
дополняют друг друга в каждый конкретный момент времени. На каждой стадии на
первый план выступает своя — та или иная — задача, однако часто бывает так, что
в течение всей консультации решается одна и та же задача: например, установление
контакта и доверия. Или бывает так, что само предъявление проблемы уже является
тем решением, за которым, собственно, и пришел человек. Поэтому, ориентируясь
на знание стадий и задач консультативного процесса, можно более гибко подходить
к построению консультативной беседы. Но для этого важно понимать те процессы,
которые происходят при решении той или иной задачи.
Мы рассмотрим четыре задачи:
1) межличностную, куда входит установление первичного контакта и доверия, поддержание контакта и доверия в течение всей Консультации, отношения, возникающие при более чем одной консультации, и выход из контакта в конце консультации;
2) диагностическую, которая включает выявление проблемы, выдвижение и проверку гипотез, оценку личностных особенностей клиента, оценку возможности психологической помощи и Подбор адекватных данному человеку и данной проблеме методик; 3) терапевтическую, где происходит применение тех иди иных методов и техник, выдвижение и проверка новых гипотез, оценка эффективности проводимой работы и анализ результатов;
4) информативную, в которую входит обеспечение клиентов некоторыми знаниями, как способствующими решению проблемы, так и сопутствующими выполнению предыдущих задач.
Важность решения той или иной задачи во время консультативной встречи во многом зависит от т и п а к л и е н т а , который пришел на консультацию. В краткосрочной терапии, ориентированной на решение, разработанной Стивом де Шазером и его женой Инсу Ким Берг, а также Евой Липчик и их коллегами, выделяются следующие типы клиентов [94].
«Посетитель». Его, как правило, направляют к психологу-консультанту, он приходит не по своей воле, своих проблем не видит или видит, но лишь как отражение мнения других людей. Обычно он говорит примерно так: «Учительница жалуется, что я плохо себя веду». Или: «Меня к вам направила завуч, она сказала, чтобы я пообщалась с психологом по поводу поведения моего сына». На вопрос «А что ты сам думаешь (вы сами думаете) по этому поводу?» обычно следует ответ типа: «Ну, наверное, она права, я иног
да плохо себя веду», или: «Дома мой сын ведет себя очень хорошо, я не знаю, что с ним происходит в школе», или: «Я не думаю, что проблема настолько серьезна, что мне нужно общаться с психологом, но раз она сказала, то я пришла». Естественно, что такой клиент на данный момент времени не желает ничего менять ни в образе мыслей, ни в поведении, ни в представлениях. Он отбывает повинность на консультации.
![]() «Жалобщик». Он винит во
всех своих неудачах и проблемах окружающих, судьбу, обстоятельства. Он может
охотно приходить на консультацию и охотно рассказывать о своих проблемах.
Однако изменений он ожидает прежде всего от других людей: по его мнению, если
изменятся окружающие, то в его жизни все наладится. Он говорит примерно
следующее: «Это Петров меня задирает и его друзья, они все против меня. Я
никогда первый не лезу. Петров меня ненавидит. Если я бы учился в другом классе
или он ушел, у меня такого не было бы». Или: «Вы знаете, я все делаю для моего
сына, но у нас бабушка, которая ему потакает и все ему разрешает». «Жалобщик»
ждет от терапевта, что тот изменит другого человека или предложит совет или
рекомендации, как это сделать.
«Жалобщик». Он винит во
всех своих неудачах и проблемах окружающих, судьбу, обстоятельства. Он может
охотно приходить на консультацию и охотно рассказывать о своих проблемах.
Однако изменений он ожидает прежде всего от других людей: по его мнению, если
изменятся окружающие, то в его жизни все наладится. Он говорит примерно
следующее: «Это Петров меня задирает и его друзья, они все против меня. Я
никогда первый не лезу. Петров меня ненавидит. Если я бы учился в другом классе
или он ушел, у меня такого не было бы». Или: «Вы знаете, я все делаю для моего
сына, но у нас бабушка, которая ему потакает и все ему разрешает». «Жалобщик»
ждет от терапевта, что тот изменит другого человека или предложит совет или
рекомендации, как это сделать.
«Клиент». Это — мечта любого психотерапевта и консультанта. Клиент знает, что у него есть проблемы, имеет представление о том, что ему хотелось бы изменить в себе самом и в своей жизни, обладает довольно сильным желанием активно действовать.
![]() В
школе абсолютное большинство приходящих на консультацию людей относятся к
первым двум типам: «посетителю» и «жалобшику». Применительно к этим типам
клиентов основными задачами консультирования будут задача установления
терапевтического контакта и диагностическая, т. е. установление доверительной
атмосферы и выделение проблемы. Если эти задачи решены на консультации, то
можно считать консультацию более чем успешной. Совсем не обязательно, что этот
клиент придет на повторную консультацию: для такого типа клиента подобный итог
воздействия практически невероятен. Может быть, он придет через довольно
длительное время, может быть, придет к другому психологу, но вполне вероятно,
что придет он уже как «клиент»,
а не как «посетитель» или как «жалобщик».
В
школе абсолютное большинство приходящих на консультацию людей относятся к
первым двум типам: «посетителю» и «жалобшику». Применительно к этим типам
клиентов основными задачами консультирования будут задача установления
терапевтического контакта и диагностическая, т. е. установление доверительной
атмосферы и выделение проблемы. Если эти задачи решены на консультации, то
можно считать консультацию более чем успешной. Совсем не обязательно, что этот
клиент придет на повторную консультацию: для такого типа клиента подобный итог
воздействия практически невероятен. Может быть, он придет через довольно
длительное время, может быть, придет к другому психологу, но вполне вероятно,
что придет он уже как «клиент»,
а не как «посетитель» или как «жалобщик».
3.5. Межличностные отношения — важнейшая
3.5.1. Особенности межличностных отношений
О важности межличностных отношений, которые устанавливаются между клиентом и консультантом (терапевтом) говорят многие и многие ученые-практики [см. 8; 57 и др.]. В свое время Карл Роджерс, разрабатывая концепцию гуманистического подхода к человеку в психотерапии, проанализировал ряд исследований, в которых изучалось влияние отношений между психотерапевтом и клиентом на результаты психотерапии. Его выводы в то время казались революционными.
К. Роджерс отметил некоторые о с о б е н н о с т и , п р о с л е ж и в а е м ы е во в с е х э т и х и с с л е д о в а н и я х [подробно см. 70].
1. Отношение к клиенту более важно, чем теоретическая ориентация психотерапевта.
Этот вывод был сделан в то время, когда между различными школами и направлениями шла ожесточенная борьба, когда многие исследования проводились с целью выявить единственно правильное теоретическое направление. Позже Сол Гарфилд, предлагая и отстаивая эклектический подход в краткосрочной психотерапии, провел сам и проанализировал множество экспериментальных работ на выявление преимуществ той или иной школы и пришел к таким же результатам [17].
2. Методы и средства, которые использует психотерапевт (консультант), менее важны, чем его отношение к клиенту.
Данное положение подтверждает тот факт, что современные психологи-практики все больше и больше используют в своей работе методы и техники из разных школ и направлений, ориентируясь скорее на нужды клиента, его готовность принять тот или иной метод и на эффективность конкретной техники в решении отдельной
проблемы, чем на предписания теоретического подхода.
3. Ключевым является то, как клиент в о с п р и н и м а е т отношение психотерапевта (консультанта) и методов, используемых психологом. Иногда установки клиента, его страхи, его защиты
оказываются сильнее, и он воспринимает лишь то, что может воспринять, и видит лишь то, что хочет видеть. Отношения между людьми — это обоюдный процесс, и усилия предпринимаются с обеих сторон. Психолог, со своей стороны, делает все, что в его силах, а право клиента и его выбор — соглашаться или нет на пред
ложенные формы взаимоотношений.
В настоящее время положение, что определенные психотерапевтические отношения являются необходимым, а иногда и достаточным условием психотерапевтических изменений, не вызывает сомнений. Тем не менее есть некоторые расхождения в понимании отдельных аспектов этого непростого вопроса. Их мы коснемся далее.
Прежде всего определим, что понимается под психотерапевтическими отношениями и чем они отличаются от любых других межличностных отношений.
Карл Роджерс относил психотерапевтические отношения к особому виду межличностных отношений в целом — к так называемым «помогающим отношениям». Под «помогающими отношениями» он понимал широкий класс человеческих взаимоотношений, в которых «один из участников стремится к тому, чтобы у одной или у обеих сторон произошли изменения в сторону более
![]() тонкого понимания себя, в
сторону усиления выражения и использования всех своих потенциальных внутренних
ресурсов» [70, с. 44 — 45]. Сюда входят отношения между матерью и ребенком,
между отцом и ребенком, между врачом и пациентом, между учителем и учеником (в
некоторых случаях), между консультантом или психотерапевтом и клиентом, а также
между лидером религиозной общины и членами общины, между консультантом и
группой как психотерапевтической (тренинговой), так и в организации; и т.д. То
есть любые отношения, где «по крайней мере одна из сторон стремится к поощрению
другой к личностному росту, развитию, созреванию, улучшению жизнедеятельности и
сотрудничества» [70, с. 44].
тонкого понимания себя, в
сторону усиления выражения и использования всех своих потенциальных внутренних
ресурсов» [70, с. 44 — 45]. Сюда входят отношения между матерью и ребенком,
между отцом и ребенком, между врачом и пациентом, между учителем и учеником (в
некоторых случаях), между консультантом или психотерапевтом и клиентом, а также
между лидером религиозной общины и членами общины, между консультантом и
группой как психотерапевтической (тренинговой), так и в организации; и т.д. То
есть любые отношения, где «по крайней мере одна из сторон стремится к поощрению
другой к личностному росту, развитию, созреванию, улучшению жизнедеятельности и
сотрудничества» [70, с. 44].
Здесь, однако, кроется ловушка для начинающих консультантов (психотерапевтов): стремясь установить подобные отношения
с клиентом, упускаются некоторые в а ж н ы е м о м е н т ы , к о т о р ы е х а р а к т е р и з у ю т э т и о т н о ш е н и я к а к д е л о вые. Сол Гарфилд перечисляет их [17].
1. Цели консультативных или психотерапевтических встреч запланированы и определены.
2.
![]() В
данном общении присутствует односторонность: обсуждаются мысли, чувства и
поведение только одного из партнеров, т.е. нарушается важнейший принцип любых
человеческих отношений — сохранение баланса давать—брать. Вернее, он
существует, но на разных уровнях — клиент и психотерапевт дают и берут друг от
друга разные по сути вещи. Например, клиент запрашивает у психотерапевта
поддержку, которую тот дает. В свою очередь, психотерапевт, поскольку он не
может просить поддержки, а клиент ее дать, берет другим «продуктом», ценность и
важность которого он определяет для себя сам. Клиент даже не догадывается,
каким образом психолог сохраняет баланс в этих отношениях для себя. Если
принцип давать — брать не соблюдается, то возникает пресловутый «синдром
сгорания».
В
данном общении присутствует односторонность: обсуждаются мысли, чувства и
поведение только одного из партнеров, т.е. нарушается важнейший принцип любых
человеческих отношений — сохранение баланса давать—брать. Вернее, он
существует, но на разных уровнях — клиент и психотерапевт дают и берут друг от
друга разные по сути вещи. Например, клиент запрашивает у психотерапевта
поддержку, которую тот дает. В свою очередь, психотерапевт, поскольку он не
может просить поддержки, а клиент ее дать, берет другим «продуктом», ценность и
важность которого он определяет для себя сам. Клиент даже не догадывается,
каким образом психолог сохраняет баланс в этих отношениях для себя. Если
принцип давать — брать не соблюдается, то возникает пресловутый «синдром
сгорания».
3. Психотерапевтические отношения должны характеризоваться доверием и конфиденциальностью. Это элемент профессиональной этики, о чем мы говорили в главе 1.
Д. Г. Трунов в своей статье, посвященной эмоциональному сгоранию психолога, отмечает еще и следующие моменты [80J.
4. Психотерапевтическая помощь — это помощь в специфическом виде, не в житейском понимании. Соответственно и отношения между людьми сводятся к постулату «Я помогу тебе помочь себе самому». Здесь нет места альтруизму, так часто присущему в отношениях между людьми. Или взаимообмену услугами.
5. Психолог-консультант или психотерапевт определенное количество времени «проживает чужую жизнь». То есть все мысли и помыслы одного человека (психотерапевта) заняты перипетиями
жизни и чувствами другого человека. Один человек (психотерапевт) на время погружается в пространство другого человека. И этот процесс сродни с любым другим рабочим процессом, когда задача (в нашем случае другой человек) всецело захватывает и увлекает, на время погружая профессионала в иной мир, будь то компьютерный мир или мир бухгалтерского учета. Это мир рабочего пространства, где психолог р а б о т а е т .
Данное положение обычно вызывает массу возражений у начинающих психологов-консультантов и психотерапевтов. Есть некое представление о м и с с и и психолога, которую он должен с
честью и красиво нести. Я очень осторожно отношусь к пафосу подобных представлений, памятуя о том, что многие величайшие злодейства в истории человечества совершались во имя добра и счастья человечества. По моему глубочайшему убеждению, хорошо выполненная работа принесет гораздо больше пользы, чем выполнение некоей миссии. Стремление начинающих психологов нести знамя истины в народ подчас оборачивается серьезны
101
ми противоречиями в рабочем контексте. Миссия несовместима с платой за ее несение. И это еще один момент, который характеризует психотерапевтические отношения как деловые.
6. За услуги, предоставляемые психологом клиенту, предусмотрена обязательная плата. Часты случаи, когда начинающие психологи работают бесплатно или за мизерную плату, объясняя это своей некомпетентностью. Многие испытывают неловкость от того, что берут плату за собственное удовольствие, ведь эта работа приносит массу положительных эмоций.
7. Психолог не может в одностороннем порядке прекратить эти отношения, например, во время сессии. Психолог не может выйти из подчас напряженных, а иногда и неприятных отношений с клиентом. Он работает, и выстраивание отношений является частью его рабочего процесса. Это одна из его функциональных обязанностей.
Как мы уже говорили, отношения — это обоюдный процесс, в котором участвуют две стороны. С одной стороны, психолог, с
другой — индивид, семья или группа. Соответственно и выстраивание отношений требует усилий с обеих сторон. Невозможно выстроить отношения без взаимообмена.
На становление особых психотерапевтических отношений в процессе консультирования и терапии влияют следующие ф а к
торы:
1) внутренние установки и ожидания клиента;
2) внутренние установки и ожидания консультанта (терапевта);
3) умения и навыки, применяемые психологом-консультантом;
4) личностная проработанность психолога-консультанта (терапевта);
5) личностные особенности и предыдущий опыт клиента.
![]() Недаром
в межличностной задаче, решаемой во время консультации, выделяются такие ступени,
как первый контакт, поддержание контакта, выход из контакта и терапевтические
отношения. На наш взгляд, отношения — это более глубокий процесс. Отношения
возникают не сразу. Прежде чем могут состояться отношения, люди для себя решают
вопрос о возможности или невозможности этих отношений. Так же, как и в жизни,
человеку нужно некоторое время, чтобы сориентироваться и решить, состоятся эти
Недаром
в межличностной задаче, решаемой во время консультации, выделяются такие ступени,
как первый контакт, поддержание контакта, выход из контакта и терапевтические
отношения. На наш взгляд, отношения — это более глубокий процесс. Отношения
возникают не сразу. Прежде чем могут состояться отношения, люди для себя решают
вопрос о возможности или невозможности этих отношений. Так же, как и в жизни,
человеку нужно некоторое время, чтобы сориентироваться и решить, состоятся эти
отношения или нет.
Поэтому любая встреча начинается с установления контакта. Здесь на первый план выступают установки и ожидания обеих сторон. Можно сказать, что контакт — это прояснение позиций, ожиданий, корректировка их и выработка некоего общего пространства для работы. Это пространство обычно бывает вначале маленьким. Его можно называть прихожей. Там надо обязательно потоптаться, оглядеться, сделать несколько ритуальных действий, для того чтобы вместе пройти уже в более просторное помещение.
![]() Во
многих книгах и пособиях по психологическому консультированию и психотерапии
особое внимание уделяется первой встрече, описываются различные техники и
приемы, которые рекомендуется выполнять. Исходя из позиции, что все, что ни
делает психолог во время консультации, должно иметь смысл, т.е. делаться не
просто так, как положено или рекомендовано, а с четким пониманием, д л я ч е г
о это делается, мы будем говорить о техниках и приемах только в связи с
процессами, происходящими на консультации. В данном разделе мы касаемся
собственно процесса — фона, условий, способствующих успешности и
результативности консультации, — и рассмотрим более подробно первые три из
перечисленных выше факторов, влияющих на становление особых
психотерапевтических отношений в процессе консультирова
Во
многих книгах и пособиях по психологическому консультированию и психотерапии
особое внимание уделяется первой встрече, описываются различные техники и
приемы, которые рекомендуется выполнять. Исходя из позиции, что все, что ни
делает психолог во время консультации, должно иметь смысл, т.е. делаться не
просто так, как положено или рекомендовано, а с четким пониманием, д л я ч е г
о это делается, мы будем говорить о техниках и приемах только в связи с
процессами, происходящими на консультации. В данном разделе мы касаемся
собственно процесса — фона, условий, способствующих успешности и
результативности консультации, — и рассмотрим более подробно первые три из
перечисленных выше факторов, влияющих на становление особых
психотерапевтических отношений в процессе консультирова
ния и терапии.
1. Внутренние установки и ожидания клиента. В конце прошлого столетия было проведено интересное исследование, направленное на выявление различных характеристик типичного российского пациента, проходящего психотерапевтическое лечение. Характеристики даны в транскультурном сравнении с западными и американскими пациентами [65].
Ниже приведены основные результаты исследования с краткими пояснениями, имеющими значение для практики консультативной работы. Данные этого исследования могут быть полезны еще и для избирательного, вдумчивого использования различных рекомендаций, техник, подходов, описываемых западными психологами-практиками. Далеко не все рекомендуемые способы подходят к нашему российскому клиенту. И это также надо учитывать при выборе теоретических подходов и практических методов.
Итак, рассмотрим х а р а к т е р и с т и к и т и п и ч н о г о р о с с и й с к о г о п а ц и е н т а .
1. Российский пациент принимает положение, что жизнь трудна и поэтому нужно терпеть. С западной точки зрения — терпение российских людей безгранично. Кроме того, российский пациент убежден, что существует судьба, которой не стоит противиться: сейчас плохо, но потом может все измениться к лучшему. Западный пациент, наоборот, убежден, что жизнь должна быть без проблем: он не принимает проблему как неотъемлемую часть повсе
дневной жизни.
Это обстоятельство надо иметь в виду, прежде чем применять рекомендации зарубежных психологов. То, что для западного человека — проблема, для российского жителя — норма, по которой живут все без исключения. Поговорка «А кому сейчас легко?» в Целом отражает умонастроение большинства населения. Мы при
103
выкли жить трудно, с надрывом, терпеть и надеяться на лучшее. Мы живем как бы в долг, «на потом»: для детей, для внуков, для пенсии.
В нашей культуре жизнь без проблем вызывает раздражение и недоумение. Это ненормально. Считается, что если ты живешь без проблем, то либо скрываешь их, либо ты сволочь, выезжающая на чужом горбу. Поэтому у нас так принято жаловаться на судьбу, на жизнь, на детей, на отсутствие денег и т.д. Быть счастливым — неприлично.
Для российского человека проблема — это что-то глобальное, пугающее, необъятное, мистическое. Поэтому люди часто прихо
дят на консультацию тогда, когда проблема уже неразрешима. Например, по поводу отношений с мужем женщины приходят к психологу тогда, когда муж уже переехал жить к другой женщине или произошел разрыв всяческих отношений. Начиная раскручивать историю взаимоотношений пары, становится ясно, что на каком-
то этапе при помощи специалиста можно было урегулировать разногласия, а не доводить до широкомасштабной войны с применением тяжелой боевой техники, когда уже обе стороны нанесли друг
другу столько обид, что простить становится невозможным.
Или по поводу потерь близких к специалисту обращаются лишь после того, как наступает тяжелейшая депрессия с осложнениями.
Поэтому часто клиент не понимает психолога, который применяет слово «проблема» к обычным жизненный ситуациям.
![]() К
примеру, на первичной консультации одной пары, у которой в течение многих лет
были сложные напряженные отношения, перемежающиеся разрывами, депрессиями мужа,
запоями жены, жена всячески отрицала наличие каких-либо проблем в их семье. Она
не хотела говорить даже о «трудностях во взаимоотношениях», так как в ее представлении
их совместная жизнь была нормальной — не лучше и не хуже других. Единственно,
на что она согласилась, — это то, что есть некоторые различия в понимании друг
друга.
К
примеру, на первичной консультации одной пары, у которой в течение многих лет
были сложные напряженные отношения, перемежающиеся разрывами, депрессиями мужа,
запоями жены, жена всячески отрицала наличие каких-либо проблем в их семье. Она
не хотела говорить даже о «трудностях во взаимоотношениях», так как в ее представлении
их совместная жизнь была нормальной — не лучше и не хуже других. Единственно,
на что она согласилась, — это то, что есть некоторые различия в понимании друг
друга.
Поэтому на первой встрече, если клиент сам не употребляет слово «проблема», лучше ограничиться более слабыми эквивален
тами: «трудности», «затруднения», «сложности» и т.д.
2. В отличие от западных пациентов, и в особенности от американских, которые активно включаются в процесс и сами норовят направлять психотерапевта, российские клиенты пассивны и предпочитают директивный стиль со стороны психотерапевта или кон
сультанта. Они не берут ответственности на себя, не выполняют
домашних заданий, не доводят начатое до конца, приходя на прием, пассивно ждут указаний и вопросов.
Подобная позиция позволяет ничего не делать и устраивать тихий саботаж. Если меня привели, говорит «посетитель», то пусть психотерапевт и старается, а я ничего не буду делать, мне это не надо.
104
Подобное настроение клиента — один из самых трудных моментов в работе психолога -консультанта. В силу особенностей российского психотерапевта, о которых речь пойдет ниже, самое сложное — это не брать активную роль на себя, а давать возможность клиенту самому выбирать свой путь. Технически здесь могут помочь
только открытые вопросы и постоянное внимательное отношение к любому мнению клиента, даже если оно кажется нелепым.
3. В отличие от западных пациентов, которые воспитаны на психоанализе с его многолетним лечением, российский пациент
ориентирован на моментальный результат. И здесь, как справедливо замечает X. Пезешкиан, основными конкурентами являются различного рода целители, которые обещают немедленное излечение. Российский клиент жаждет немедленного улучшения своего состояния. Если этого не происходит, он теряет доверие к специалисту.
![]() Действительно,
на западе краткосрочной считается психотерапия протяженностью в 15 — 20
сеансов, у нас — это уже длительная терапия, а краткосрочная — это 3 — 5 сеансов.
Поэтому, предлагая, например, клиенту краткосрочную психотерапию, следует
учитывать, что в его представлении — это скорее всего будет 2, максимум 5
сеансов. Зная подобную особенность российского пациента, во-первых, не нужно
рассчитывать на то, что он будет приходить много раз, и, во-вторых, исходя из
этого, не пытаться решить его, как правило, глобальную проблему, а ответить на
его нынешние, сиюминутные запросы. Например: быть понятым, выговориться,
получить поддержку, успокоиться, решить какой- нибудь частный вопрос,
пожаловаться и т.д. Как правило, человек приходит на консультацию под влиянием
какой-то сильной стрессовой ситуации или настроения, и если он не готов решать
свою проблему, то он и не будет ее решать, как бы ни старался консультант или психотерапевт.
Особенно э то касается консультантов, так как изначально, по мнению многих
людей, посещение психотерапевта подразумевает некоторый более-менее длительный
процесс, а консультанта — разовый.
Действительно,
на западе краткосрочной считается психотерапия протяженностью в 15 — 20
сеансов, у нас — это уже длительная терапия, а краткосрочная — это 3 — 5 сеансов.
Поэтому, предлагая, например, клиенту краткосрочную психотерапию, следует
учитывать, что в его представлении — это скорее всего будет 2, максимум 5
сеансов. Зная подобную особенность российского пациента, во-первых, не нужно
рассчитывать на то, что он будет приходить много раз, и, во-вторых, исходя из
этого, не пытаться решить его, как правило, глобальную проблему, а ответить на
его нынешние, сиюминутные запросы. Например: быть понятым, выговориться,
получить поддержку, успокоиться, решить какой- нибудь частный вопрос,
пожаловаться и т.д. Как правило, человек приходит на консультацию под влиянием
какой-то сильной стрессовой ситуации или настроения, и если он не готов решать
свою проблему, то он и не будет ее решать, как бы ни старался консультант или психотерапевт.
Особенно э то касается консультантов, так как изначально, по мнению многих
людей, посещение психотерапевта подразумевает некоторый более-менее длительный
процесс, а консультанта — разовый.
4. Российские люди очень мало знают о сущности психотерапии, о ее эффективности, о методах и техниках, применяемых в работе. Нет понимания психологической природы проблем, поэтому проблемы обсуждаются с подругами, родственниками, сослуживцами. Западные же пациенты, как пишет X. Пезешкиан, хорошо осведомлены о различных методах работы психолога и лекарственных препаратах, если психотерапия сочетается с медикаментозным лечением.
Поскольку наши пациенты зачастую не понимают сущности психологической работы, следует внимательно относиться к выбору методов: не использовать, например, технику обмена ролями.
Или, например, не использовать проективные методы, если человек боится, что психолог может получить о нем тайное знание. Помимо того, что нужно использовать только хорошо понятные клиенту методы и техники, следует еще и объяснять, что и для чего делается, что именно психолог хочет выяснить или сделать посредством конкретной техники. Если человек отказывается или подчиняется очень неохотно, то лучше не использовать тот или иной ме
тод, даже если по всем показаниям он как нельзя лучше подходит
для данного случая.
5.
![]() В
российской и западной культурах существуют различные взгляды на возникновение,
причины и лечение психических заболеваний. Для западного человека посещение
психотерапевта является неотъемлемой частью повседневной жизни — это забота о
своем психическом здоровье. Например, к депрессии в России не относятся как к
болезни, это скорее настроение. «Взять себя в руки», «не раскисать», «заняться
чем-нибудь» — обычные советы в таких случаях. X. Пезешкиан отмечает также
большую предрасположенность российских людей объяснять возникновение и причины
болезни наследственными факторами, а также магическими предопределениями.
В
российской и западной культурах существуют различные взгляды на возникновение,
причины и лечение психических заболеваний. Для западного человека посещение
психотерапевта является неотъемлемой частью повседневной жизни — это забота о
своем психическом здоровье. Например, к депрессии в России не относятся как к
болезни, это скорее настроение. «Взять себя в руки», «не раскисать», «заняться
чем-нибудь» — обычные советы в таких случаях. X. Пезешкиан отмечает также
большую предрасположенность российских людей объяснять возникновение и причины
болезни наследственными факторами, а также магическими предопределениями.
Хотелось бы подчеркнуть это обстоятельство, поскольку оно имеет первостепенное значение при работе с российскими клиентами. Автоматически встает вопрос о том, кто виноват в возникновении расстройства или психических отклонений. У российского клиента любое упоминание о том, что человек лично, сам, независимо от других несет ответственность за себя, свои методы воспитания, свое отношение к другим людям, свой выбор профес
сии и т.д., вызывает ужас и резкий отпор. Если ответственность несет сам человек, то он оказывается виноват в том, что что-то не получилось или вышло плохо. Эта реакция накладывается на очень низкую самооценку большинства людей, выросших в советский период развития страны.
Нынешнее поколение гораздо устойчивее своих родителей, но и они несут на себе печать их страхов и переживаний.
6. В народе широко распространена вера в сверхъестественное, в сглаз, порчу (магическо-мистическое мышление). Болезни, проблемы, трудности напрямую связываются с мистическими силами.
Надо сказать, что и многие психотерапевты страдают этим. Поэтому у нас так развиты различные духовные практики, которые объясняют все влиянием неких космических, кармических, природных, биоэнергетических и тому подобных сил. На Западе даже если психотерапевт и верит в предопределение и гороскопы, он ни за что не признается в этом своим коллегам — истинным считается только то, что эмпирически проверено.
![]() Если
мы оставим в стороне мистику и высшие силы, то в любом психическом явлении,
судьбе, проблеме, психической болезни и т.д. можно увидеть вполне материальную
закономерность. Так называемые сглазы, порча, венцы безбрачия зачастую нужно
искать либо в семейных взаимоотношениях, либо в семейных историях. Если
внимательно и много читать научную литературу с результатами эмпирических
исследований по физиологии, нейропсихологии, педагогической, социальной,
зоопсихологии, возрастной психологии и т.д., то можно увидеть массу интересных,
научно доказанных данных о детерминантах различных психических и социальных
явлений.
Если
мы оставим в стороне мистику и высшие силы, то в любом психическом явлении,
судьбе, проблеме, психической болезни и т.д. можно увидеть вполне материальную
закономерность. Так называемые сглазы, порча, венцы безбрачия зачастую нужно
искать либо в семейных взаимоотношениях, либо в семейных историях. Если
внимательно и много читать научную литературу с результатами эмпирических
исследований по физиологии, нейропсихологии, педагогической, социальной,
зоопсихологии, возрастной психологии и т.д., то можно увидеть массу интересных,
научно доказанных данных о детерминантах различных психических и социальных
явлений.
Тем не менее, учитывая магическо-мистическое мышление российского клиента, нужно уметь разговаривать полумистическим языком, употребляя такие понятные и известные слова, как «энергия», «карма», «предопределение», «судьба», «наваждение» и т.д., однако очень хорошо понимая и, по возможности, объясняя клиентам, что имеется в виду под этими словами.
Например, судьба — это то, что человек не может самолично контролировать, предопределение — это семейная история, которая передается из поколения в поколение, энергия — это обычная жизненная сила при отсутствии внутренних психологических запретов и, соответственно, мышечных зажимов. Это, конечно, самое примитивное объяснение, призванное показать возможные аналогии, на самом деле за каждой такой аналогией стоит серьезная теория и значительное количество экспериментальных иссле
дований.
7. В отличие от западных пациентов, дотошно изучающих методы «вмешательства», требующие подтверждений о научной его проверке, российский клиент открыт новым методам и подходам. Ему интересно все новое, даже если оно еще не прошло экспериментальной проверки.
8. В России традиционно силен культ семьи, в отличие от Запада, где сам институт семьи поставлен под сомнение. Создание семьи — обязательный шаг почти для любого молодого человека.
Кроме того, родители и дети очень часто живут вместе, родители имеют огромное влияние на детей, многие решения принимаются либо совместно, либо под их влиянием. Вопрос сепарации в России стоит очень остро. Родители не отпускают своих детей.
Корни этого также лежат в истории нашей страны. Рано потеряв родителей, наши бабушки и дедушки недополучили, а некоторые и вовсе не знали родительского тепла, заботы, защиты, любви. А дефицит удовлетворения такого рода базальных потребностей, как правило, приводит к стремлению получать его любой пеной и из любых доступных источников. Поэтому часто дети становились родителями своим родителям, которые, в свою очередь, также недополучив от родителей необходимых даров, требовали от своих детей выполнения родительских функций.
Например, в нашей культуре приветствуется сын, нежно заботящийся о матери, который звонит ей каждый день, ухаживает за ней, у которого собственные дети и жена стоят после матери. Семьи нашей страны живут как бы «назад» — пытаясь получить от своих детей то, что не получили от своих родителей.
![]() Можно
провести небольшой эксперимент: в пространстве комнаты выстроить воображаемую
линию, один конец которой направлен в будущее, к новой семье или к будущей
жизни, а другой в прошлое, к предкам, родителям. В середине обозначить данный
момент жизни. В середину встать самому и, расслабив тело, прислушавшись к своим
ощущениям и только ощущениям, повернуться в ту сторону, куда потянет. В
огромном количестве случаев, и особенно при проблемах с родителями или детьми,
тело разворачивается в сторону прошлого, в сторону предков. Это означает,
скорее всего, что жизненный путь лежит в обратную сторону, фактически к смерти,
тогда как полноценная жизнь может быть лишь в том случае, если родители и
предки остаются позади, прикрывая тыл и давая силы своим опытом и своими
знаниями. А если позади остается несчастный и капризный ребенок, то сил идти
вперед не будет.
Можно
провести небольшой эксперимент: в пространстве комнаты выстроить воображаемую
линию, один конец которой направлен в будущее, к новой семье или к будущей
жизни, а другой в прошлое, к предкам, родителям. В середине обозначить данный
момент жизни. В середину встать самому и, расслабив тело, прислушавшись к своим
ощущениям и только ощущениям, повернуться в ту сторону, куда потянет. В
огромном количестве случаев, и особенно при проблемах с родителями или детьми,
тело разворачивается в сторону прошлого, в сторону предков. Это означает,
скорее всего, что жизненный путь лежит в обратную сторону, фактически к смерти,
тогда как полноценная жизнь может быть лишь в том случае, если родители и
предки остаются позади, прикрывая тыл и давая силы своим опытом и своими
знаниями. А если позади остается несчастный и капризный ребенок, то сил идти
вперед не будет.
Для психолога, работающего в школе, важно всегда помнить, что семья — главнее, что ни в коем случае нельзя с ней бороться и противопоставлять себя со своими психологическими знаниями родителям. Только в сотрудничестве или хотя бы при молчаливом согласии семьи можно помочь ребенку и взрослому.
9. В России существует транскультурное сознание, в отличие от Западного, где в основном присутствует монокультурное сознание.
Российские люди легко воспринимают иные обычаи, правила, обряды и т.д. Это имеет значение для психотерапии в том смысле, что принятые в среде клиента традиции имеют для него относительный характер, он может допускать наличие каких-то иных способов организации обыденной жизни и верований. Культурные традиции не настолько сильны, как семейные.
10. В отличие от западных традиций психотерапии, в которой со времен 3. Фрейда произошло разделение религии и психотерапии, в российской культуре принято признавать наличие души. Существование души не вызывает сомнений даже у атеистов.
Здесь хотелось бы отметить, что в российском сознании понятие «душа» не обязательно имеет религиозный характер. Для российского человека, отлученного от религии в течение нескольких поколений, душа является эквивалентом духовности и одновременно душевности (сердечности). Это нечто, отличное от приземленной плотской жизни. Душа возвышенна и только ей доступны высшие радости и переживания любви, долга, сострадания, постижения прекрасного. Для нашей культурной традиции характерно использование понятия «душа» вне религиозного содержания.
11. Российский клиент, как правило, требует гарантий успеха психотерапии в самом начале лечения. В случае неуспеха виноватым оказывается психотерапевт. В отличие от западной традиции, где психотерапевт никогда и ни при каких случаях не будет предоставлять гарантии успеха, а в случае неудачного лечения виновным скорее будет признан пациент, который не приложил должных усилий для исцеления.
Для российских психотерапевтов и консультантов, особенно работающих в организации, это дополнительная эмоциональная нагрузка. Следует быть готовым к тому, что в случае не только неудачной консультации, но и отсутствия немедленных, сиюминутных, кардинальных изменений, психолога обвинят в первую очередь. К этому надо относиться как к стихийному бедствию, памятуя о российском стремлении обвинить кого-нибудь, только чтобы не обвинили его самого. Нужно проводить постоянную просветительскую работу в виде лекций, объяснений, выступлений на педсоветах и собраниях, где постоянным лейтмотивом должна звучать тема длительности психотерапии, труда, желания изменений. Хочется также пожелать психологу-консультанту терпения и достоинства при косвенных и прямых нападках на него.
12. В отличие от западного пациента, который критически относится к психотерапевту и строит свои отношения со специалистом на контрактной основе, российский пациент безоговорочно доверяет своему врачу. Однако этого врача он выбирает особенным образом.
![]() В
своей практике и в практике коллег часто наблюдается интересный феномен: важно
не то, что сказано, а то, кем и каким тоном это сказано. Совершеннейшая
нелепость, сказанная непререкаемым тоном какой-нибудь соседки, о которой кто-то
сказал, что она обладает сверхъестественными способностями, может стать истиной
в последней инстанции. А все потуги психолога-профессионала, если он не
отвечает неким представлениям, будут восприниматься с полным недоверием.
Российский пациент безоговорочно доверяет не самому врачу, а его авторитету, а
также человеку, обладающему харизмой. В то время как в западной культуре
пациент и психотерапевт выступают как партнеры, одинаковые по положению, у нас
часто можно встретить слепое обожание при полном отсутствии критического
отношения. В то же время российский пациент патологически недоверчив из-за
случаев со злоупотреблениями в психиатрии представителями государственной
власти.
В
своей практике и в практике коллег часто наблюдается интересный феномен: важно
не то, что сказано, а то, кем и каким тоном это сказано. Совершеннейшая
нелепость, сказанная непререкаемым тоном какой-нибудь соседки, о которой кто-то
сказал, что она обладает сверхъестественными способностями, может стать истиной
в последней инстанции. А все потуги психолога-профессионала, если он не
отвечает неким представлениям, будут восприниматься с полным недоверием.
Российский пациент безоговорочно доверяет не самому врачу, а его авторитету, а
также человеку, обладающему харизмой. В то время как в западной культуре
пациент и психотерапевт выступают как партнеры, одинаковые по положению, у нас
часто можно встретить слепое обожание при полном отсутствии критического
отношения. В то же время российский пациент патологически недоверчив из-за
случаев со злоупотреблениями в психиатрии представителями государственной
власти.
Получается парадоксальная ситуация — для того, чтобы поверить специалисту, российскому человеку нужны дополнительные «стимулирующие» факторы в виде восторженных рекомендаций, таинственного имиджа, некоего тайного знания, харизмы. И в то же время, поверив ему, он теряет способность мыслить и действовать самостоятельно.
13. В отличие от представлений западных психологов о том, что препятствия на пути к изменению личности лежат в некоторых особенностях личности и поведения пациентов, российскому клиенту скорее мешает деформация личности, связанная с историей страны. Основными здесь являются базальная тревога, витальный страх, глобальное недоверие не только к государственным органам, но и к друзьям и родственникам, ощущение постоянного контроля, расщепление между ценностями общества и индивидуума при полном пренебрежении к потребностям отдельного человека.
Хотелось бы отметить, что дети в полной мере несут на себе печать страхов и опасений своих родителей, они также боятся людей и не доверяют им, они также ждут обвинений и наказаний, они
также страдают от пренебрежения к их потребностям и чувствуют постоянную тревогу. Но в отличие от родителей они имеют очень слабое представление об истории страны и о тяжелом опыте своих предков. Поэтому психологу, работающему с детьми с высокой тревожностью, приходится иметь дело в основном с симптомами, но никак не с причиной (если, конечно, не было действительно травмирующей ситуации в жизни самого ребенка). И поэтому при работе с детьми так важно установление контакта и доверия, ко
торое тяжело возникает и очень хрупко.
2. Внутренние установки и ожидания консультанта (психотерапевта). На основе теоретических выкладок К. Роджерса Дж.Холкайдс провела исследование, в котором изучались условия психотерапевтических изменений [107; 104]. Было доказано, что необходимыми и достаточными условиями психотерапевтических
![]() изменений служат три фактора
(триада Роджерса): а) выражаемая консультантом степень эмпатического понимания
клиента; б) степень позитивного эмоционального отношения (безусловное
позитивное принятие), выражаемое консультантом к клиенту; в) степень
искренности консультанта, соответствие его слов испытываемым внутренним
чувствам [цит. по: 70]. Нам трудно здесь определить и, соответственно,
разделить по рубрикам, что из этого набора относится к установкам, что к
техническим приемам, а что к личности психотерапевта (консультанта). Подобное
отношение к клиенту включает все три момента. Далее, несколько искусственно
разделяя деятельность психолога-консультанта на составные части, мы будем иметь
в виду, что все нижеизложенное имеет отношение к данной триаде.
изменений служат три фактора
(триада Роджерса): а) выражаемая консультантом степень эмпатического понимания
клиента; б) степень позитивного эмоционального отношения (безусловное
позитивное принятие), выражаемое консультантом к клиенту; в) степень
искренности консультанта, соответствие его слов испытываемым внутренним
чувствам [цит. по: 70]. Нам трудно здесь определить и, соответственно,
разделить по рубрикам, что из этого набора относится к установкам, что к
техническим приемам, а что к личности психотерапевта (консультанта). Подобное
отношение к клиенту включает все три момента. Далее, несколько искусственно
разделяя деятельность психолога-консультанта на составные части, мы будем иметь
в виду, что все нижеизложенное имеет отношение к данной триаде.
Обратившись вновь к транскультурному исследованию, отметим х а р а к т е р н ы е ч е р т ы и у с т а н о в к и р о с с и й с к о
го п с и х о т е р а п е в т а (консультанта), которые влияют на ус
тановление психотерапевтических отношений.
![]() 1.
Образование российского психотерапевта носит бессистемный характер. В
институтах в основном дается общее психологическое образование, акцент в
котором делается на теорию. Различные психотерапевтические школы даются иногда
в краткосрочных курсах, а иногда в виде ознакомительных лекций. После окончания
института российские выпускники зачастую продолжают образование по какому-либо
направлению. Это постдипломное образование занимает от нескольких месяцев до
нескольких лет.
1.
Образование российского психотерапевта носит бессистемный характер. В
институтах в основном дается общее психологическое образование, акцент в
котором делается на теорию. Различные психотерапевтические школы даются иногда
в краткосрочных курсах, а иногда в виде ознакомительных лекций. После окончания
института российские выпускники зачастую продолжают образование по какому-либо
направлению. Это постдипломное образование занимает от нескольких месяцев до
нескольких лет.
Российский начинающий психотерапевт или консультант не имеет возможности получить супервизию, так как эта практика не развита, кроме того, на многих курсах отсутствует практика
получения собственного психотерапевтического опыта. X. Пезешкиан отмечает, что психотерапевт в России, как правило, очень
творческий, гибкий и относительно уверенный в себе.
На Западе студенты получают психотерапевтическое образование параллельно с профессиональным. Личный опыт в психотерапии считается обязательным во всех психотерапевтических школах, так же как и обязательная супервизорская практика. Обучение занимает много лет и не всегда бывает успешным.
Здесь хотелось бы отметить, что иногда уверенность российского психотерапевта происходит от невежества. Имея малое представление о психических закономерностях, о лечебном эффекте того или иного метода, не имея абсолютно никакого опыта собственной психотерапевтической работы, он «творит» с воодушевлением, абы что-нибудь получится.
Психотерапией можно заниматься т о л ь к о пройдя серьезную постдипломную специализированную подготовку с обязательным опытом собственной личностной проработки и желательно, по возможности, с консультациями у супервизора.
2. Российский психотерапевт, в отличие от западного, не работает в одном направлении в рамках одной терапевтической школы или одного метода. Чаще всего применяется эклектический подход. Большим спросом, в силу особенностей российского кли
ента (см. выше), пользуется краткосрочная терапия.
Так как российские специалисты не ограничены рамками одного подхода, у них есть возможность гибко применять методы и техники в зависимости от личностных особенностей клиента и для каждого конкретного случая.
На Западе специалист сильно ограничен методом или подходом, в рамках которого он получил образование. Специалиста и воспринимают как представителя какой-либо школы. Выбирают не конкретного психотерапевта, а направление, о котором клиент имеет представление, и которое, как ему кажется, ему подходит.
3. В связи с предыдущим пунктом выявляется следующая особенность российского психотерапевта — он берется за любые случаи, за любые болезни и нарушения.
На Западе принято отправлять клиентов к специалистам, занимающимся конкретной проблемой. Кроме того, западный кли
ент получает направление к психотерапевту только после того, как его обследуют на предмет органических заболеваний.
Пока у нас нет подобной практики, поэтому так велика опасность серьезной ошибки, когда психически больного человека начинают лечить без соответствующих медицинских знаний. Поэтому настоятельной рекомендацией является обязательное наличие у любого психотерапевта и консультанта коллеги врача-психиатра, для того чтобы при малейшем сомнении отправлять клиента на обследование. Следует помнить, что больной человек ведет себя не так, как здоровый, и реакции его могут быть непредсказуемыми.
4. Психотерапия носит преимущественно суппортивный (поддерживающий) характер. И соответственно ограничивается несколькими сеансами, в отличие от западной, где применяется чаще всего глубинно-психологическая психотерапия, занимающая не менее 50 сеансов (оплачиваемых социальным страхованием). В процесс психотерапии в России нередко вплетаются и социальные проблемы, и психотерапевт вынужден ими заниматься.
Российский психотерапевт, опять-таки в силу особенностей российского клиента, часто работает в директивно-суггестивном стиле, он «ведет» клиента и отвечает за него.
5. В отличие от Запада и Америки, где психотерапия является уважаемой и солидной профессией, в России психотерапия постоянно конкурирует с целителями, гадалками, магами и экстра
сенсами, которые обещают немедленное исцеление за один сеанс с 200%-ной гарантией, нередко без присутствия самого больного. Психотерапевт в России находится под постоянным гнетом немедленных результатов.
6.
![]() И
наконец, наверное самая яркая черта российского психотерапевта — это его
альтруизм. С одной стороны, российские психотерапевты эмпатичны,
сострадательны, искренне заинтересованы в клиенте, вкладывают свою душу и
«работают личностью». С другой стороны, психотерапевты, особенно начинающие,
очень быстро сгорают, поддаваясь альтруистическим установкам: не берут денег за
свои услуги, лечат родных и близких, друзей и родственников, в результате
получают большие проблемы в отношениях и либо уходят из профессии, либо
перестают заниматься психотерапией и консультированием.
И
наконец, наверное самая яркая черта российского психотерапевта — это его
альтруизм. С одной стороны, российские психотерапевты эмпатичны,
сострадательны, искренне заинтересованы в клиенте, вкладывают свою душу и
«работают личностью». С другой стороны, психотерапевты, особенно начинающие,
очень быстро сгорают, поддаваясь альтруистическим установкам: не берут денег за
свои услуги, лечат родных и близких, друзей и родственников, в результате
получают большие проблемы в отношениях и либо уходят из профессии, либо
перестают заниматься психотерапией и консультированием.
Как мы уже отмечали, на Западе психотерапевт — это профессия из сферы услуг, отмеченная прежде всего деловыми отношениями. И если западному специалисту нужно все время напоминать об эмпатии как обязательной составляющей успешного консультирования, то российскому психологу, наоборот, нужно постоянно напоминать, что психолог — это профессия, а не служение и не миссия. Для российского психолога синдром сгорания — самая распространенная профессиональная болезнь, которой можно не заболеть, только проводя постоянные профилактические меры.
3. Умения и навыки, применяемые психологом-консультантом. Проведя внутреннюю селекцию предоставленного выше материала и осознав, что присуще именно вам как начинающему специалисту, отложив э то в ящичек под названием «осторожно, опасность», можно приступать к изучению конкретных техник и методов, которые могут пригодиться в работе. Как уже говорилось выше, мы не будем рассматривать здесь все известные техники, используемые психотерапевтами разных направлений и школ, мы обозначим некий скелет, основу, на которую можно будет потом, читая различную литературу, нанизывать техническое оснащение.
Установление первичного контакта. Прежде чем прийти на консультацию, любой человек рисует себе некую картинку этого
![]() действа, а также создает
себе образ психолога. Мы не можем знать, какой образ сложился у него до того,
как он встретился с реальным школьным психологом, мы можем лишь с уверенностью
сказать, что в большинстве случаев образ не совпадает с оригиналом. Поэтому
замешательство клиента в самый первый момент — обычное дело. Если у клиента
расширились глаза и на лице выразилось изумление — не ищите причины в своей
внешности, дайте время человеку переработать визуальную информацию и смириться
с неожиданным образом. Можно просто помолчать, сделать паузу. Если изумление
очень сильное, а ноги разворачиваются к двери, можно спросить: «Вы ожидали
увидеть кого-то другого?» Дети, как правило, не особо задумываются над образом,
тем более что психолога в школе они видят часто. Их больше заботит вопрос (если
их привели или направили), чем это может им грозить.
действа, а также создает
себе образ психолога. Мы не можем знать, какой образ сложился у него до того,
как он встретился с реальным школьным психологом, мы можем лишь с уверенностью
сказать, что в большинстве случаев образ не совпадает с оригиналом. Поэтому
замешательство клиента в самый первый момент — обычное дело. Если у клиента
расширились глаза и на лице выразилось изумление — не ищите причины в своей
внешности, дайте время человеку переработать визуальную информацию и смириться
с неожиданным образом. Можно просто помолчать, сделать паузу. Если изумление
очень сильное, а ноги разворачиваются к двери, можно спросить: «Вы ожидали
увидеть кого-то другого?» Дети, как правило, не особо задумываются над образом,
тем более что психолога в школе они видят часто. Их больше заботит вопрос (если
их привели или направили), чем это может им грозить.
Следующее ожидание касается оценки в любом виде. Скорее ожидают негативной оценки. Часто поэтому клиент, если пришел сам, начинает вести рассказ или отвечать на вопросы, заранее оправдываясь. Особенно это касается «посетителя» и «жалобщика». Все-таки психолог в школе чаше воспринимается как еще одна Карающая инстанция, этому, к сожалению, есть предпосылки, как Мы уже говорили в главе 1.
113
Если в речи клиента слышатся извиняющиеся нотки, можно, отметив про себя данный момент, просто слушать, никак не комментируя высказывания. Если клиент просит подтвердить его позицию или мнение, можно ответить, что действительно существует такое мнение, или что такие случаи тоже бывают, или что многие люди именно так себе это и представляют. Главное в высказываемом комментарии — не делать однозначного вывода, не опре
делять однозначно своего отношения, не давать оценки, а встроить ситуацию клиента или его мнение или позицию в ряд других существующих мнений, позиций и поступков. Таким образом, снимается страх оценки — психолог дает понять, что и такое бывает, и это имеет право на существование, и так люди поступают, т.е. нет ничего экстраординарного в поступках клиента.
Если же клиент, особенно «жалобщик», настойчиво добивается мнения психолога, то можно ответить прямо, определив свою позицию безоценочного принятия. Текст может быть примерно следующим: «Да, такое мнение тоже существует, и многие родите
ли поступают таким образом, однако я не могу сказать вам что-то определенное сейчас, так как я не знаю всех обстоятельств вашей жизни (вашего дела). Кроме того, я не судья и не эксперт, чтобы оценивать ваши поступки, моя задача помочь вам разобраться в некоторых сомнениях и найти наиболее оптимальный способ разрешения противоречий».
Даже если то, что говорит клиент, вызывает активное неприятие (обычно это бывает при разговоре с родителями или учителями о ребенке), задача консультанта в начале беседы не давать оценок и не выказывать своего отношения.
![]() С
«посетителем» следует быть особо осторожным в оценке. Его и так «направили»,
т.е. решили, что с ним что-то не в порядке, что-то не так, а тут еще и психолог
ставит окончательный диагноз в полной непригодности. Здесь, если «посетитель»
не идет на контакт, лучше самому рассказать, по какому поводу к нему обратились
и что вызывает опасения у направивших к психологу. Стоит также
поинтересоваться, как «посетитель» сам относится к этим жалобам на него или
этому видению его проблем и поведения. И принимать лишь то, что он
предоставляет и с чем соглашается.
С
«посетителем» следует быть особо осторожным в оценке. Его и так «направили»,
т.е. решили, что с ним что-то не в порядке, что-то не так, а тут еще и психолог
ставит окончательный диагноз в полной непригодности. Здесь, если «посетитель»
не идет на контакт, лучше самому рассказать, по какому поводу к нему обратились
и что вызывает опасения у направивших к психологу. Стоит также
поинтересоваться, как «посетитель» сам относится к этим жалобам на него или
этому видению его проблем и поведения. И принимать лишь то, что он
предоставляет и с чем соглашается.
Установка нашего общества, с которой большинство клиентов приходит на консультацию, как мы уже указывали, гласит, что к
психологу обращаются только слабаки, которые не могут сами справиться со своими проблемами. А у детей до сих пор бытует мнение, что психолог работает только с психами, поэтому можно спросить у ребенка, как он понимает, кто такой психолог и чем он отличается от психиатра. И объяснить в очень простой и доступной форме, чем психолог занимается. Хотелось бы предостеречь
114
от очень пространных объяснений в начале консультации: ребенок тогда начинает воспринимать психолога как еще одного учителя и выключается из процесса. Для начала достаточно, например, просто сказать, что психиатр работает с больными людьми, а психолог — со здоровыми.
Еще одно ожидание, с которым приходят клиенты любого типа, — это то, что психолог будет с ними что-то делать. У «жалобщика» ожидание, что его пожалеют и будут давать советы, как лучше управиться с другими людьми или с обстоятельствами, у «посетителя», что его будут воспитывать, у «клиента» в основном тоже пассивная позиция вначале, тоже ожидание, что что-то дадут.
У многих клиентов, приходящих к психологу на консультацию впервые, существует опасение, что психолог обладает неким тайным знанием, что он все видит насквозь, что он делает выводы, используя какие-то свои мистические способы. Наличие такого страха у клиента выдает настороженный проницательный взгляд, оценивающий впечатление, которое производят его слова. «Жалобщик» предпочтет пуститься в пространные объяснения, «посетитель» может замкнуться и отвечать односложно или тоже начать много говорить, оправдывая себя и свои поступки. «Клиент» скорее всего спросит, что психолог уже увидел и как он к этому относится.
Несмотря на то что клиент что-то рассказывает о себе, происходит его диалог с психологом, все это на первых этапах — лишь установление контакта. Даже если «с порога» клиент начинает говорить очень важные вещи, описывать саму проблему, нужно помнить, что это его способ устанавливать контакт. Его откровенность порождена страхом. Нужно дать время человеку и себе на «прелюдию».
![]() Далее
клиент, если это взрослый, может начать проверять психолога-консультанта на
профессионализм. Он может задать несколько вопросов по психологии, скорее всего
это будут вопросы, о которых он уже наслышан, чаще всего из средств массовой
информации. Следует отнестись к этому моменту серьезно. Отвечать нужно
конкретно по делу и в доступной форме. Например, мама 12-летнего сына
спрашивает, что психолог думает по поводу того, что ее сын на уроках не может
усидеть на месте и все время крутится. На самом деле у нее уже есть ответ,
например причиной может быть повышенная возбудимость ее ребенка вследствие тяжелых
родов. Если психолог угадает, то он будет признан специа
Далее
клиент, если это взрослый, может начать проверять психолога-консультанта на
профессионализм. Он может задать несколько вопросов по психологии, скорее всего
это будут вопросы, о которых он уже наслышан, чаще всего из средств массовой
информации. Следует отнестись к этому моменту серьезно. Отвечать нужно
конкретно по делу и в доступной форме. Например, мама 12-летнего сына
спрашивает, что психолог думает по поводу того, что ее сын на уроках не может
усидеть на месте и все время крутится. На самом деле у нее уже есть ответ,
например причиной может быть повышенная возбудимость ее ребенка вследствие тяжелых
родов. Если психолог угадает, то он будет признан специа
листом, а если нет, то скорее всего ему не станут доверять. В ответ на это можно спросить, как уже рекомендовалось ранее, что мама сама думает по этому поводу, какое у нее есть объяснение, а можно, если это проверка, перечислить несколько возможных причин авторитетным тоном, в числе которых прозвучит и повышенная возбудимость.
115
![]() Следующая
проверка, которую взрослый клиент может устроить консультанту, касается умения
психолога выдерживать границы и противостоять манипуляции. Клиент внезапно
может перейти на доверительный шепот и предоставить некую очень интимную
информацию о себе или о ком-то из членов своей семьи. Или же постарается
привлечь психолога на свою сторону, используя манипулятивные методы. Клиента в
такие моменты выдает очень внимательный, настороженный, цепкий взгляд, который
оценивает произведенное впечатление и вступает в противоречие со смыслом текста
и интонацией. К этим проверкам стоит относиться очень спокойно, они мало имеют
отношения к психологу лично — это страхи клиента, которые, как мы уже знаем,
происходят из прошлого. Важно подчеркнуть, что большинство страхов и действий
клиента на первых порах не имеют отношения к личности психолога. Личность
психолога еще не начала работать. Технически при таких проверках ничего не
нужно делать специально. Сле
Следующая
проверка, которую взрослый клиент может устроить консультанту, касается умения
психолога выдерживать границы и противостоять манипуляции. Клиент внезапно
может перейти на доверительный шепот и предоставить некую очень интимную
информацию о себе или о ком-то из членов своей семьи. Или же постарается
привлечь психолога на свою сторону, используя манипулятивные методы. Клиента в
такие моменты выдает очень внимательный, настороженный, цепкий взгляд, который
оценивает произведенное впечатление и вступает в противоречие со смыслом текста
и интонацией. К этим проверкам стоит относиться очень спокойно, они мало имеют
отношения к психологу лично — это страхи клиента, которые, как мы уже знаем,
происходят из прошлого. Важно подчеркнуть, что большинство страхов и действий
клиента на первых порах не имеют отношения к личности психолога. Личность
психолога еще не начала работать. Технически при таких проверках ничего не
нужно делать специально. Сле
дует просто отметить про себя факт проверки и работать дальше, не меняя стиля и направления своих профессиональных действий.
По поводу конфиденциальности клиенты часто задают вопрос прямо. Даже если психолог горячо рассыпается в заверениях о
том, что ничего из личного материала не выйдет за стены данного помещения, это не значит, что ему поверят. К этому также надо относиться спокойно, об истоках этого недоверия мы уже говорили.
Дети, особенно младшие, как правило, не устраивают подобных проверок вначале, они просто не верят. Ведь психолог — это
один из взрослых, а взрослым, как учит их опыт, доверять нельзя. Поэтому они пассивно и послушно отвечают на вопросы. Иногда дети легко идут на контакт, но здесь нужно также понимать, что это, скорее всего, хорошо развитые коммуникативные навыки или открытый характер, но к доверию пока не имеет отношения. Существует еще один феномен, касающийся доверия при работе с
детьми. Дети иногда внезапно и безоговорочно начинают доверять психологу, они ведут себя очень откровенно и искренне. Подобное поведение, если оно сопровождается порывистостью, нервозностью, скорее всего означает, что у ребенка огромный дефицит внимания со стороны родителей, и конкретно — с маминой. Это также к доверию имеет мало отношения — это жажда внимания и благодарность за то, что заметили и общаются. Действительная открытость и базовое доверие к людям обычно сопровождаются у ребенка глубоким уважением к себе и чувством собственного достоинства. Но такие дети в школе редко попадают к психологу, если только не приходят сами.
Старшие подростки могут устроить психологу-консультанту проверку по полной программе, «по взрослому». И вердикт их
116
обычно бывает однозначным и окончательным. Все дети чувствуют фальшь, и при любом намеке на неискренность они момен
тально перестают доверять взрослому.
Итак, установление контакта с клиентом означает, во-первых, снижение силы его тревоги, уменьшение страхов; во-вторых, завоевание первичного доверия.
Технически эти задачи выполняются: во-первых, общим поведением консультанта, в которое входит внимательное отношение к клиенту (т.е. слушать не комментируя, отвечать на все его вопросы, предоставлять информацию по психологическим вопросам, подчеркивать принцип конфиденциальности); во-вторых, внутренним (и, соответственно, внешним) спокойным реагированием на любые речи и поступки клиента; в-третьих, четким вы
держиванием своей позиции и границ.
![]() Поддержание первичного контакта. Здесь хотелось бы только
отметить, что в течение всей консультации следует быть очень внимательным к
сохранению контакта и доверия. Контакт нужно постоянно поддерживать — он легко
разрушается, так же как и доверие, возникшее на первых порах консультации.
Здесь нет каких-то особенных рекомендаций и отдельных техник. Единственное, что
можно порекомендовать, — это не торопиться и выдерживать ту же самую линию
поведения, что и в начале. Если клиент расслабился, это не значит, что он будет
так себя вести все оставшееся время, в любой момент он может насторожиться,
что-то его может испугать. Кроме того, на вторую консультацию,
Поддержание первичного контакта. Здесь хотелось бы только
отметить, что в течение всей консультации следует быть очень внимательным к
сохранению контакта и доверия. Контакт нужно постоянно поддерживать — он легко
разрушается, так же как и доверие, возникшее на первых порах консультации.
Здесь нет каких-то особенных рекомендаций и отдельных техник. Единственное, что
можно порекомендовать, — это не торопиться и выдерживать ту же самую линию
поведения, что и в начале. Если клиент расслабился, это не значит, что он будет
так себя вести все оставшееся время, в любой момент он может насторожиться,
что-то его может испугать. Кроме того, на вторую консультацию,
даже если на первой достигнут хороший контакт и доверие, клиент может прийти с первоначальными страхами и настроением. Тогда контакт устанавливается заново и доверие завоевывается вновь.
В установлении контакта присутствуют две стороны: первая касается эмоционального принятия, и здесь на первый план выступает способность психолога к эмпатии, а вторая — эмоциональный сонастрой с клиентом, в достижении которого могут помочь различные техники.
В НЛП существует целая хорошо разработанная с и с т е м а к о н к р е т н ы х т е х н и ч е с к и х п р и е м о в , п о м о г а ю щ и х
у с т а н о в и т ь к о н т а к т (раппорт, или, если правильно пере
водить, раппор):
1) «отзеркаливание», или отражение — повторение позы, ми мики, жестов, интонации, громкости голоса, ритма и глубины дыхания, темпа речи;
117
2) использование языковых паттернов клиента, в том числе и использование репрезентативной системы клиента (аудиальной, визуальной и кинестетической);
3) отражение, повторение содержания высказываний клиента.
Аналогичные техники используются и в гуманистической психологии — т е х н и к и а к т и в н о г о с л у ш а н и я :
1) эмпатическое слушание, которое включает также пристройку по позе, голосу, дыханию и т.д.;
2) выяснение — безоценочная техника, используемая для получения дополнительной информации. Здесь применяются только открытые вопросы;
3) перефразирование — передача говорящему его же сообщения, только другими словами;
4) резюмирование — подытоживание основных чувств и идей клиента. Данная техника, помимо того, что она помогает соединить отдельные фрагменты беседы в единое целое и проверить понимание консультантом проблемы клиента, дает понять клиенту, что его внимательно слушали все это время, что ничто не было
упущено или искажено.
В школе структурной семейной терапии применяются тр и т е х н и к и п р и с о е д и н е н и я к семье, которые с успехом мож
но использовать и при индивидуальном консультировании [52].
1. Прослеживание — определение важных для клиента тем (совершенно не обязательно, на первых порах, проблемных) и следование за ними. То есть следует поддерживать темы, которые приносят удовлетворение клиентам и интересны им, даже если на первый взгляд они ничего общего не имеют с проблемами клиента.
![]() Особенно
это важно для «посетителя» и «жалобщика». Здесь, в зависимости от типа клиента,
рекомендуется разная тактика. Для «посетителя» важно, как уже говорилось, чтобы
на него не давили и не воспитывали, поэтому если он стал хотя бы говорить о
себе, то это уже хорошо. В любом случае следует прямо объяснить, зачем его
пригласили к психологу, спросить, что он сам
Особенно
это важно для «посетителя» и «жалобщика». Здесь, в зависимости от типа клиента,
рекомендуется разная тактика. Для «посетителя» важно, как уже говорилось, чтобы
на него не давили и не воспитывали, поэтому если он стал хотя бы говорить о
себе, то это уже хорошо. В любом случае следует прямо объяснить, зачем его
пригласили к психологу, спросить, что он сам
думает по этому поводу рассказать, что можно делать у психолога и чем конкретно он может помочь. Спросить, что хотелось бы клиенту, и радоваться любому проявлению активности. Есть хо
рошая фраза, которая позволяет «посетителю», достойно выйти из положения: «Раз уж мы здесь встретились, и у нас все равно идет консультация, давай подумаем, что мы можем сделать с пользой для тебя».
«Жалобщику» нужно дать возможность выговориться, от души пожаловаться на всех и вся. «Клиент» чаще всего начинает актив
но работать, но иногда и он «уводит» психолога от основной темы.
Определить, когда клиент «уводит» или «рассказывает рассказку» можно по невербальному поведению. Взгляд либо блуждает
118
поверху, либо существует отдельно от смысла слов. Например, клиент рассказывает о своей обиде, а взгляд с интересом блуждает по комнате, рассматривая вещи. Еще один способ определить «рассказку» — прислушаться к своим ощущениям: если стало неинтересно слушать, значит уводит от темы. «Уводят» по разным причинам. Основные — это страх, недоверие и проверка на эмпатию, т. е. насколько психолог способен воспринимать состояния другого человека — понимать. В принципе это также вопрос доверия. На более поздних этапах работы клиент таким образом оттягивает работу над важной, назревшей темой.
Одним из приемов может быть постоянное возвращение к первичной заявке или к какому-то высказыванию, которое показа
лось важным, но потом было заболтано. «Я бы хотела вернуться к вашим словам о ... . Мне кажется это важным». «Когда вы говори
ли о... я услышала в ваших словах много горечи».
Еще один прием — это озвучивание своих ощущений и мыслей: «Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы никак не дойдем до главного, что вас волнует». Или: «Я чувствую, что есть что-то, что на самом деле интересует вас, что-то, что волнует и не дает покоя». Или: «Мне кажется, что мы все время ходим вокруг чего- то очень важного. Я никак не могу понять, что же вас привело сюда».
2. Имитирование — приспособление к стилю поведения и речи клиента. Об этом следует смотреть техники НЛП, о которых говорилось выше.
3. Поддержка — позитивное определение роли, поведения, чувств клиента. То есть все, что делает клиент, — он делает для своего блага, это ему для чего-то нужно и это следует уважать и ценить. Это можно проиллюстрировать следующим гипотетическим примером.
![]() Представьте
себе, что вы долго и упорно выстраивали отношения с другом, наконец, ценой неимоверных
усилий, вы их построили. Но что-то вас смущает в них, что-то не устраивает.
Ваша подруга посоветовала вам сходить к психологу на консультацию, чтобы он
подсказал, что еще нужно сделать, чтобы все было хорошо. Вы рассказываете о
своей победе, как вы долго и упорно добивались существующего положения дел, и в
конце, внимательно и, как вам кажется, эмпатически выслушав вас, психолог
говорит: «Все, что вы сделали, не имеет никакого значения. Потому что вы делали
все совсем не так, как нужно. Вам вообще нужен другой человек, ваши усилия
пропали даром». Или еще что-то в этом роде, может быть, в Другой форме — мягко
и ласково. Но суть его речи — обесценивание всего, что вы сделали сами.
Представьте
себе, что вы долго и упорно выстраивали отношения с другом, наконец, ценой неимоверных
усилий, вы их построили. Но что-то вас смущает в них, что-то не устраивает.
Ваша подруга посоветовала вам сходить к психологу на консультацию, чтобы он
подсказал, что еще нужно сделать, чтобы все было хорошо. Вы рассказываете о
своей победе, как вы долго и упорно добивались существующего положения дел, и в
конце, внимательно и, как вам кажется, эмпатически выслушав вас, психолог
говорит: «Все, что вы сделали, не имеет никакого значения. Потому что вы делали
все совсем не так, как нужно. Вам вообще нужен другой человек, ваши усилия
пропали даром». Или еще что-то в этом роде, может быть, в Другой форме — мягко
и ласково. Но суть его речи — обесценивание всего, что вы сделали сами.
Обычно реакцией на подобное обесценивание (или даже непризнание заслуг, стараний, приложенных усилий, страданий) бывает
119
апатия, реже агрессия. В любом случае следует положительно отнестись к любому опыту клиента. Текст может быть примерно следующим: «Я вижу, что вы очень много сделали для выстраивания этих
отношений. Вы приложили максимум усилий для того, чтобы ваш избранник относился к вам хорошо. И я вижу также, что вас что-то смущает в этих отношениях. Это так? Поправьте меня, если я неправильно поняла вас». Или «жалобщику»: «Я вижу (слышу, чувствую), что вы очень переживаете за свою дочь, вы, как всякая любящая мать, стремитесь, чтобы у вашей дочери была счастливая жизнь, и вас очень расстраивает, что она не слушает ваших советов и не принимает вашего участия. Это всегда очень огорчительно».
Текст строится на основе тех акцентов, которые расставляет клиент, и никак не на своих собственных впечатлениях или догадках. Если клиентка говорит, что очень расстроена тем, что ее сын собирается жениться на порядочной, честной, работящей и нежной девушке, то вы, вслед за ней, подтверждаете, что она имеет право быть этим расстроенной. Несмотря на кажущуюся абсурдность приве
![]() денного примера, в практике
подобные случаи нередки. Абсурдность высказываний в восприятии
психолога-консультанта не означает их абсурдность в истории клиента. Вполне
возможно, что в личной жизни данной клиентки присутствует история о нежной,
порядочной, честной и работящей девушке (читай, о ней самой), которая не смогла
спасти своего мужа от тюрьмы именно потому, что была слишком порядочна и
честна. И всю свою жизнь она корила себя за ту порядочность, которая не
позволили ей тогда, 20 лет назад, спасти своего горячо любимого мужа. Сейчас ее
сын собирается жениться на такой же хорошей и такой же, как ей кажется,
беспомощной девушке, какой она была когда-то. Мать панически боится повторения
истории с тюрьмой для сына и считает, что пусть жена будет нечестная, не
нежная, но активная, этакая пробивная стерва, которая сможет спасти ее сына в
случае опасности. В восприятии клиентки слились воедино честная и порядочная —
значит беспомощная, и нечестная, непорядочная — значит пробивная, активная,
которая добьется своего. Поддержкой здесь будет признание
денного примера, в практике
подобные случаи нередки. Абсурдность высказываний в восприятии
психолога-консультанта не означает их абсурдность в истории клиента. Вполне
возможно, что в личной жизни данной клиентки присутствует история о нежной,
порядочной, честной и работящей девушке (читай, о ней самой), которая не смогла
спасти своего мужа от тюрьмы именно потому, что была слишком порядочна и
честна. И всю свою жизнь она корила себя за ту порядочность, которая не
позволили ей тогда, 20 лет назад, спасти своего горячо любимого мужа. Сейчас ее
сын собирается жениться на такой же хорошей и такой же, как ей кажется,
беспомощной девушке, какой она была когда-то. Мать панически боится повторения
истории с тюрьмой для сына и считает, что пусть жена будет нечестная, не
нежная, но активная, этакая пробивная стерва, которая сможет спасти ее сына в
случае опасности. В восприятии клиентки слились воедино честная и порядочная —
значит беспомощная, и нечестная, непорядочная — значит пробивная, активная,
которая добьется своего. Поддержкой здесь будет признание
чувств клиентки по отношению к своему сыну: глубокая любовь, беспокойство за его благополучие, стремление оберегать и спасать
его. Это очень позитивные чувства, и далеко не всякая мать способна так переживать и беспокоиться о своем ребенке.
Выход из контакта — это некая точка в процессе консультирования. На завершение беседы необходимо оставлять некоторое время, чтобы оно не было рваным и скомканным. В завершение консультации должны присутствовать следующие моменты:
1) резюмирование основных результатов беседы — следует очень коротко перечислить важнейшие темы, которые обсуждались, и результаты, к которым пришли;
120
2) получение обратной связи от клиента — с какими чувствами, мыслями, настроением и т. д. он уходит, что еще для него оста
лось невыясненным;
3) назначение еще одной консультации либо обсуждение возможности ее получения по желанию клиента;
4) ритуал прощания — нужно проводить до двери, сказать «до свидания», закрыть дверь.
Об окончании консультации клиента лучше предупреждать заранее: «У нас есть еще немного времени (столько-то минут), что бы вам хотелось за это время сделать еще (обсудить, прояснить и т.д.)?»
![]() Хотелось
бы предостеречь от продолжения беседы на темы, которые затрагивались на
консультации, после назначения следующей встречи и тем более во время ритуала
прощания. Иногда вскользь сказанное слово у двери может свести на нет всю предыдущую
работу. В таких случаях можно порекомендовать примерно следующую форму
вежливого отказа от обсуждения: «Мы обязательно вернемся к обсуждению данного
вопроса на следующей консультации, не хотелось бы такие важные вопросы решать
на ходу». Или: «То, что вы сейчас сказали, видимо, очень важно, и давайте мы с
этой темы и начнем нашу следующую встречу». Или: «Видимо, есть еще темы,
которые вас волнуют, вы всегда можете прийти еще раз на консультацию, как
связаться со мной вы знаете». Ребенку: «Я обязательно запомню твои слова, и мы
к ним вернемся во время нашей следующей встречи». В случае работы с ребенком
следует эти слова записать и следующую консультацию начать прямо с них: «В
конце прошлой встречи ты сказал, что... это для тебя важно сейчас или есть что-то
более важное?» Скорее всего, ребенок уже давно забыл, что сказал неделю назад,
но сам факт того, что психолог внимательно отнесся к его словам, помогает в
поддержании контакта и налаживании психотерапевтических отношений.
Хотелось
бы предостеречь от продолжения беседы на темы, которые затрагивались на
консультации, после назначения следующей встречи и тем более во время ритуала
прощания. Иногда вскользь сказанное слово у двери может свести на нет всю предыдущую
работу. В таких случаях можно порекомендовать примерно следующую форму
вежливого отказа от обсуждения: «Мы обязательно вернемся к обсуждению данного
вопроса на следующей консультации, не хотелось бы такие важные вопросы решать
на ходу». Или: «То, что вы сейчас сказали, видимо, очень важно, и давайте мы с
этой темы и начнем нашу следующую встречу». Или: «Видимо, есть еще темы,
которые вас волнуют, вы всегда можете прийти еще раз на консультацию, как
связаться со мной вы знаете». Ребенку: «Я обязательно запомню твои слова, и мы
к ним вернемся во время нашей следующей встречи». В случае работы с ребенком
следует эти слова записать и следующую консультацию начать прямо с них: «В
конце прошлой встречи ты сказал, что... это для тебя важно сейчас или есть что-то
более важное?» Скорее всего, ребенок уже давно забыл, что сказал неделю назад,
но сам факт того, что психолог внимательно отнесся к его словам, помогает в
поддержании контакта и налаживании психотерапевтических отношений.
При более или менее длительной терапии или консультировании между клиентом и психологом-консультантом (психотерапевтом) возникают некие особые отношения, которые характеризуются более тесными межличностными связями.
Перенос и контрперенос. Это один из важнейших феноменов, который мы рассмотрим. Первоначально, введя понятие «перенос», 3. Фрейд имел в виду перенесение эротических чувств боль-
121
ного на личность врача, в основе которых — повторение (проиг
рывание) нереализованных чувств по отношению к значимым фигурам из детства. В основе лежит надежда на то, что повторение этих отношений позволит им более полно разрешиться.
3. Фрейд разделял положительное и негативное перенесение, которое дифференцировал по оси «любовь—ненависть». Он отмечал, что враждебные чувства, как правило, появляются позже, чем нежные, и означают такую же чувственную привязанность, как и любовь. 3. Фрейд отмечал также, что перенесение имеется у больного всегда и первое время является мощной мотивирующей си
![]() лой («действующий позитивный
перенос»). Стремясь понравится своему психоаналитику, больной делает все, чтобы
ему угодить, т. е. старательно работает и демонстрирует прогресс в лечении.
Этим объясняются иногда внезапные улучшения прежнего состояния, исчезновение
симптомов, общее улучшение самочувствия. Однако на самом деле речь идет не о
выздоровлении, а о замене старой болезни на новую. Через какое-то время любовь
к психоаналитику начинает завладевать пациентом и преобразуется в новый невроз
(«невроз переноса»), когда во главу угла ставятся взаимоотношения с врачом. От
него начинают требовать проявлений
лой («действующий позитивный
перенос»). Стремясь понравится своему психоаналитику, больной делает все, чтобы
ему угодить, т. е. старательно работает и демонстрирует прогресс в лечении.
Этим объясняются иногда внезапные улучшения прежнего состояния, исчезновение
симптомов, общее улучшение самочувствия. Однако на самом деле речь идет не о
выздоровлении, а о замене старой болезни на новую. Через какое-то время любовь
к психоаналитику начинает завладевать пациентом и преобразуется в новый невроз
(«невроз переноса»), когда во главу угла ставятся взаимоотношения с врачом. От
него начинают требовать проявлений
любви, преданности, вплоть до сексуальных отношений. В условиях психоаналитического лечения преодоление этого нового искусственного образования означало освобождение от болезни.
3. Фрейд считал, что перенос — это «промежуточная область между болезнью и реальной жизнью», и уделял особое внимание продуктивному рассмотрению нового переноса. Так как перенос — это всегда процесс спонтанный, автоматический и, следовательно, бессознательный, ясное осознание его разрушает. И пациент приобретает возможность обращать свою любовь и нежность на реальные объекты, а не на тени прошлого.
С развитием психоаналитической теории понятие «перенос» расширялось и приобретало новые значения и характеристики. Так, уже К. Юнг считал перенос (трансфер) особым случаем проекции, который происходит между двумя людьми, в отличие от более общего психологического механизма переноса субъективного содержания на любой объект, в том числе и на физический. К. Юнг также отмечал, что перенос возникает не всегда, а в некоторых случаях, одним из которых является трудность установления эмоционального контакта с врачом. Для пациента это тогда
единственный способ приблизиться к значимому лицу.
К. Юнг отмечал, что трансфер — это болезнь и что у нормальных людей, у которых сильное, зрелое эго, не возникает трансфера. Что совсем не обязательно для лечения вызывать и провоцировать перенос, такой же богатый материал для анализа можно
получить и из других источников, например из снов [99].
122
Подобное утверждение получило свое развитие с признанием психоаналитиками того факта, что для полноценного, продуктивного сотрудничества между пациентом и психотерапевтом («психотерапевтического альянса») необходимо более или менее стабильное функционирование зрелого эго. В настоящее время рассматриваются две сферы терапевтического альянса. Первая сфера включает «действующий позитивный перенос» и работу
![]() зрелого эго. Перенос в
данном случае выполняет некую поддерживающую функцию. На аналитика переносят
здоровье и целостность личности, т.е. желаемые качества, черты, состояния и
формы поведения, которых клиент желает достичь. Аналитик выступает в роли ориентира,
«временного носителя Самости клиента» [68], и в этом случае от него требуется
поддержка и вселение надежды на возможность достижения этого идеала. Вторая
сфера касается «невроза переноса», когда перенос является выразителем
сопротивления возможным изменениям. Здесь психоаналитической практикой
рекомендуется интерпретация и проработка переноса.
зрелого эго. Перенос в
данном случае выполняет некую поддерживающую функцию. На аналитика переносят
здоровье и целостность личности, т.е. желаемые качества, черты, состояния и
формы поведения, которых клиент желает достичь. Аналитик выступает в роли ориентира,
«временного носителя Самости клиента» [68], и в этом случае от него требуется
поддержка и вселение надежды на возможность достижения этого идеала. Вторая
сфера касается «невроза переноса», когда перенос является выразителем
сопротивления возможным изменениям. Здесь психоаналитической практикой
рекомендуется интерпретация и проработка переноса.
В гуманистической психологии, которая ориентирована на здорового человека со зрелым, хорошо функционирующим эго, в отличие от психоанализа, традиционно ориентированного на больных людей, появление переноса трактуется однозначно как неблагоприятный фактор, который говорит о недостаточной прозрачности, конгруэнтности и искренности психотерапевта. Стоит заметить, что и в психоанализе сильный перенос считается признаком недостаточной эмпатии со стороны психотерапевта.
3. Фрейд заметил, что перенос пациента вызывает у аналитика ответные эмоциональные реакции, которые он назвал контрпереносом (контртрансфером). 3. Фрейд считал контрперенос одним из главных тормозящих факторов терапии, так как в основе его
лежат неразрешенные бессознательные конфликты самого психоаналитика. К. Юнг отмечал, что контрперенос возникает тогда, когда у аналитика имеет место такой же бессознательный конф
ликт, как и у пациента. Поэтому у каждого аналитика должен быть свой аналитик, с которым у него есть возможность проработать свои проблемы.
В современном психоанализе отличают полезную форму контрпереноса от невротического. Полезная форма — это аналог эмпатического сопереживания в гуманистической психологии. Считается, что только «раненый целитель», не до конца «долеченный» способен оказать помощь, тонко чувствуя всю боль и страдания клиента.
Мы не будем здесь обсуждать подобное утверждение, однако следует отметить, что только пройдя свой путь исцеления, зная все трудности, страхи, степень усилий, прикладываемых на этом пути,
123
психотерапевт может ценить, понимать душой и глубоко уважать
любое решение клиента.
Профилактика контрпереноса в условиях школьного консультирования. Школьному психологу, имеющему дело в основном с детьми, растущими в дефиците любви и заботы, нужно постоянно отслеживать проявления сильных чувств со стороны по
допечных. Это может быть реакцией переноса. Одно дело, когда стайки девчонок или мальчишек вьются перед дверью, чтобы узнать, когда будет очередной тренинг, или приходят поделиться своими любовными переживаниями, пожаловаться на родителей, от
![]() дохнуть и пообщаться. Другое
дело, когда за психологом начинает ходить хвостиком какая-нибудь девочка или
мальчик, узнает телефон психолога и начинает звонить ему, ревниво отгоняет
других претендентов на внимание, пытается выстроить особые личные отношения,
предъявляет претензии и устраивает демонстративные истерики. В этом случае
можно смело утверждать, что психолог попал в контрперенос и дело зашло довольно
далеко. В таких случаях безболезненно выйти из сложившихся отношений
невозможно. Может помочь только прямой разговор с ребенком, который строится по
следующей схеме.
дохнуть и пообщаться. Другое
дело, когда за психологом начинает ходить хвостиком какая-нибудь девочка или
мальчик, узнает телефон психолога и начинает звонить ему, ревниво отгоняет
других претендентов на внимание, пытается выстроить особые личные отношения,
предъявляет претензии и устраивает демонстративные истерики. В этом случае
можно смело утверждать, что психолог попал в контрперенос и дело зашло довольно
далеко. В таких случаях безболезненно выйти из сложившихся отношений
невозможно. Может помочь только прямой разговор с ребенком, который строится по
следующей схеме.
1. Необходимо перечислить факты поведения ребенка, которые внушают беспокойство или доставляют неудобство. Только факты, без интерпретаций и домыслов. Например: «Лена, я заметила, что в последнее время ты приходишь ко мне в кабинет после каж
дого урока, ждешь меня после школы, нашла мой телефон, хотя я тебе его не давала, и звонишь мне домой». Или: «Я обратила внимание, что ты иногда не отвечаешь на мои вопросы, грубо со мной разговариваешь, кричишь и плачешь».
2. Следует подчеркнуть, что подобное поведение: а) не понятно; б) не нравится; в) недопустимо в рамках ваших отношений. Здесь важно очертить свою позицию очень четко, без малейшего намека на двойной смысл и очень твердо. Например: «Я не понимаю, что это может означать и как мне себя вести в таких ситуациях. Мне обычно бывает неловко и неприятно, когда ты ведешь себя подобным образом. Кроме того, я взрослый человек, а ты иногда обращаешься со мной как с подружкой. Так нельзя себя вести со взрослыми людьми».
3. Нужно выделить свое хорошее отношение к ребенку, подчеркнуть, что он уникальный, удивительный, интересный и т.д., что он привлекает к себе своей неординарностью и чем-нибудь еще, а потом, опять-таки твердо и однозначно, сказать, что это вовсе не означает о с о б ы х отношений. Например: «Ты действительно очень интересный человечек, и мне очень приятно с тобой общаться. Я всегда радуюсь твоим успехам и достижениям, но я не могу стать тебе очень близким человеком, это невозможно. Я не смогу заменить тебе маму или близкого друга. Я могу лишь в рамках моей работы помочь тебе лучше себя чувствовать, найти настоящих друзей и наладить контакт с мамой».
4. Следует обязательно сказать, что он всегда может обратиться за помощью и что вы обязательно найдете для него время.
![]() Хотелось
бы еще раз подчеркнуть, что если процесс зашел слишком далеко, т. е. психолог
откликался на чувства ребенка, позволял ему поведение, которое не позволил бы
никому другому, пустил в свою личную жизнь, то разговор может быть очень и
очень неприятным. Также нужно быть готовым к последующим неприятным событиям,
вплоть до угроз суицида и неадекватных выходок, асоциального поведения и
демонстративных скандалов. Но это единственный способ выйти из отношений,
продиктованных переносом и контрпереносом, иначе ребенок получает власть над
взрослым и требует удовлетворения своей ненасытной жажды
Хотелось
бы еще раз подчеркнуть, что если процесс зашел слишком далеко, т. е. психолог
откликался на чувства ребенка, позволял ему поведение, которое не позволил бы
никому другому, пустил в свою личную жизнь, то разговор может быть очень и
очень неприятным. Также нужно быть готовым к последующим неприятным событиям,
вплоть до угроз суицида и неадекватных выходок, асоциального поведения и
демонстративных скандалов. Но это единственный способ выйти из отношений,
продиктованных переносом и контрпереносом, иначе ребенок получает власть над
взрослым и требует удовлетворения своей ненасытной жажды
любви совершенно неприемлемыми способами, вплоть до вмешательства в личную жизнь объекта любви.
Это крайние ситуации, и доводить до подобных отношений не стоит, поэтому наилучшим способом, как обычно, будут некие профилактические меры.
Любые профилактические меры строятся по двум аспектам:
1) отслеживание и осознание собственных чувств, мыслей, желаний и состояний;
2) четкая и однозначная линия поведения.
Как мы уже говорили, любые с и л ь н ы е чувства, появляющиеся в работе психолога, должны обращать на себя внимание. Это первый сигнал неблагополучия. Имея дело с потерянными, лишенными любви детьми, раненый ребенок психолога начинает откликаться и вступает в резонанс с чужой болью. Жалея и спасая брошенного и несчастного ребенка, взрослый, по сути, лечит своего собственного ребенка. Он регрессирует и сам превращается в
ребенка. А ребенок никак не может помочь другому ребенку справиться с болью отсутствия любви. Поэтому подобные отношения обречены на еще большую боль.
Как только в отношении к какому-то ребенку появляются такие чувства, как щемящая жалость, любовь, восхищение или же, наоборот, сильное раздражение, злость, можно с уверенностью
сказать, что психолог попал в контрперенос.
Очень важно в данный момент не отмахиваться от этих чувств, а обязательно обратить на них внимание и отследить, что именно так задевает, какие чувства превалируют, какие мысли посещают, какое появляется поведение. Следующим шагом будет отделение собственных чувств от личности ребенка. И, наконец, нахождение новых форм поведения, адекватных позиции взрослого человека.
Еще раз подчеркнем, что поведение должно быть однозначным и твердым. Раненый ребенок будет выискивать любую зацепку,
любую лазейку, чтобы проинтерпретировать поведение взрослого в пользу о с о б о г о отношения. Например, улыбка, которая, как вам кажется, призвана смягчить суровость приговора, скорее всего, будет проинтерпретирована ребенком как извинения за слова, которые на самом деле взрослый не хочет говорить, но положение
обязывает. Ребенок начинает играть в игру: «Мы должны скрывать наши отношения от злого и жестокого мира».
Твердость не означает отталкивания или равнодушия, она означает только честность и правдивость. Действительно, психолог не может дать материнской любви или отцовской поддержки, он может лишь то, что реально может дать: внимание, уважение, сочувствие, сопереживание, поддержку, правовую защиту и т.д.
Довольно часто отношения, основанные на переносе и контрпереносе, возникают между учителем и учеником. Пол здесь неважен, это может быть любовь между девочкой и взрослой 35-летней женщиной, мальчиком и учителем физкультуры и т.д. Если у учителя в конце концов берет верх взрослое Я, он останавливается и переводит отношения в русло «взрослый—ребенок».
![]() Но
бывают случаи, когда сам учитель, попадая в сильнейший контрперенос, не может
ничего понять и поделать с самим собой. Тогда отношения между учителем и
ребенком приобретают драматический характер. Вся трудность в том, что
первоначально развиваясь в соответствии с классическими законами переноса,
ученик, как правило, сложный, ершистый, демонстрирует улучшение своего
поведения (действующий позитивный перенос), но потом, не получая от любимого
учителя настоящей материнской или отцовской любви, его жажда превращается в
навязчивое состояние (невроз переноса).
Но
бывают случаи, когда сам учитель, попадая в сильнейший контрперенос, не может
ничего понять и поделать с самим собой. Тогда отношения между учителем и
ребенком приобретают драматический характер. Вся трудность в том, что
первоначально развиваясь в соответствии с классическими законами переноса,
ученик, как правило, сложный, ершистый, демонстрирует улучшение своего
поведения (действующий позитивный перенос), но потом, не получая от любимого
учителя настоящей материнской или отцовской любви, его жажда превращается в
навязчивое состояние (невроз переноса).
Обычно учительский коллектив и родители данного ученика вначале одобрительно смотрят на растущее взаимное притяжение между учителем и учеником. Учителя приводят в пример как чуткого и достойного всяческих похвал человека. Родители или мать молятся на этого учителя, радуясь, что с них снята ответственность за воспитание. Позже ребенок, получая всеобщее одобрение растущей любви и стремясь насытить, в общем-то, ненасыщаемую жажду любви, начинает требовать все больше и больше внимания. Когда же учи
тель устает и наконец-то пытается прекратить обременительные отношения, ребенок демонстрирует резкое ухудшение поведения. И коллеги, и администрация, и родители обвиняют в этом учителя. Стремясь избежать нападок, учитель меняет решение прекратить отношения, и отношения делают новый виток, только с более тяжелыми последствиями, так как ребенок убеждается в том, что шантажом и манипуляцией можно добиться любви.
К психологу в данном случае ребенка отправляют тогда, когда его поведение становится невыносимым, а он сам неуправляемым, ребенок, если он постарше, может прийти сам, чтобы рассказать о своей любви и поделиться своей болью. Практика показывает,
![]() что ребенок ни за что
самостоятельно не откажется от этой мучительной любви. Разубеждать и
обесценивать бесполезно. Единственное, что может сделать психолог, — это
слушать и кое-что объяснять об отношениях между людьми, а также работать над
самооценкой. Известно, что у людей со слабым Я, с дефицитом любви и с низкой самооценкой, как
правило, развиваются созависимые отношения. Можно быть уверенным, что,
прекратив отношения с учителем, этот ребенок тут же найдет себе другой
недостижимый предмет обожания.
что ребенок ни за что
самостоятельно не откажется от этой мучительной любви. Разубеждать и
обесценивать бесполезно. Единственное, что может сделать психолог, — это
слушать и кое-что объяснять об отношениях между людьми, а также работать над
самооценкой. Известно, что у людей со слабым Я, с дефицитом любви и с низкой самооценкой, как
правило, развиваются созависимые отношения. Можно быть уверенным, что,
прекратив отношения с учителем, этот ребенок тут же найдет себе другой
недостижимый предмет обожания.
Очень часто они и идут по жизни так: не видят и не умеют строить реальные отношения с реальными людьми, но постоянно грезят о какой-то недостижимой любви. Объект может быть разным: от первой любви в детском саду до Тома Круза.
Эмпатия. Как мы уже отмечали, в установлении и поддержании контакта, а также в установлении психотерапевтических отношений важен эмоциональный сонастрой консультанта с клиентом, называемый эмпатией. В клиент-центрированной психотерапии, как было сказано выше, выражаемая консультантом степень эмпатического понимания клиента считается одним из трех
необходимых и достаточных условий психотерапевтических изменений.
К. Роджерс указывал на то, что определить понятие «эмпатия» довольно сложно и что ему самому принадлежит несколько определений. Одно из них гласит, что «быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения “как будто”» [108]. Роджерс отмечал, что эмпатия — это скорее не состояние, а процесс, который означает временное проживание жизни другого че
ловека без оценивания и осуждения. Это означает также некое понимание (улавливание) того, что другой не осознает, и сообщение (обратная связь) о том, что было увидено собеседником.
В современной психологии отмечают, что феномен эмпатии — это сложное и многогранное образование. Существует множество подходов, наиболее распространенными из которых, являются два подхода, рассматривающие эмпатию в двух видах: когнитивном аспекте, т.е. в познавательном, и в эмотивном, т.е. аффективном.
При когнитивном подходе эмпатию определяют как «внерациональное чувственное познание», способ получения информации о другом человеке, «аффективное понимание внутреннего мира человека» [4].
При эмотивном подходе эмпатию рассматривают как эмоциональное состояние, которое возникает в качестве отклика на эмоциональное состояние другого человека. И здесь ее определяют как сопереживание и сочувствие [16]. В некоторых исследованиях эмпатия рассматривается как процесс, в котором эмоциональные и мыслительные компоненты неразрывно связаны и выступают в виде единого целого.
![]() Для
нас в данном пособии важно понимание того, что эмпатия является важнейшим
инструментом психолога. И что именно это сочетание сопереживания, сочувствия,
эмоционального отклика и в то же время понимания — позволяет одновременно
решать две задачи: устанавливать контакт и психотерапевтические отношения и
проводить диагностику. Кроме того, способность психолога к эмпатии обладает
мощным психотерапевтическим эффектом, т.е. помогает решать и третью
психотерапевтическую задачу.
Для
нас в данном пособии важно понимание того, что эмпатия является важнейшим
инструментом психолога. И что именно это сочетание сопереживания, сочувствия,
эмоционального отклика и в то же время понимания — позволяет одновременно
решать две задачи: устанавливать контакт и психотерапевтические отношения и
проводить диагностику. Кроме того, способность психолога к эмпатии обладает
мощным психотерапевтическим эффектом, т.е. помогает решать и третью
психотерапевтическую задачу.
Исходя из практики обучения студентов и работы с различными людьми в психотерапии, можно сказать, что абсолютно все
люди обладают способностью к эмпатии. В народе ее принято называть интуицией и приписывать этой способности некие мистические особенности. На самом деле — это следствие нашей принадлежности к животному миру, а именно к животным, живущим в сообществе, для которых умение считывать невербальную информацию — залог принадлежности сообществу. С развитием речи данная насущная способность утратила свое важнейшее значение, и мы все больше и больше ориентируемся на слова, а не на сигна
лы тела. Тем не менее каждому знакомы «озарения», когда знание приходит вдруг, чувствуется, ощущается.
Самое сложное при использовании эмпатии в работе психолога — научиться доверять своему ощущению, следовать ему и отде
лять собственно эмоциональный отклик от знания, полученного этим путем. Иногда бывает, что эмоциональный отклик настолько силен, что затмевает понимание, тогда психолог «болеет» бо
лью клиента и не способен мыслить. Эмоции затмевают процесс познания. Или же, наоборот, консультант настолько старается понять смысл сказанного клиентом, что не обращает внимания на собственные эмоциональные сигналы, которые дают важную информацию.
В таких случаях важно понять, что превалирует в процессе общения с клиентом, и обращать внимание на ту составляющую, которая наименее задействована. Выстраивание баланса между чувствованием и пониманием — важнейшая задача начинающего психолога-консультанта.
дог-практик должен быть личностно проработан. Это означает, что он сам должен пройти курс психотерапии — либо групповой, либо индивидуальной, либо в сочетании. Если для психотерапевта это требование обязательно, и в длительных программах по подготовке психотерапевтов любого направления всегда включены часы л и ч н о й клиентской работы, то для консультантов это требование не формулируется столь жестко.
Тем не менее хорошим специалистом можно стать т о л ь к о пройдя курс личной психотерапии. В пользу этого утверждения можно привести следующие доводы:
1) психолог-практик должен знать себя: те особенности личности и характера, которые могут как помогать, так и мешать в практической деятельности, свои сильные и слабые стороны, свои ресурсы и трудности;
2) психолог-практик должен понимать и видеть истоки собственных проблем, иметь навыки совладания с ними, быть адаптированным к обществу. Это означает, что психолог в значительной степени приобретает иммунитет к переносу и контрпереносу, умеет справляться с различными жизненными неприятностями, понимает связь своего поведения с детскими переживаниями и имеет в своем арсенале адаптивные «взрослые» способы;
3)
![]() психолог-практик
должен любить и уважать себя и как личность, и как профессионал. Это означает,
что он в своих оценках умеет опираться только на себя, умеет конструктивно
распоряжаться своими эмоциями, прощать себя за ошибки и учиться на них. Это
означает быть устойчивым и одобрительно относиться к своим успехам и выносить
пользу из провалов и неудач. Это означает принимать себя целиком и безусловно.
Только так можно научиться принимать клиентов такими, какие они есть, и не
пытаться их переделать;
психолог-практик
должен любить и уважать себя и как личность, и как профессионал. Это означает,
что он в своих оценках умеет опираться только на себя, умеет конструктивно
распоряжаться своими эмоциями, прощать себя за ошибки и учиться на них. Это
означает быть устойчивым и одобрительно относиться к своим успехам и выносить
пользу из провалов и неудач. Это означает принимать себя целиком и безусловно.
Только так можно научиться принимать клиентов такими, какие они есть, и не
пытаться их переделать;
4) психолог-практик должен уважительно относиться к любому выбору своих клиентов, ценить любые их усилия и восхищаться достижениями. А это возможно лишь в том случае, когда психолог сам прошел трудный путь становления и развития, когда он знает на своем опыте, сколько усилий, труда вкладывает человек в работу на любой консультации или в группе;
5) психолог-практик должен беречь себя в работе и работу в себе. Это означает, что он бережно и аккуратно относится к своим впечатлениям, эмоциям и состояниям, возникающим в процессе работы, что является очень важным профилактическим мероприя
тием по отношению к синдрому сгорания. В то же время беречь работу в себе означает не растворяться в ней, а выделить ей место в своей жизни и оградить ее от личного вмешательства. Это позволяет быть специалистом, а не просто хорошим человеком, помогающим людям в трудный период жизни.
Как уже говорилось выше, синдром эмоционального сгорания (СЭС) — профессиональная болезнь людей, работающих в «помогающих» профессиях. Зная признаки, симптомы СЭС, можно,
во-первых, предотвратить его развитие, а во-вторых, проводить це
ленаправленные профилактические меры.
![]() Синдром эмоционального сгорания. Синдром эмоционального
сгорания (СЭС) рассматривается как специфический вид профессиональной
деформации лиц, работающих в тесном эмоциональном контакте с клиентами и
пациентами при оказании профессиональной помощи (Карвасарский, 2006).
Синдром эмоционального сгорания. Синдром эмоционального
сгорания (СЭС) рассматривается как специфический вид профессиональной
деформации лиц, работающих в тесном эмоциональном контакте с клиентами и
пациентами при оказании профессиональной помощи (Карвасарский, 2006).
Рассматривая СЭС с точки зрения возникновения и развития стресса, обычно выделяют тр и ф а з ы р а з в и т и я с и н д р о ма .
1. Фаза «напряжение». Характеризуется ощущением тревожности, снижением настроения. Отдельные симптомы выражены [31]:
а) переживанием психотравмируюших обстоятельств, выражающееся в осознании психотравмируюших факторов профессиональной деятельности, невозможности что-либо изменить, накоп
лении отчаяния и раздражения;
б) неудовлетворенностью собой;
в) ощущением «загнанности в клетку»;
г) проявлением тревоги, депрессии.
2. Фаза «сопротивление». Характеризуется стремлением избежать действия эмоциональных факторов с помощью ограничений в эмоциональной отдаче при работе с клиентами. Конкретные симптомы выражаются:
а) в неадекватном эмоциональном реагировании на клиентов
или ситуации;
б) эмоционально-нравственной дезориентации;
в) расширении сферы экономии эмоций;
г) редукции профессиональных обязанностей — стремлении
упростить, облегчить, сократить обязанности, требующие эмоциональных затрат.
3. Фаза «истощение». Характеризует общим падением энергии.
Конкретные симптомы проявляются в виде:
а) эмоционального дефицита;
б) эмоциональной отстраненности;
в) личностной отстраненности;
г) психосоматических и психовегетативных нарушениях.
Факторы, влияющие на возникновение синдрома эмоционального сгорания. Б. Д. Карвасарский, суммируя проведенные исследования по данному вопросу, обозначил личностный, ролевой и организационный факторы [31].
Личностный фактор включает в себя пол, возраст, семейное положение, стаж работы, а также личностные характеристики. Обнаружено, что женщины в большей степени подвержены СЭС. Больщое значение имеет значимость работы как мотива деятельности, а
![]() также удовлетворенность
профессиональным ростом. Из личностных характеристик отмечается, что больше
подвержены СЭС мягкие, сочувствующие, гуманные, увлекающиеся люди, идеалисты,
ориентированные на людей, но в то же время неустойчивые, интровертируемые, фанатичные,
«пламенные», легко солидаризирующиеся. Другие исследователи отмечают людей
авторитарных с низким уровнем эмпатии, склонных к эмоциональной ригидности, с
интенсивными переживаниями профессиональной деятельности, со слабой мотивацией
отдачи в профессиональной деятельности, с наличием нравственных дефектов и
дезориентацией личности.
также удовлетворенность
профессиональным ростом. Из личностных характеристик отмечается, что больше
подвержены СЭС мягкие, сочувствующие, гуманные, увлекающиеся люди, идеалисты,
ориентированные на людей, но в то же время неустойчивые, интровертируемые, фанатичные,
«пламенные», легко солидаризирующиеся. Другие исследователи отмечают людей
авторитарных с низким уровнем эмпатии, склонных к эмоциональной ригидности, с
интенсивными переживаниями профессиональной деятельности, со слабой мотивацией
отдачи в профессиональной деятельности, с наличием нравственных дефектов и
дезориентацией личности.
Ролевой фактор включает в себя неопределенность и конфликтность ролей, нечеткую или неравномерно распределенную ответственность за свои профессиональные действия, конкуренцию с коллегами.
Организационный фактор включает в себя все, что касается технической организации работы, — нечеткую организацию и планирование труда, наличие бюрократических моментов, недостаточность средств и материалов для работы, большое количество часов; особенности профессиональной деятельности — интенсивность общения, необходимость принятия решений, работу с большим объемом информации, психологически трудный контингент; а также психологический климат в организации — конфликты с коллегами и руководителем.
Профилактика СЭС. Психологи-практики предлагают различные способы профилактики СЭС. Условно их можно разделить на четыре группы [80].
1. Приспособление себя к работе. Включает в себя профессиональный рост, а также развитие личностных качеств, необходи
мых в работе психолога: эмпатию, сочувствие, сопереживание, сострадание и т. д.
2. Приспособление работы к себе. Включает в себя четкое вычерчивание организационных рамок, адаптацию условий труда под себя, под свои возможности и особенности, а также выбор такого направления психотерапии, которое наиболее гармонично отвечает личности консультанта.
3. Экономичный расход «эмоционального топлива», т. е. уменьшение эмоциональных затрат. Д. Г. Трунов включает сюда различные способы «психологической защиты», контроль контрпереноса, разделение ответственности, формализацию и структурирование своей деятельности, использование техник.
4. Восстановление. Под ним подразумевается компенсация затраченных усилий, стимулирующие мероприятия: отслеживание результата, получение благодарности от клиентов, материальное вознаграждение, самопрезентация в среде специалистов и т.д.
Следует подчеркнуть здесь два момента.
Первый момент связан с организационным фактором — вычерчиванием организационных рамок. Необходимо разделять те моменты, которые зависят от самого специалиста, не только от его умения обеспечить себе рабочее пространство и выстроить его в соответствии со своими предпочтениями, но и от умения встраиваться в систему. Систему нельзя переделать, ее можно либо принимать и найти свою нишу, либо уйти в другое место. Поэтому вопрос о сфере личного влияния в организационных (системных) вопросах нужно очерчивать очень четко, о чем мы говорили в самом начале пособия.
Второй момент касается восстановления. Для психолога-практика необходимо постоянное общение с коллегами и постоянное повышение квалификации, поэтому профилактике СЭС способствуют различного рода семинары, обучающие программы, присутствие на конференциях и участие в них, выездные сессии и т.д. Все это позволяет по-иному рассматривать многие рабочие проблемы.
![]() Личностные особенности и предыдущий
опыт клиента. Выявление личностных особенностей и черт характера
является не самоцелью, а средством, которое применяется к решению определенной
задачи. Поэтому нет смысла проводить общую диагностику личности, используя к
тому же различные объемные тесты. Против бездумной диагностики личностных черт
и черт характера говорит еще и то, что, во-первых, это занимает много времени,
во-вторых, навязывает нам некоторое отношение к человеку, основанное на личных
предпочтениях и смыслах, а в-третьих, это абсолютно бесполезно с точки зрения
выявления проблемы и поиска решения. Если, к примеру, мы определим по каким-то
методикам, что такой-то человек — завистливый, что мы сможем с этим сделать?
Личностные особенности и предыдущий
опыт клиента. Выявление личностных особенностей и черт характера
является не самоцелью, а средством, которое применяется к решению определенной
задачи. Поэтому нет смысла проводить общую диагностику личности, используя к
тому же различные объемные тесты. Против бездумной диагностики личностных черт
и черт характера говорит еще и то, что, во-первых, это занимает много времени,
во-вторых, навязывает нам некоторое отношение к человеку, основанное на личных
предпочтениях и смыслах, а в-третьих, это абсолютно бесполезно с точки зрения
выявления проблемы и поиска решения. Если, к примеру, мы определим по каким-то
методикам, что такой-то человек — завистливый, что мы сможем с этим сделать?
Мы можем, например, увидеть в этом корень его проблем и не обратить внимания на важнейшие события его жизни, или мы можем проникнуться к нему отвращением, или мы можем увидеть в этом признак роста? Как мы распорядимся этим знанием? Оно будет лежать мертвым грузом и мешать нам до тех пор, пока мы не найдем ему применение.
Мы можем также отслеживать и отмечать по ходу беседы какие-то характерные, повторяющиеся паттерны поведения или чувства, не называя это устойчивой чертой характера и никак не оценивая их внутри себя. Тогда нам неважно, какой человек пришел к нам на консультацию: нравится он нам или нет, вызывает он какие-либо чувства или нет. Мы оцениваем любые личностные про
явления с точки зрения полезности, т. е. то, каким образом можно использовать в работе ту или иную особенность или черту для того, чтобы процесс шел вперед, решение было найдено и облегчение
для клиента наступило.
![]() Применительно
к задаче установления контакта и выстраивания психотерапевтических отношений,
нам, прежде всего, важно понимание таких глубинных аспектов личности, как
базовое доверие к миру и к людям. В зависимости от того, насколько у клиента присутствуют
эти составляющие, зависит наша оценка процесса установления контакта и
психотерапевтических отношений. Например, для одного человека сообщение
психологу о том, что у него отец пьет, является выражением огромного доверия,
поскольку это тщательно охраняемая семейная тайна. А для другого человека — это
всего лишь факт, который легко сообщается всем подряд. Относительно детей мы
уже говорили, что их откровенность подчас диктуется дефицитом любви и внимания,
а вовсе не возросшим доверием. Демонстрируемое восхищение и готовность работать
так же, как мы уже разобрали ранее, не является показателем установившихся
хороших психотерапевтических отношений, а может быть следствием переноса.
Применительно
к задаче установления контакта и выстраивания психотерапевтических отношений,
нам, прежде всего, важно понимание таких глубинных аспектов личности, как
базовое доверие к миру и к людям. В зависимости от того, насколько у клиента присутствуют
эти составляющие, зависит наша оценка процесса установления контакта и
психотерапевтических отношений. Например, для одного человека сообщение
психологу о том, что у него отец пьет, является выражением огромного доверия,
поскольку это тщательно охраняемая семейная тайна. А для другого человека — это
всего лишь факт, который легко сообщается всем подряд. Относительно детей мы
уже говорили, что их откровенность подчас диктуется дефицитом любви и внимания,
а вовсе не возросшим доверием. Демонстрируемое восхищение и готовность работать
так же, как мы уже разобрали ранее, не является показателем установившихся
хороших психотерапевтических отношений, а может быть следствием переноса.
В зависимости от возможной причины наше поведение строится иначе в каждом конкретном случае. Так, например, на сообщение о пьянстве отца консультант может среагировать по-разному. В одном случае он отметит, что это значительно осложняет жизнь клиента, т.е. что факт принят к сведению и будет рассмотрен сейчас или потом. А в другом случае он может озвучить чувства клиента и его страхи по этому поводу, т. е. признает, что это
действительно очень тяжелое обстоятельство, и поддержит клиента, проявляя к нему сочувствие.
Единственное, что можно с уверенностью утверждать, — это то, что отсутствие базового доверия к людям и к миру препятствует быстрому установлению контакта и глубоких психотерапевтических отношений, а иногда оказывается и вовсе непреодолимым препятствием.
Для того чтобы сделать более или менее верный вывод о наличии или отсутствии этих составляющих в структуре личности, нужно обладать сведениями о детских годах клиента (особенно о младенчестве), психических травмах, перенесенных в детстве, о семейной истории, семейных посланиях и установках. Если клиент работает с психотерапевтом достаточно долго, то все это постепенно вскрывается и становится важнейшим материалом для работы. Но на первой встрече мы вынуждены довольствоваться лишь собственным опытом и косвенными признаками.
Лучше быть более сдержанным в своей о ц е н к е у с т а н о в и в ш и х с я о т н о ш е н и й , чем считать факт установления кон
такта свершившимся. Поэтому метод исключения здесь наиболее оптимален.
1. Для начала следует установить, что у клиента не было отрицательного опыта общения с психологом. Хочется напомнить о профессиональной этике, когда, ругая коллег и обвиняя их в непрофессионализме, мы подрываем устои самой практической пси
хологии. Избегая прямых оценок (за исключением откровенно безобразных случаев), мы замечаем, что, возможно, не подошел метод, в рамках которого работал предыдущий психолог, или что- то в этом роде, и проверяем, насколько этот негативный опыт был действительно приобретен по вине психолога. Несколько вопросов о том, что конкретно делал психолог на консультации, позволяет это прояснить. Следует помнить, что откровенные сравнения нынешнего психолога с предыдущим консультантом скорее всего являются манипуляцией, а не проявлением внезапно вспыхнувшей симпатии и доверия.
2. Установить, что клиент думает по поводу психологов и психологической помощи, что он слышал от других людей и какое у него сложилось впечатление. Как мы уже говорили, дети часто путают психолога с психиатром. И для ребенка факт, что его послали к психологу, может звучать как признание его ненормальности. Здесь помогает небольшое снабжение информацией о сути психологической помощи и о конкретной роли в ней психолога.
3. Прояснить, с каким напутствием ребенка или взрослого направили к консультанту. Иногда, чтобы избежать критики в свой адрес как некомпетентного и несправляющегося со своими обязанностями специалиста, учителя преподносят консультацию у психо
лога как некую последнюю надежду на исправление безнадежного ребенка. Ребенку могут прямо сказать: «Сейчас тебя вылечат», родителям: «Вам надо обязательно сходить к психологу, может хоть он чем-то сможет вам помочь». То есть к психологу посылают тогда, когда все другие «цивилизованные» способы уже исчерпаны.
![]() В
последнее время, однако, отношение к психологам и психологической службе
меняется. К психологам начинают прислушиваться, и все более и более готовы
сотрудничать с ними, и все менее и менее воспринимают их как врагов и
конкурентов. Этому способствует, безусловно, возросший профессионализм школьных
психологов и просвещение общества. Но, тем не менее, высказывания, подобные
вышеупомянутым, встречаются в школе пока еще довольно часто. Высказывание может
быть не таким прямым, но по сути нести тот же смысл: психолог — карающая
инстанция и/или последняя надежда.
В
последнее время, однако, отношение к психологам и психологической службе
меняется. К психологам начинают прислушиваться, и все более и более готовы
сотрудничать с ними, и все менее и менее воспринимают их как врагов и
конкурентов. Этому способствует, безусловно, возросший профессионализм школьных
психологов и просвещение общества. Но, тем не менее, высказывания, подобные
вышеупомянутым, встречаются в школе пока еще довольно часто. Высказывание может
быть не таким прямым, но по сути нести тот же смысл: психолог — карающая
инстанция и/или последняя надежда.
4. Выяснить, с каким настроением ребенок или взрослый пришел на консультацию, что он сам думает по поводу того, зачем ему порекомендовали прийти на консультацию.
Ответы на эти вопросы помогут сориентироваться в контексте, в котором была предложена консультация, и выявить некоторые установки по отношению к психологической помощи и психоло
гам, а также слегка скорректировать их.
1. Каковы требования к кабинету психолога?
2. Какие шаги следует предпринять для того, чтобы выполнялись условия уважения границ психолога в психологическом кабинете?
3. Каковы временные рамки консультаций?
4. В чем состоят организационные аспекты при работе с учителями и родителями?
5. Чем отличается первичный запрос на психолого-консультативную помощь «для себя» и «для другого»?
6. Нужно ли предварительно беседовать с учителем, если его просьба касается ученика? Поясните ваше мнение.
7. В каком случае следует заключать контракт на оказание психологической помощи ребенку? С кем он заключается?
8. Какие вопросы нужно задавать при получении запроса «для другого»?
9. Как формулируется цель?
10. Перечислите критерии постановки дели. Объясните каждый из них.
11. Что такое «чудесные вопросы» и для чего они нужны при постановке цели?
12. В чем заключаются основные особенности школьной консультативной беседы?
13. Перечислите стадии консультативного процесса, по Г. С. Абрамовой.
14. Какие задачи решаются в ходе консультативной встречи? Перечислите их и дайте краткую характеристику каждой из них.
15. Какие типы клиентов встречаются в психологическом консультировании? Опишите каждый тип клиента.
16. Докажите, что межличностные отношения — важнейшая психотерапевтическая задача.
17. Что понимается под психотерапевтическими отношениями и чем они отличаются от любых других межличностных отношений?
18. Что влияет на становление особых психотерапевтических отношений в процессе консультирования и терапии?
19.
![]() Каковы характеристики типичного российского
пациента, проходящего психотерапевтическое лечение (по данным исследования Н.
Пезешкиана)?
Каковы характеристики типичного российского
пациента, проходящего психотерапевтическое лечение (по данным исследования Н.
Пезешкиана)?
20. Перечислите характерные черты и установки российского психотерапевта (консультанта), которые влияют на установление психотерапевтических отношений.
21. Перечислите техники установления и поддержания контакта, применяемые в НЛП и гуманистическом подходе.
22. Какие техники присоединения к семье применяются в школе структурной семейной терапии?
23. Перечислите обязательные шаги, которые должен сделать консультант в конце встречи с клиентом.
24. Что такое «перенос» и «контрперенос» в классическом и современном понимании?
25. Расскажите, какие существуют способы выхода из контрпереноса и профилактики контрпереноса в условиях школьного консультирования.
26. Как определяют эмпатию при когнитивном и эмотивном подходах?
27. Какие приводятся доводы в пользу необходимости личностной проработки психолога-практика?
28. Назовите фазы развития синдрома эмоционального сгорания.
29. Каковы факторы, влияющие на возникновение синдрома эмоционального сгорания?
30. Какие профилактические меры можно предпринять против возникновения синдрома эмоционального сгорания?
■ Продумайте, как вы будете строить (или уже строите) свою работу в школе. Ответьте на вопросы, поставленные в начале главы 3.
■ Сформулируйте свой запрос к психологу, исходя из перечисленных вопросов. В чем для вас были трудности? На какие вопросы было труднее всего отвечать?
■ Сформулируйте свою собственную цель. Ответьте на вопросы в соответствии с критериями ее построения. Не забудьте про «чудесные» вопросы. Если цель оказалась недостижимой на данный момент времени, выберите другую цель.
■ Понаблюдайте за окружающими вас людьми, представьте, что они потенциальные ваши клиенты. К какому типу вы бы их отнесли? Какие высказывания, характерные для определенного типа клиента у них превалируют?
![]() ■ Представьте себе, что вы
договорились о консультации с психологом-консультантом (или вспомните свой
первый визит к нему, если это было в вашей жизни). С какими ожиданиями вы туда
направляетесь, что хотите получить от консультации, какие страхи или тревожные
мысли вас посещают? Порасспрашивайте окружающих вас людей, какие мыс
■ Представьте себе, что вы
договорились о консультации с психологом-консультантом (или вспомните свой
первый визит к нему, если это было в вашей жизни). С какими ожиданиями вы туда
направляетесь, что хотите получить от консультации, какие страхи или тревожные
мысли вас посещают? Порасспрашивайте окружающих вас людей, какие мыс
ли приходят им в голову, когда вы им предлагаете посетить психолога? Сравните с исследованием Н. Пезешкиана. Что чаще всего встречается в вашем окружении? С чем, на ваш взгляд это может быть связано?
■ Проанализируйте исследование Н. Пезешкиана о характерных чертах российского психотерапевта. Что из представленных особенностей присуще вам как консультанту? Как это сказывается на вашей профессиональной деятельности? Как вы с этим справляетесь?
■ Выполните упражнение «Тренировка совладания с контрпереносом».
1. Вспомните ребенка (или любого другого человека), который вызывает у вас сильные чувства. Чувства могут быть любые.
2. На листе бумаги выделите две графы. В первой графе напишите свои собственные чувства (со степенью выраженности, например, от 0 до 100 %), все, которые испытываете по отношению к данному ребенку или любому другому человеку, а во вторую графу внесите все формы поведения, которые демонстрирует данный ребенок.
3. Разложите, какому поведению соответствует какое чувство. Можно увидеть, что некоторые формы поведения вызывают мало эмоций, или вовсе не обращают на себя внимание, а некоторые формы поведения вызывают очень сильный эмоциональный отклик.
4. Поразмышляйте над тем, с чем может быть связана подобная реакция.
5. Посмотрите на список со стороны, взглядом постороннего человека. С чем вы можете справиться, а что требует дополнительных усилий? Мысленно поставьте преграду между вашими чувствами и поведением ребенка.
6. Продумайте новую форму поведения по отношению к этому ребенку. Если сложно сразу выстроить поведение, представьте, как на вашем месте поступил бы зрелый, взрослый человек.
■ Выполните упражнение «Развитие эмпатии».
1. При более или менее длительном разговоре с любым человеком, отмечайте, что превалирует в вашем восприятии: эмоциональный отклик —
в виде сочувствия, сопереживания, или стремление понять смысл сказанного, суть сообщения, речи.
2. Проанализируйте, насколько вам понятен смысл сказанного (перескажите его) и насколько вам удалось проникнуться эмоциональным состоянием человека (назовите его для себя).
3.
![]() Старайтесь мысленно обращать внимание
на тот аспект, который менее всего задействован. Например, если вы сильно
эмоционально откликаетесь в процессе общения, постарайтесь какое-то время
сознательно реагировать на смысл и пытаться понять, что происходит с человеком
в данный момент: что он чувствует, чего хочет, что пытается донести до вас.
Если же для вас важнее понимание, постарайтесь в разговоре не слушать смысл
слов и не пытаться понять человека, а почувствовать его эмоциональное
состояние.
Старайтесь мысленно обращать внимание
на тот аспект, который менее всего задействован. Например, если вы сильно
эмоционально откликаетесь в процессе общения, постарайтесь какое-то время
сознательно реагировать на смысл и пытаться понять, что происходит с человеком
в данный момент: что он чувствует, чего хочет, что пытается донести до вас.
Если же для вас важнее понимание, постарайтесь в разговоре не слушать смысл
слов и не пытаться понять человека, а почувствовать его эмоциональное
состояние.
4. После того, как вы натренировались попеременно, по собственному желанию уделять больше или меньше внимания тому или иному аспекту, начните слушать человека, одновременно в каждый конкретный момент чувствуя его состояние и анализируя собственное понимание, облекая понимание в слова.
5. Доверьтесь себе. Самое сложное — это научиться доверять своим ощущениям и сделанным чувственным выводам. Для этого следует научиться ловить свой первый импульс, свое первое впечатление. Как правило, именно оно и бывает верным.
6. Проверьте эмпатическое знание. Для проверки своего знания, полученного таким внерациональным способом, существует техника перефразирования, когда вы проверяете свое впечатление, возвращая смысл
сказанного другими словами или же уточняя свое понимание и чувствование, спрашивая об этом прямо: «Я правильно понимаю, что для тебя это очень обидно?»
Диагностика включает в себя, как было уже отмечено, выявление проблемы, выдвижение и проверку гипотез, оценку личностных особенностей клиента, оценку возможности психологической помощи в рамках школьного учреждения и подбор адекватных
данному человеку и данной проблеме методик.
В психологическом словаре психодиагностика определяется как «наука и практика постановки психологического диагноза, т. е. выяснения наличия и степени выраженности у человека опреде
ленных психологических признаков» [66, с. 297]. Основная задача психодиагностики — попытаться объяснить поведение человека на основании определенного набора данных. Обычно используют один из двух подходов: поведение объясняют либо с точки зрения психической организации и индивидуальных особенностей развития и функционирования человека, либо с точки зрения группового поведения. Выбор определяется теоретическими предпочтениями консультанта, а также вопросами, которые ставит перед психологом заказчик или клиент.
В практике школьного консультирования чаще всего присутствует распределение по функциям: если требуется коррекция поведения ребенка, то ребенка рассматривают как некоего индиви
![]() да с набором личностных
черт, физиологических и психических признаков, перераспределение (изменение,
коррекция, смягчение, усиление и т.д.) которых внутри данного ребенка,
способствует изменению его поведения. Его социальное окружение, семья,
внутригрупповые процессы (например, в классе) являются дополнительной
информацией, которая позволяет более полно понять картину, но не принимается в
расчет как определяющая или равноценная. Если же требуется проконсультировать
классного руководителя или учителя по поводу внутригрупповых процессов в
классе, то используют, как правило, подход, где объяснительным принципом
поведения человека выступает групповое поведение. Тогда поведение того или
иного ученика воспринимается как результат его функционирования в группе,
влияния, которое оказывает групда на него, как ответная реакция его на группу и
т.д. Тогда индивидуальные особенности выступают как дополнительные, но не
определяющие.
да с набором личностных
черт, физиологических и психических признаков, перераспределение (изменение,
коррекция, смягчение, усиление и т.д.) которых внутри данного ребенка,
способствует изменению его поведения. Его социальное окружение, семья,
внутригрупповые процессы (например, в классе) являются дополнительной
информацией, которая позволяет более полно понять картину, но не принимается в
расчет как определяющая или равноценная. Если же требуется проконсультировать
классного руководителя или учителя по поводу внутригрупповых процессов в
классе, то используют, как правило, подход, где объяснительным принципом
поведения человека выступает групповое поведение. Тогда поведение того или
иного ученика воспринимается как результат его функционирования в группе,
влияния, которое оказывает групда на него, как ответная реакция его на группу и
т.д. Тогда индивидуальные особенности выступают как дополнительные, но не
определяющие.
Поведение конкретного ученика мы можем объяснить с разных сторон, в зависимости от того, какого рода информацию мы по
лучим и на какие факты будем ориентироваться.
Например, мы можем объяснить такое поведенческое проявление как боязнь отвечать у доски чертой характера, и тогда мы будем работать над приобретением ребенком уверенности в себе, развитием у него таких качеств, как устойчивость, стабильность и т.д.
Мы можем также объяснить такое поведение постоянными критическими замечаниями отца в его адрес и появлением у ребенка вследствие этого боязни отвечать у доски. Тогда мы пригласим отца на консультацию и будем работать над смягчением его позиции по отношению к своему ребенку.
Мы можем обнаружить в какой-то момент, что в классе, где учится этот мальчик, невыносимая обстановка: есть один лидер, который подмял под себя большинство сверстников и преследует нашего ребенка. Тогда мы будем вырабатывать меры с классным руководителем по изменению психологического климата в данном классе, а также проводить групповые занятия на сотрудничество и
доброжелательное отношение одноклассников друг к другу.
Далее вдруг всплывет факт, что учительница, на уроках которой мальчик не может отвечать у доски, недавно сильно поссорилась с матерью мальчика и стала отыгрываться на ребенке. Тогда мы будем разговаривать с учительницей и матерью ребенка о возможности урегулирования конфликта.
![]() У
нас также может возникнуть гипотеза о том, что подобное поведение могло
спровоцировать недавнее введение в школе нового правила о том, что учащиеся,
хорошо проявляющие себя на уроках, в частности блестяще отвечающие у доски,
будут поощряться поездками по различным городам страны. Эта перспектива
настолько привлекательна для нашего ребенка, что он совершенно теряется у доски
в силу своего неуверенного характера. Тогда мы опять же таки будем работать над
личными качествами данного ребенка.
У
нас также может возникнуть гипотеза о том, что подобное поведение могло
спровоцировать недавнее введение в школе нового правила о том, что учащиеся,
хорошо проявляющие себя на уроках, в частности блестяще отвечающие у доски,
будут поощряться поездками по различным городам страны. Эта перспектива
настолько привлекательна для нашего ребенка, что он совершенно теряется у доски
в силу своего неуверенного характера. Тогда мы опять же таки будем работать над
личными качествами данного ребенка.
Круг замкнулся. Ныне много говорят о комплексном подходе, который учитывает как личные особенности человека, его психическую организацию, так и средовые и событийные аспекты. Безусловно, подобное отношение к диагностике и соответственно последующей работе с клиентом более продуктивно, однако здесь также присутствует поиск причинно-следственных связей: он ве
дет себя так, потому что он неуверен в себе (у него жесткий отец, в классе невыносимая обстановка, учительница поссорилась с ма
139
терью...). При подобном подходе основными считаются ответы на вопросы: «Почему?» и «Кто виноват?». Если мы выявим, «почему?», то нам будет ясно, что делать; если поймем «кто виноват?»,
то понятно будет, на кого воздействовать или против кого дружить с клиентом.
![]() На
практике же сплошь и рядом меры, принимаемые на основании данного подхода, не
приносят результатов. Вроде бы всем все понятно, кто виноват и что делать,
беседы проведены, с мальчиком занимаются по программе повышения уверенности в
себе, а он по-прежнему не может отвечать у доски. Причем наблюдается любопытный
факт, что он вовсе не так неуверен в себе: в кругу сверстников на улице он
ведет себя довольно устойчиво, командует и не проявляет никаких признаков
забитости. Мы можем также увидеть, что этот мальчик прекрасно пишет
контрольные, и совсем запутаться, пытаясь объяснить его поведение.
На
практике же сплошь и рядом меры, принимаемые на основании данного подхода, не
приносят результатов. Вроде бы всем все понятно, кто виноват и что делать,
беседы проведены, с мальчиком занимаются по программе повышения уверенности в
себе, а он по-прежнему не может отвечать у доски. Причем наблюдается любопытный
факт, что он вовсе не так неуверен в себе: в кругу сверстников на улице он
ведет себя довольно устойчиво, командует и не проявляет никаких признаков
забитости. Мы можем также увидеть, что этот мальчик прекрасно пишет
контрольные, и совсем запутаться, пытаясь объяснить его поведение.
При системном подходе линейная причинно-следственная связь заменяется на круговую, а вопрос «Почему?» на вопрос «Зачем?». Зачем ребенку нужно плохо отвечать у доски? Для чего ему нужно такое поведение?
Могут быть, например, следующие варианты ответа:
— чтобы поддержать маму, которая находится под гнетом критикующего отца. Ребенок, боясь отца, с одной стороны, учится хорошо, а с другой — проявляя лояльность к своей матери, плохо отвечает у доски, так как известно, что в школе его мама никогда не могла отвечать у доски, для нее это было тяжким испытанием;
— чтобы почаще приезжала бабушка с ним заниматься. Когда бабушка в доме, то родители не ругаются и разговаривают друг с другом без крика;
— чтобы учителя не ставили его в пример старшему брату, который учится в той же школе и плохо успевает. А когда хвалят младшего брата, он задирается, дразнит и даже бьет его.
Таким образом, системный подход позволяет объяснить поведение человека с точки зрения целесообразности и пользы. Каждый человек стремится к безопасности и защищенности. Будучи общественным животным, он может получить эту защищенность только входя в какое-нибудь сообщество, систему, которая, с одной стороны, обеспечивает ему необходимую безопасность, а с
другой — накладывает многие ограничения на развитие и функционирование данного человека в этой системе. Человек, таким образом, теряет значительную часть своей индивидуальности и начинает работать на сохранение системы как целого.
Поэтому его поведение прежде всего обусловлено требованиями системных законов, а не его личными желаниями или потребностями. В системе все части и процессы целого взаимовлияют и взаимообусловливают друг друга, т. е. находятся в тесной связи и определяют поведение друг друга. В свою очередь, система выступает как некое целое, как некий организм, который больше, чем сумма его частей, и который живет по своим законам и не подчиняется законам функционирования ее отдельных элементов и подсистем. Этот принцип системной теории — принцип тотальности, или нонсуммарности — был выведен одним из основоположников общей теории систем Людвигом Берталанфи (1973) и отражает «организмический» взгляд на мир.
Например, зная досконально личностные особенности и черты, физиологические и психические характеристики отдельного учителя, практически невозможно предсказать его поведение в той или иной рабочей ситуации. В силу того что он является частью системы — школы, он будет действовать в интересах данной системы. Однако это далеко не всегда означает послушание или выполнение всех принятых в данной организации норм и правил. Как это ни парадоксально звучит, но очень часто бунтарь или сканда
лист, постоянно нарушающий порядок, выполняет очень важную функцию стабилизации системы или является выразителем стрем
ления системы к развитию. То же самое в семье — нередко плохое поведение ребенка, симптом или болезнь являются цементом для скрепления отношений родителей между собой.
![]() В
пример можно привести такой случай из практики. Семья состоит из трех человек:
мама, папа и девочка 12 лет. Папа работает и полностью содержит семью. Мама уже
несколько лет не работает, а занимается домом и ребенком. Когда-то, на заре их
семейной жизни, женщина работала и в свою очередь содержала семью. Дочка учится
в VI классе, круглая отличница. Мама жестко контролирует выполнение уроков и
многие из них делает вместе с девочкой. Проблемы с ребенком заключаются в том,
что каждое приготовление уроков напоминает боевое сражение: с криками, руганью,
слезами и т.д. Их совместное учение продолжается до прихода папы. Папа приходит
с работы, мама жалуется ему на поведение дочери, папа идет в комнату дочери и
воспитывает ребенка. После этого муж с женой мирно обсуждают ужасное поведение
дочери и ложатся спать довольные друг другом. Зная девочку в школе, никому и в
голову не приходит, что она ведет себя подобным образом дома. То есть, ее
поведение обусловлено требованием семейной системы, все элементы которой: мама,
папа и дочь — взаимовлияют и взаимообусловливают друг друга. Мама стыдится
своего, как ей кажется, безделья и доказывает, что она значима в семье и
выполняет очень тяжелую работу по обучению дочери. Папа признает, что ее труд
тяжек и уважает ее за титанические усилия, которые она тратит на обучение
Дочери. Муж и жена всегда имеют тему для разговоров, так как обычно их интересы
не совпадают. Ребенок счастлив тем, что выполняет такую важную функцию в семье
и гордится тем, что сохраняет се-
В
пример можно привести такой случай из практики. Семья состоит из трех человек:
мама, папа и девочка 12 лет. Папа работает и полностью содержит семью. Мама уже
несколько лет не работает, а занимается домом и ребенком. Когда-то, на заре их
семейной жизни, женщина работала и в свою очередь содержала семью. Дочка учится
в VI классе, круглая отличница. Мама жестко контролирует выполнение уроков и
многие из них делает вместе с девочкой. Проблемы с ребенком заключаются в том,
что каждое приготовление уроков напоминает боевое сражение: с криками, руганью,
слезами и т.д. Их совместное учение продолжается до прихода папы. Папа приходит
с работы, мама жалуется ему на поведение дочери, папа идет в комнату дочери и
воспитывает ребенка. После этого муж с женой мирно обсуждают ужасное поведение
дочери и ложатся спать довольные друг другом. Зная девочку в школе, никому и в
голову не приходит, что она ведет себя подобным образом дома. То есть, ее
поведение обусловлено требованием семейной системы, все элементы которой: мама,
папа и дочь — взаимовлияют и взаимообусловливают друг друга. Мама стыдится
своего, как ей кажется, безделья и доказывает, что она значима в семье и
выполняет очень тяжелую работу по обучению дочери. Папа признает, что ее труд
тяжек и уважает ее за титанические усилия, которые она тратит на обучение
Дочери. Муж и жена всегда имеют тему для разговоров, так как обычно их интересы
не совпадают. Ребенок счастлив тем, что выполняет такую важную функцию в семье
и гордится тем, что сохраняет се-
141
мью. Некоторые высказывания членов семьи иллюстрируют этот порядок. Девочка говорит: «Без меня вы вообще бы здесь поубива
ли друг друга». Папа говорит: «У нас с женой все хорошо, особенно когда мы дружим против ребенка». Жена говорит: «Я не могу идти
работать, потому что тогда дочь скатится на двойки, только я ее могу контролировать».
Таким образом, все элементы данной системы выполняют одну и ту же важную функцию — сохранение системы в равновесии (гомеостазе). Это один из важнейших принципов системного подхо
да. «Гомеостаз — это стремление системы сохранять свои сущностные свойства во взаимодействии со средой, обеспечивая выживание системы» [92, с. 12].
При помощи плохого поведения дочери родители наконец-то нашли общий язык. Известно, что, до того как дочь пошла в школу, у супругов были очень и очень непростые отношения: муж несколько раз уходил из дома; жена, постоянно упрекала супруга в
том, что он не может обеспечить семью, унижала и оскорбляла его; муж зарабатывал мало и пил. Представим себе, что благодаря усилиям школьного психолога девочка стала делать уроки самостоятельно и нужда в тотальном контроле отпала. Что будет с людьми, входящими в данную систему, и смогут ли они сохранить систему в неизменном виде? Это предсказать невозможно. Скорее всего,
члены семьи объединятся против внешнего вмешательства, которое угрожает равновесию и стабильности их системы, и какое-то время будут дружить против психолога, а потом все вернется на круги своя.
![]() Но
может быть и так: девочка станет хорошо функционирующим членом семьи, мать,
почувствовав свою никчемность и ненужность в семье, заболеет тяжелой болезнью и
превратится в беспомощную, требующую постоянного ухода женщину. Тогда она будет
получать признание мужа в виде ухода и заботы. Либо муж, чувствуя, что он как
главный арбитр между дочерью и матерью лишился своей важной роли, начнет пить,
показывая, что он очень устает на работе. Либо вся семья пойдет на консультацию
к семейному системному психотерапевту и выйдет на другой уровень
функционирования.
Но
может быть и так: девочка станет хорошо функционирующим членом семьи, мать,
почувствовав свою никчемность и ненужность в семье, заболеет тяжелой болезнью и
превратится в беспомощную, требующую постоянного ухода женщину. Тогда она будет
получать признание мужа в виде ухода и заботы. Либо муж, чувствуя, что он как
главный арбитр между дочерью и матерью лишился своей важной роли, начнет пить,
показывая, что он очень устает на работе. Либо вся семья пойдет на консультацию
к семейному системному психотерапевту и выйдет на другой уровень
функционирования.
И здесь теория систем говорит об изменяемости систем под влиянием некоторых внешних воздействий. То есть система способна меняться, но предсказать, как и в какую сторону она будет меняться, невозможно. Поэтому функция консультанта сводится прежде всего не к вмешательству в систему, изменению ее, а в предоставлении системе новых возможностей достижения гомеостаза на новых условиях и в новых конфигурациях.
То же самое можно наблюдать и в организационных системах.
Нередко какой-нибудь скандальный, профессионально плохо
142
функционирующий учитель является стабилизатором школьной системы. На него вечно жалуются родители, он постоянно конф
ликтует с учениками и администрацией, но его терпят в школе и не предлагают покинуть учебное заведение. Оказывается, что данный учитель служит выразителем недовольства учителей существующими порядками в школе и таким образом учителя получают возможность донести до администрации свои требования. В свою очередь, администрация может не опасаться объединения учителей и открытого бунта. А учитель может творить все, что ему вздумает
ся, не боясь наказания.
![]() Важно
всегда помнить, что в данных дисфункциональных отношениях нет жертв, гонителей,
проигравших и выигравших. Каждый получает свою выгоду на основе такого кривого
баланса. В семье, которая была описана выше, ребенок получает свою выгоду,
чувствуя свою значимость в семье и власть над родителями. В организации, как мы
видели, каждая подсистема и конкретно каждый член этой системы также получает
свою выгоду: директор держит на должности завуча властного и грубого человека,
так как тот прикрывает директора перед всякими проверками и выполняет львиную
долю обязанностей директора. Завуч получает неограниченную власть. Каждый
конкретный учитель, который боится высказываться открыто в адрес завуча,
получает возможность выразить свое недовольство через скандалиста или
поинтриговать за спиной у коллег, добиваясь неких для себя благ, ну а сам
скандалист оказывается в центре внимания и получает признание своей значимости,
пусть и в негативной форме. Это все же лучше, чем
Важно
всегда помнить, что в данных дисфункциональных отношениях нет жертв, гонителей,
проигравших и выигравших. Каждый получает свою выгоду на основе такого кривого
баланса. В семье, которая была описана выше, ребенок получает свою выгоду,
чувствуя свою значимость в семье и власть над родителями. В организации, как мы
видели, каждая подсистема и конкретно каждый член этой системы также получает
свою выгоду: директор держит на должности завуча властного и грубого человека,
так как тот прикрывает директора перед всякими проверками и выполняет львиную
долю обязанностей директора. Завуч получает неограниченную власть. Каждый
конкретный учитель, который боится высказываться открыто в адрес завуча,
получает возможность выразить свое недовольство через скандалиста или
поинтриговать за спиной у коллег, добиваясь неких для себя благ, ну а сам
скандалист оказывается в центре внимания и получает признание своей значимости,
пусть и в негативной форме. Это все же лучше, чем
когда тебя не видят и не замечают.
То, о чем мы говорим, касается, естественно, живых систем. Живые системы отличаются от неживых собственной активно поддерживаемой динамикой. Осуществляя постоянный предметный и информационный обмен с окружающим миром, т.е. будучи открытой, система не меняет свои сущностные характеристики, не поддается влиянию извне, а, наоборот, распространяет свою активность на преобразование внешней среды в соответствии с потребностями своей структуры. Поступающая извне информация о результатах функционирования системы (об
ратная связь) указывает на отклонения от желаемого состояния системы, некой нормы (отрицательная обратная связь) и позволяет вводить коррективы для достижения гомеостаза (равновесия). При положительной обратной связи внешняя информация может привести к потере стабильности и равновесия. Если система и так крайне нестабильна, то в какой-то критической точке система может перейти в другое качественное состояние или прекратить свое существование в том виде, в котором она была ранее.
У любой системы есть границы, которые отделяют ее от других систем. Каждая система является, в свою очередь, подсистемой более крупной системы, которая в свою очередь входит в еще бо
лее крупную систему. Например, подсистема учеников в школе входит в более крупную систему школы, школа, в свою очередь,
![]() является подсистемой
районного объединения, которое входит в систему общего образования и т.д. В то
же время каждый конкретный индивид является элементом одновременно различных
систем: ребенок одновременно входит и в систему семьи, и в систему школы, и в
систему спортивной секции, музыкальной школы и т.д. Учитель является элементом
системы педагогического состава, школы, своей собственной семьи,
профессионального сообщества и т. д.
является подсистемой
районного объединения, которое входит в систему общего образования и т.д. В то
же время каждый конкретный индивид является элементом одновременно различных
систем: ребенок одновременно входит и в систему семьи, и в систему школы, и в
систему спортивной секции, музыкальной школы и т.д. Учитель является элементом
системы педагогического состава, школы, своей собственной семьи,
профессионального сообщества и т. д.
В каждой системе действуют свои правила и нормы, которые члены системы распространяют на другие системы, стараясь приспособить другие системы, подсистемы и конкретно отдельных членов под свои нужды.
Для нас вышеприведенные о с н о в о п о л а г а ю щ и е х а р а к т е р и с т и к и с и с т е м ы важны для понимания возможностей и ограничений в работе психолога в школьном (и любом другом
организационном) консультировании. Исходя из этих характеристик, можно вывести несколько п р и н ц и п о в р а б о т ы п с и х о л о г а п р и с и с т е м н о м п о д х о д е .
1. Система первична по отношению к входящим в нее элементам. Это означает, что любой отдельный элемент системы, входящий в нее, живет по ее законам и подчиняется требованиям ее организации. Поэтому целесообразнее работать со всей системой сразу, будь то организационная система или семейная система. По крайней мере при диагностике нужно исследовать всю систему, а не только отдельного ее члена.
2. В системе работает принцип целесообразности и пользы. Э то означает, что рассматривать действующие способы взаимодействия в системе и функционирование отдельных членов системы с точки зрения правильно-неправильно не имеет смысла. Психолог- консультант выступает как наблюдатель, а не как активный преобразователь. Ведь его представления о действительности относятся к его системе, а не к системе, которую он наблюдает. В наро
де существует очень емкая поговорка «Со своим уставом в чужой монастырь не суйся». Действуя с позиции собственных представлений о правильности-неправильности, консультант может вызвать лишь раздражение и сопротивление.
3. Все элементы системы взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга. Это означает, что в процессе диагностики бес
смысленно искать правых и виноватых, а также устанавливать прямые причинно-следственные связи. Гораздо эффективнее по
144
нять характер этих взаимовлияний, а также их функциональную значимость для всех членов системы.
4. Изменения в системе происходят лишь тогда, когда они отвечают потребностям данной системы. То есть иногда малые воздействия производят эффект неимоверной силы, а иногда большие вливания никак не отзываются. Если произведенная интервенция не отвечает запросам системы на данный момент ее существования, то никаких изменений не произойдет. Понимание этого принципа помогает психологам, с одной стороны, избежать ощущения
собственного могущества (при сильной отдаче), а с другой стороны, защититься от сознания собственной никчемности или неспособности (при отсутствии какого-либо видимого результата).
5. Любые изменения, происходящие с отдельным элементом системы, неизбежно влекут за собой изменения в целой системе. Изменения в поведении или реакциях отдельного человека неизбежно заставляют других членов системы по-друтому выстраивать свое взаимодействие, пересматривать свои эмоциональные реакции, способы коммуникации и т.д. Это важный принцип, позволяющий уважать любое сопротивление клиента как сопротивление системы, к которой данный клиент принадлежит. И также ценить любые усилия и любое решение, которое клиент принимает в результате работы.
6.
![]() Предсказать
характер изменений системы невозможно. Слишком много дополнительных и
сопутствующих факторов, помимо воздействий психолога-консультанта, влияют на ее
функционирование и существование. Даже при полной информации обо всех возможных
факторах ни мы, ни клиенты не могут полностью учитывать бессознательный
материал, а также способы его переработки в психической реальности. Поэтому
наиболее предпочтительно заинтересованное наблюдение со стороны психолога-
консультанта, а также уважительное принятие им любых изменений, происходящих в
системе. Системный психолог-консультант создает условия, дает импульс для новой
организации элементов системы.
Предсказать
характер изменений системы невозможно. Слишком много дополнительных и
сопутствующих факторов, помимо воздействий психолога-консультанта, влияют на ее
функционирование и существование. Даже при полной информации обо всех возможных
факторах ни мы, ни клиенты не могут полностью учитывать бессознательный
материал, а также способы его переработки в психической реальности. Поэтому
наиболее предпочтительно заинтересованное наблюдение со стороны психолога-
консультанта, а также уважительное принятие им любых изменений, происходящих в
системе. Системный психолог-консультант создает условия, дает импульс для новой
организации элементов системы.
Понятие «подсистема». Школа представляет собой сложное системное образование, которое включает в себя множество подсистем. Подсистема — это составная часть системы, которая выполняет в ее рамках относительно независимые функции [8]. И если по отношению к семейной системе разделение ее на подсистемы достаточно просто и ясно (индивид, супружеская подсистема, сиблинговая подсистема, родительская подсистема), то в отношении школы существуют разногласия. И прежде всего это касается включения или не включения семейной системы как отдельной подсистемы в общую школьную организацию.
Например, Марианна Франке-Грикш, много лет проработавшая в школе сначала учителем, а потом системным терапевтом, считает, что семьи учеников нужно включать в общую школьную систему [86]. Однако в таком случае следует включать в нее и семьи учителей, и семьи администрации, что невообразимо расширит школьную систему и не позволит четко очертить ее границы. Кроме того,
включение любой семейной системы в организацию неизбежно повлечет за собой смешение контекстов: организационного и семейного. И тогда проблемы, возникающие на одном уровне, например между учениками в классе, придется решать с помощью
семейной психотерапии для обеих семей, а также для семьи учителя, который также включен в данный конфликт.
В то же время необходимо учитывать, что любая система является частью другой системы, а также то, что ни одна система не может быть полностью отделена от другой, границы систем проницаемы и постоянно идет взаимообмен между системами и взаимовлияния (как внешние воздействия) одних систем на другие.
![]() Например,
«процесс, который мы называем воспитанием или обучением, осуществляется путем
нарушения воспитателем и учителем равновесия системы “ребенок”. Каким бы “отточенным” ни было то
или иное воспитательное или учебное мероприятие, невозможно предугадать, как
это “нарушение” подействует на ребенка, впишется ли оно в происходящий в нем в
данный момент внутренний процесс и сможет быть принято, или же оно вызовет
Например,
«процесс, который мы называем воспитанием или обучением, осуществляется путем
нарушения воспитателем и учителем равновесия системы “ребенок”. Каким бы “отточенным” ни было то
или иное воспитательное или учебное мероприятие, невозможно предугадать, как
это “нарушение” подействует на ребенка, впишется ли оно в происходящий в нем в
данный момент внутренний процесс и сможет быть принято, или же оно вызовет
страх и побудит ребенка закрыться для этого “нарушения”» [86, с. 88].
Исходя из вышесказанного и рассматривая школу прежде всего как организацию, выполняющую общую для всех подсистем фун
кцию обучения и воспитания, выделим следующие подсистемы:
— члены школы как отдельные люди;
— педагогическая подсистема — учителя, воспитатели, методисты;
— ученическая подсистема;
— родительская подсистема: мамы, папы, бабушки и дедушки, тети и дяди — все, кто осуществляет функцию контроля за учениками вне школы;
— психологическая служба — психологи-консультанты; психологи-кураторы, педагоги-психологи и т.д.;
— подсистема медработников — медсестры, стоматологи, массажисты, логопеды и т.д.;
— подсистема администрации — директор, завучи, те, кто осуществляет руководство процессом обучения и воспитания;
146
— хозяйственная подсистема — работники столовой, охранники, уборщицы, гардеробщики и т.д.
Психолог-консультант, будучи частью системы, непосредственного обучения и воспитания не осуществляет, он является необходимым элементом, во многом обеспечивающим слаженность и эффективность данного процесса. Скорее психологическую службу по функции можно назвать элементом сопровождения процесса.
Отделение семейной системы от школьной важно для того, чтобы блокировать слишком сильное включение учителей, психологов и отдельных членов школьной системы в жизнь семьи. Понимая основополагающую роль семьи в процессе развития ребенка, школа выполняет свою функцию без отрицания или исправления семейной системы. Психолог-консультант не может вмешиваться в семейную систему на уровне семейного психотерапевта, он может привлечь родителей и другие силы для исправления нежелательного поведения ребенка в школе, и только в ней.
Об этом наиважнейшем положении мы будем говорить более подробно далее.
Что такое проблема? «Проблемой является то, что, с одной стороны, рассматривается кем-то как нежелательное состояние, требующее изменений, с другой же — как что-то принципиально подлежащее изменениям» [94, с. 115].
Исходя из этого определения, п р о б л е м а и м е е т с л е д у ю щ и е о с о б е н н о с т и , в каждой из которых содержатся и пути разрешения этой проблемы.
1. Проблема есть определенное состояние. Если проблема видится разными людьми как определенное состояние, это означает, что произошла массивная селекция: из многих одновременных процессов изъяты и помещены в центр внимания несколько или даже один наиболее существенный процесс. Ему (им) дается название; остальные процессы отодвигаются на задний план. То есть весь фокус внимания множества людей, в семье — всех членов направлен только на одно-два проблемных проявления. Проблема занимает все пространство существования в данной систе
![]() ме. Восприятие других
процессов, как негативно окрашенных, так и позитивных, заблокировано. Проблема
становится главной темой общения, смыслом существования: с ней стараются
ужиться, ее пытаются изменить, отрицать и т.д. Например, в семьях с алкоголиком
все внимание крутится вокруг проблемного поведения этого члена семьи, все
разговоры, события, ритм отдельных членов семьи — все подчинено данной теме.
Или девиантное поведение подростка может стать на долгое время темой обсуждения
в школьном учреждении. Учителя, родители, ученики включаются в эту проблему:
обсуждают, анализируют, дают советы, ужасаются и
т.д.
ме. Восприятие других
процессов, как негативно окрашенных, так и позитивных, заблокировано. Проблема
становится главной темой общения, смыслом существования: с ней стараются
ужиться, ее пытаются изменить, отрицать и т.д. Например, в семьях с алкоголиком
все внимание крутится вокруг проблемного поведения этого члена семьи, все
разговоры, события, ритм отдельных членов семьи — все подчинено данной теме.
Или девиантное поведение подростка может стать на долгое время темой обсуждения
в школьном учреждении. Учителя, родители, ученики включаются в эту проблему:
обсуждают, анализируют, дают советы, ужасаются и
т.д.
2. Проблема определяется кем-то. Определение и описание некоего очерченного состояния выполняют один или несколько наблюдателей. Они могут соглашаться относительно наличия и местонахождения проблемы или же, наоборот, вступать в дискуссию по этому поводу. Иногда все члены системы единодушно признают наличие проблемы, например в школе э то может быть отсутствие достаточного финансирования государством образова
тельных учреждений. Иногда имеются серьезные разногласия по поводу наличия проблемы.
В книге М. Эриксона и Д . Хелли «Стратегии семейной терапии» описывается случай с двенадцатилетним мальчиком, который каждую ночь мочился в постель. Мать считала, что это проблема, и поэтому привела мальчика на прием к психотерапевту. Отец же считал, что это нормально, что все дети до шестнадцати лет должны мочиться в постель, как было с ним самим. И если они этого не
делают, то они ненормальные. Мальчик, стремясь добиться любви своего отца, мочился в постель.
Даже если одним из членов семьи наличие проблемы отрицается, все разговоры, коммуникации в семье или организации строятся вокруг этой проблемы. Для кого-то, кто признает наличие проблемы, становится смыслом жизни доказать, что проблема все-таки существует, для кого-то — объяснить ее отсутствие.
3. Проблема — нечто нежелательное/требующее изменений.
![]() Найдется хотя бы несколько
лиц, способных описать состояние и воспринимающих его как нежелательное либо
требующее изменения. Этими лицами данное состояние воспринимается как
ненормальное, что создает необходимую мотивацию для того, чтобы побудить других
или себя самого внести соответствующие изменения. На этом этапе полезно
отличать проблему от страдания. Страдание становится проблемой лишь тогда, когда
страдающий сообщает другому о своем субъективно пережитом страдании (или же
другой чувствует и догадывается об этом), что находит продолжение и в
последующих коммуникациях. Даже если окружающие воспринимают положение в
какой-либо системе как ужасное, это совсем не означает, что членами данной
системы это положение ощущается именно таким образом.
Найдется хотя бы несколько
лиц, способных описать состояние и воспринимающих его как нежелательное либо
требующее изменения. Этими лицами данное состояние воспринимается как
ненормальное, что создает необходимую мотивацию для того, чтобы побудить других
или себя самого внести соответствующие изменения. На этом этапе полезно
отличать проблему от страдания. Страдание становится проблемой лишь тогда, когда
страдающий сообщает другому о своем субъективно пережитом страдании (или же
другой чувствует и догадывается об этом), что находит продолжение и в
последующих коммуникациях. Даже если окружающие воспринимают положение в
какой-либо системе как ужасное, это совсем не означает, что членами данной
системы это положение ощущается именно таким образом.
Примером может служить существование страны в условиях диктатуры. Многие люди живут в полной уверенности, что они живут счастливо. Они молча страдают, не определяя проблему. Те же, кто видит и определяет свои страдания и страдания своих близких как проблему, каким-то образом пытаются изменить положение дел: начиная от анекдотов, высмеивающих существующий общественный строй, и кончая прямыми акциями протеста.
Здесь нужно иметь в виду важнейший для психолога-консультанта момент: бессмысленно работать с человеком, если он не оп
148
![]() ределяет свое состояние как
проблему. Самый распространенный Пример — это жизнь с алкоголиком или
насильником. Для многих российских женщин муж алкоголик — это нормальное
явление. «А кто не пьет?» — наиболее часто слышимая фраза. Алкоголизм
становится проблемой, когда один из членов семьи заявляет об этом как о
проблеме. Тогда и только тогда появляется возможность эту проблему решать.
ределяет свое состояние как
проблему. Самый распространенный Пример — это жизнь с алкоголиком или
насильником. Для многих российских женщин муж алкоголик — это нормальное
явление. «А кто не пьет?» — наиболее часто слышимая фраза. Алкоголизм
становится проблемой, когда один из членов семьи заявляет об этом как о
проблеме. Тогда и только тогда появляется возможность эту проблему решать.
4. Проблема — то, что подлежит изменению. Всякое состояние в принципе подвержено изменениям; это означает, что по крайней мере несколько лиц (участники), задействованных в процессах создания проблемы, описывают эти процессы как нечто изменчивое. Проблемы отличаются от судьбы, невезения, траге
дии и т.д. верой в то, что в проблемной системе найдется хотя бы один участник, способный прекратить нежелательную ситуацию.
Таким образом, решение проблемы лежит в ее переосмыслении, переоценке, расширении возможностей функционирования отдельных членов системы вне проблемы, инициировании новых со сто ян и й системы. В случае же невозможности изменить ситуацию решение состоит в принятии неизменяемости самой ситуации и изменении отношения к ней.
Школьному психологу-консультанту, как уже говорилось, чаше всего приходится иметь дело с клиентами типа «Жалобщик» и «Посетитель». У данного типа клиентов проблема всегда достаточно прозрачна и понятна для описания. Например, у «Жалобщи
ка»: «он плохо учится», «она не хочет оставаться дома одна», «его ничего не интересует», «он гуляет и пьет». У «Посетителя»: «учи
тельница говорит, что я плохо себя веду на уроках», «мама считает, что я не могу себя заставить начать новое дело», «мне все говорят, что я очень неуверенный в себе человек». Кроме того, всегда есть и причинно-следственное объяснение, позволяющее оставить проблему без изменений.
Н а и б о л е е ч а с т о в с т р е ч а ю щ и е с я т и п ы о б ъ я с н е ний.
1.«Судьба-злодейка». Это тип объяснений, при котором виноваты прошлые обстоятельства, события, наследственность и т.д. При консультировании родителей часто можно услышать рассказ о тяже
лых родах, о детских болезнях ребенка, о тяжелых условиях жизни когда-то. Основное положение здесь — фатальность влияния про
шлой ситуации на нынешнее неблагополучное состояние. Как будто прошлое событие раз и навсегда задало тон нынешней жизни. Часто можно слышать, например, такое объяснение: «Если бы мы с самого начат жили отдельно, а не с моей мамой, то у нас с мужем все сложилось бы иначе, и Петя не был бы сейчас наркоманом».
2. «Я знаю, кто виноват». Это тип объяснени
вина за неблагоприятные межличностные отношения перекладывается на одного человека, наделенного отрицательными чертами: злая мать, изначально порочный ребенок, завистливый коллега, грубый директор и т. д. Межличностные отношения представляются как односторонние коммуникации, направленные на воздействие одной стороны на другую. Участие другой стороны не рассматривается.
3. «Что я могу?» Это тип объяснений, при котором ничего нельзя изменить по определению: «это наша страна такая», «если бы платили больше», «видимо, так Богу было угодно».
Основной задачей таких объяснений является желание сохранить проблему в неизменном состоянии. Начинающему психологу-консультанту бывает трудно преодолеть соблазн начать сразу
![]() же работать с представленным
утверждением, стараясь переубедить, показать ошибочность представления о
невозможности что- либо изменить. Однако все попытки хоть как-то расшатать
убеждение в невозможности улучшений встречают сопротивление. Вялое согласие
нельзя считать собственно согласием, скорее это способ уйти от давления.
же работать с представленным
утверждением, стараясь переубедить, показать ошибочность представления о
невозможности что- либо изменить. Однако все попытки хоть как-то расшатать
убеждение в невозможности улучшений встречают сопротивление. Вялое согласие
нельзя считать собственно согласием, скорее это способ уйти от давления.
И здесь возникает недоумение. Если людям так плохо, то что им мешает это положение изменить? Если проблема занимает так много места в их жизни, то почему нужно за нее так держаться?
Если по системной логике мы заменим вопрос «почему» на вопрос «зачем», то для нас становится очевидным, что мы имеем дело с симптомом и проблему нам заявляют как задачу изменения симп
тома, а не решение собственно проблемы, выразителем которой этот симптом является.
В таком случае с и м п т о м в ы п о л н я е т о д н у из н и ж е п е р е ч и с л е н н ы х ф у н к ц и й [см. 94, с. 123].
1. Указывает на неэффективное решение проблем. Например, супруг отдален от семьи, не участвует в ее жизни, редко появ
ляется дома. Семья не может эффективно решить эту проблему и вынуждена использовать кражи ребенка как единственный способ привлечения папы в жизнь семьи.
2. Выполняет защитную функцию, стабилизируя отношения в семье. В частности, симптом может остановить развитие конфликта, отвлекая внимание его участников от других конфликтогенных отношений. Например, ребенок начинает страдать силь
ными головными болями каждый раз, когда между родителями нарастает напряжение, и они перестают разговаривать друг с другом. У постели больного ребенка родители начинают разговаривать, и их напряжение спадает. Болезнь ребенка помогает родите
лям не выяснять отношения и, возможно, сохранять семью.
3. Олицетворяет власть: клиент, не неся никакой ответственности, получает возможность по-своему организовывать семейные взаимодействия. Например, ребенок каждый раз засижива-
150
ется за уроками до ночи, когда разведенная молодая мать задерживается после работы, стремясь устроить свою личную жизнь. После этого он с синяками под глазами появляется в школе, где засыпает на уроках. Бабушка нападает на мать, обвиняя ее в черствости, а ребенок волен отпускать или не отпускать мать на сви
д а н и я — и становится домашним тираном.
4. Символически или метафорически указывает на иные проблемы в семье. Собственно все назначение симптома и состоит в том, чтобы указать на неблагополучие в системе.
![]() Психолог-консультант,
работающий в школе, часто сталкивается с одной из двух позиций: либо виноват
ребенок, либо родители. Но, как мы видим, симптом может приносить известное
удовлетворение его носителю (идентифицированному пациенту). Идентифицированный пациент
рассматривается как носитель симптома ради защиты семьи \52].
Психолог-консультант,
работающий в школе, часто сталкивается с одной из двух позиций: либо виноват
ребенок, либо родители. Но, как мы видим, симптом может приносить известное
удовлетворение его носителю (идентифицированному пациенту). Идентифицированный пациент
рассматривается как носитель симптома ради защиты семьи \52].
Подобные функции симптом выполняет не только в семейной системе, но и в организационных системах. Ян Якоб Стамм, например, выделяет следующие симптомы, указывающие на небла
гополучие в организации (в том числе и в школе):
— потеря силы. Имеется в виду падение общего уровня энергетики в организации — отсутствие мотивации, планов, связанных с организацией, ощущение бесполезности своего труда, апатия, равнодушие к результатам своей деятельности и т.д. — все, что
указывает на общее падение интереса и энтузиазма;
— недостаток лидерства. Когда люди не уважают свое руководство, не прислушиваются к нему, не выполняют его распоряжения или выполняют формально;
— невозможность достичь целей. Например, школа уже который год не может открыть профильные классы, хотя для этого есть и материальная база и педагогические ресурсы;
— высокая текучесть кадров;
— конфликты среди персонала или отделов. В школе это может быть незатихающий конфликт между учителями-предметниками, конфликт, сути которого никто не понимает, но он присутствует как фон в данной организации;
— недостаток четкости действия или направления. В школе это могут быть нечеткие предписания от руководства, когда никто никогда не знает, что будет в следующем учебном году, когда шко
ла полнится слухами, указания завуча противоречат объявлениям Директора и т.д.
И все эти симптомы являются выразителем более глубоких проблем, происходящих в организации, и, как правило, имеющих давнюю историю. В организации выделить собственно проблему по Имеющемуся симптому гораздо труднее, чем в семейной системе, так как в организации симптом склонен время от времени меняться и плавно перетекать в другие формы. Избавляясь от симптома, организационная система не позволяет затрагивать саму сущность проблемы, так как решение проблемы потребует больших организационных перемен, которые неизвестно куда приведут, а к кадровым перестановкам — уж точно. Поэтому, опасаясь неизвестности, члены любой системы, будь то семейная или организационная, предпочитают затрачивать неимоверные усилия на сохранение симптома, нежели затрачивать те же усилия на решение проблемы, но с неизвестным результатом для всей системы и для каждого члена системы в частности.
Определение контекста проблемы. Еще раз напомним, что прежде чем прояснять саму проблему, следует уточнить, насколько
тот человек, который направил клиента на консультацию, сам включен в проблему. И какого результата он ожидает от консультанта.
Далее задаются вопросы, целью которых является п р о я с н е н и е в с е х с о с т а в л я ю щ и х п р о б л ем ы , а также контекста, в рамках которого данная проблема процветает.
1. Что является проблемой?
Целью приведенных ниже вопросов является сужение проблемы с глобального описания до конкретных поведенческих прояв
лений. А также выявление только тех аспектов, которые относятся к проблеме, и отбрасывание ненужных деталей, которыми, как правило, обрастает изложение проблемы к тому времени, когда клиент доходит до консультанта.
В о п р о с ы .
— Какие способы поведения имеют отношение к проблеме?
— Где проблема возникает наиболее часто?
— Рядом с кем проблемное поведение проявляется ярче всего?
— Где это поведение не возникает?
— Когда проблема появляется и когда исчезает?
2. Видение проблемы.
![]() Приведенные
ниже вопросы направлены на выявление различий в описании проблемы и восприятии
проблемы собственно как проблемы. Иногда, как мы уже видели ранее, один член
системы видит проблему в конкретном поведении, а другой член системы может
описывать ее как результат неудовлетворительных взаимоотношений. Например, мать
жалуется на сына-подростка, что он ничего не делает по дому, не моет за собой
посуду, не убирается в комнате. Для нее это является проблемой. А отец видит
проблему в том что «она его распустила, все ему позволяет, вот он и сел ей на
голову».
Приведенные
ниже вопросы направлены на выявление различий в описании проблемы и восприятии
проблемы собственно как проблемы. Иногда, как мы уже видели ранее, один член
системы видит проблему в конкретном поведении, а другой член системы может
описывать ее как результат неудовлетворительных взаимоотношений. Например, мать
жалуется на сына-подростка, что он ничего не делает по дому, не моет за собой
посуду, не убирается в комнате. Для нее это является проблемой. А отец видит
проблему в том что «она его распустила, все ему позволяет, вот он и сел ей на
голову».
В о п р о с ы .
— Кто впервые назвал это проблемой?
— Для кого данная проблема значит больше?
— Как видит проблему каждый из членов системы?
152
— Для кого это не является проблемой?
3. Околопроблемное взаимодействие.
Приведенные ниже вопросы помогают очертить круг людей, вовлеченных в проблему, тех, кто эту проблему поддерживает. Прояснить их взаимодействие и взаимоотношения вокруг проблемы. Эти вопросы также помогают избежать отношения к участникам игры как к реальным жертвам и реальным гонителям. А видеть лишь их роли в данном взаимодействии.
В о п р о с ы .
— Кто больше/меньше реагирует на проблемное поведение? — Кому оно мешает, а кому нет?
— Кто как реагирует на проблемное поведение?
— Какова реакция ребенка на реакции других?
— Какова реакция на реакцию?
П р и м е р .
К о н с у л ь т а н т . Что делает мама, когда ты задерживаешься после уроков?
Р е б е н о к . Она ругается.
Ко н с у л ь т а н т . Как она ругается?
Р е б е н о к . Она говорит, что я весь в своего отца, такой же безалаберный.
К о н с у л ь т а н т . А кто еще в этот момент присутствует? Р е б е н о к . Бабушка.
К о н с у л ь т а н т . А что делает бабушка, когда ты приходишь домой поздно?
Р е б е н о к . Она начинает ругать маму и говорит, что мама за мной не смотрит.
К о н с у л ь т а н т . А что делает мама, когда бабушка начинает на нее ругаться?
Р е б е н о к . Она тоже начинает на нее ругаться.
К о н с у л ь т а н т . А что делаешь ты, когда мама и бабушка ругаются?
Р е б е н о к . Я иду в свою комнату и играю.
К о н с у л ь т а н т . А что происходит потом?
Р е б е н о к . Мама плачет и позволяет поиграть в компьютер.
![]() И
так далее, раскручивается вся цепочка взаимодействий и поясняются взаимоотношения
в семье или в иной другой системе. Изданного примера мы видим, что проблемное
поведение ребенка является лишь некоторым звеном в конфликтных взаимоотношениях
матери и бабушки. Может обнаружиться далее, что и эти конфликтные отношения
лишь часть крупномасштабной войны, которую ведут все члены данной семьи,
включая и ребенка, который использует свои поздние приходы как катализатор
нового сражения, так как в пылу боев о нем забывают, и он может спокойно играть
в компьютерные игры.
И
так далее, раскручивается вся цепочка взаимодействий и поясняются взаимоотношения
в семье или в иной другой системе. Изданного примера мы видим, что проблемное
поведение ребенка является лишь некоторым звеном в конфликтных взаимоотношениях
матери и бабушки. Может обнаружиться далее, что и эти конфликтные отношения
лишь часть крупномасштабной войны, которую ведут все члены данной семьи,
включая и ребенка, который использует свои поздние приходы как катализатор
нового сражения, так как в пылу боев о нем забывают, и он может спокойно играть
в компьютерные игры.
4. Объяснение проблемы.
Приведенные ниже вопросы помогают выявить различия в интерпретации проблемного поведения. Иногда мнение одного из членов системы может расширить представления о роли проблемы в системном взаимодействии и об истории ее возникновения. В о п р о с ы .
— Как вы объясняете возникновение проблемы, в связи с чем она возникла?
— Как эту проблему объясняют ваши близкие?
— С чем связано то, что проблема возникла именно тогда, а не позже и не раньше?
— Если бы тогда не было таких событий, как вы думаете, возникла ли тогда данная проблема?
5. Значение проблемы для отношений.
Приведенные ниже вопросы позволяют увидеть полезность проблемного поведения для отношений между членами системы. Например, ссора со свекровью может сблизить супругов; болезнь ребенка — вернуть папу в семью; ссора родителей может позво
лить ребенку заниматься своими делами, проблемы на работе — избегать секса с супругом.
В о п р о с ы .
— Что изменилось в отношениях с появлением проблемы?
— Что изменилось бы в отношениях, если бы проблема пропала?
![]() Последний
вопрос часто вызывает сильное недоумение, близкое к шоку. Люди так давно и
прочно погружены в проблему, что ее отсутствие сразу же ставит их перед
необходимостью решать свои межличностные отношения не косвенным путем — через
третье лицо, — а непосредственно друг с другом. Поэтому они начинают отвечать в
духе того, что я буду счастлива или смогу заниматься любимым делом или поехать
наконец-то отдохнуть. Здесь следует более подробно остановиться на поведении
каждого отдельного члена системы. Таким образом, взаимодействие рассматривается
уже не как околопроблемное, а как непосредственное взаимодействие двух людей
между собой.
Последний
вопрос часто вызывает сильное недоумение, близкое к шоку. Люди так давно и
прочно погружены в проблему, что ее отсутствие сразу же ставит их перед
необходимостью решать свои межличностные отношения не косвенным путем — через
третье лицо, — а непосредственно друг с другом. Поэтому они начинают отвечать в
духе того, что я буду счастлива или смогу заниматься любимым делом или поехать
наконец-то отдохнуть. Здесь следует более подробно остановиться на поведении
каждого отдельного члена системы. Таким образом, взаимодействие рассматривается
уже не как околопроблемное, а как непосредственное взаимодействие двух людей
между собой.
П р и м е р .
К о н с у л ь т а н т . Что будет, если проблема исчезнет? То есть ваша дочь будет работать?
К л и е н т. О! Я буду наслаждаться жизнью!
К о н с у л ь т а н т . Как именно вы будете наслаждаться жизнью?
К л и е н т . Ну, я буду ходить в кино, начну заниматься спортом, заведу себе друга-мужчину.
К о н с у л ь т а н т (не оценивая возможность заниматься всем этим и при неработающей дочери). Чудесно! Опишите, пожалуйста, ваш новый удивительный день!
154
К л и е н т . Утром я встану и не поеду как обычно к дочери. Ведь она целый день на работе (с некоторой грустью). Я попью чаю, выйду прогуляться, схожу в кино, потом зайду в кафе, потом поеду к дочери и буду ждать, когда она придет с работы.
Если исчезнет проблема и дочь данной клиентки пойдет работать, то матери придется что-то делать со смыслом своей жизни, чем-то заполнять зияющую пустоту. Дочери также по-своему выгодно такое положение дел: она может не работать и не подвергать себя стрессам повседневной жизни. Ее задача — валяться на кровати с печальным видом и впадать в депрессию каждый раз, когда появляется реальная угроза найти работу. При таком тандеме выход из проблемы проблематичен для обеих сторон.
Школьному психологу-консультанту в основном приходится иметь дело с индивидуальным консультированием, а не с семейным, когда на консультацию приходят всей семьей или вдвоем- втроем. Поэтому всегда следует помнить, что мы получаем лишь некоторое одностороннее видение проблемы и что из других уст, от другого члена данной системы она может звучать совсем иначе.
![]() В
рамках системного подхода, рассматривающего проблему как присущую всей системе,
а не отдельному индивиду, была разработана процедура опроса, позволяющая
посмотреть на проблему, ее возникновение, пути решения и возможности выхода с
точки зрения всех членов системы. Так называемые циркулярные вопросы позволяют прояснить коммуникационный аспект
проблемы. То есть важно не то, как себя чувствует человек в проблеме, а какую
информацию он пытается донести до других членов системы своим симптоматическим
поведением. И какую информацию передают другие члены системы своей реакцией на
то или иное проблемное поведение.
В
рамках системного подхода, рассматривающего проблему как присущую всей системе,
а не отдельному индивиду, была разработана процедура опроса, позволяющая
посмотреть на проблему, ее возникновение, пути решения и возможности выхода с
точки зрения всех членов системы. Так называемые циркулярные вопросы позволяют прояснить коммуникационный аспект
проблемы. То есть важно не то, как себя чувствует человек в проблеме, а какую
информацию он пытается донести до других членов системы своим симптоматическим
поведением. И какую информацию передают другие члены системы своей реакцией на
то или иное проблемное поведение.
Например, вместо вопроса «Почему ты стонешь?» задается вопрос «Что делает твоя подруга, когда ты стонешь?» То есть что клиент хочет донести до своей подруги? Какую информацию? Ей нужно, чтобы подруга ее пожалела, дала конфетку, вызвала помощь, позвонила мальчику? (Смотри также пример, приведенный выше, иллюстрирующий выяснение околопроблемного взаимодействия.)
Используя вопросы к контексту проблемы, мы уже можем строить некоторые гипотезы по поводу реальной проблемы, которую «покрывает» симптом.
Например, проблемой является несдержанность отца по отношению к своему сыну, в гневе он может его ударить. На первый взгляд, при линейном подходе, все ясно: отец — тиран, а сын — жертва. При системном же подходе, очерчивая круг лиц, вовлеченных в проблему, мы можем наблюдать круговую причинность. Допустим, мы выяснили, что и мать и отец признают проблему.
Для сына это проблемой не является, он не считает отца тираном, а говорит о своей вине, объясняя несдержанность отца тем, что он не делает вовремя уроки. Допустим, мы также выяснили, что ког
да сын остается вдвоем с отцом, у них подобных инцидентов не бывает, а ссоры происходят обычно по вечерам, когда мама приходит с работы.
![]() Нам
надо с кого-то начать, поэтому мы произвольно начнем раскручивать цепочку
взаимодействий с прихода матери домой после работы. Все действующие лица уже на
месте. Мама приходит с работы в десятом часу вечера, муж уже дома смотрит
телевизор, сын у себя в комнате играет в компьютер. Мать устала и надеется
отдохнуть после работы. Муж ее встречает и тут же опять уходит в комнату
смотреть телевизор. Она раздевается и идет на кухню, где обнаруживает грязную
посуду, которую ее муж и сын не вымыли после ужина. Будучи воспитанной как
хорошая хозяйка, она молча моет посуду, наспех ужинает и идет проверять уроки у
сына. Оказывается, что он не сделал географию, и она, раздражаясь все больше и
больше, начинает ругать сына за несделанные уроки. Сын огрызается и ведет себя
грубо. После этого мать идет в комнату к отцу и устраивает ему скандал, что тот
не проверил уро
Нам
надо с кого-то начать, поэтому мы произвольно начнем раскручивать цепочку
взаимодействий с прихода матери домой после работы. Все действующие лица уже на
месте. Мама приходит с работы в десятом часу вечера, муж уже дома смотрит
телевизор, сын у себя в комнате играет в компьютер. Мать устала и надеется
отдохнуть после работы. Муж ее встречает и тут же опять уходит в комнату
смотреть телевизор. Она раздевается и идет на кухню, где обнаруживает грязную
посуду, которую ее муж и сын не вымыли после ужина. Будучи воспитанной как
хорошая хозяйка, она молча моет посуду, наспех ужинает и идет проверять уроки у
сына. Оказывается, что он не сделал географию, и она, раздражаясь все больше и
больше, начинает ругать сына за несделанные уроки. Сын огрызается и ведет себя
грубо. После этого мать идет в комнату к отцу и устраивает ему скандал, что тот
не проверил уро
ки. Вяло отбиваясь, отец пытается объяснить жене, что мальчику пора устные уроки делать самому и что ему полезно получить пару раз двойку, чтобы он наконец понял, что нужно трудиться и работать самому. Их перепалка продолжается до тех пор, пока муж не выдерживает и в гневе врывается к сыну, устраивая ему выволочку. Сын плачет, муж успокаивает жену, целует ее и говорит ей ка
кая она замечательная, а жена жалуется ему на то, как она устает на работе.
Получив подробную информацию о взаимодействии всех членов семьи в проблемной ситуации, мы можем выдвинуть п р е д в а р и т е л ь н ы е г и п о т е з ы .
1. На самом деле жене не хватает внимания мужа и она добивается его любви таким способом, так как не умеет просить об этом прямо.
2. На самом деле муж таким образом добивается признания своей жены, так как он рано осиротел и всего в жизни добивался сам.
3. На самом деле муж конкурирует с мальчиком за внимание жены, поэтому принципиально ему не помогает.
4. На самом деле мальчик сохраняет семью, так как родители приходят к согласию только тогда, когда обсуждают его поведение.
Гипотеза — это всего лишь предположение, а не утверждение, гипотеза может как подтвердиться, так и быть опровергнутой. Гипотеза — это всегда временное предположение, справедливое лишь
на данный конкретный момент консультативной беседы. Гипотеза нужна консультанту для того, чтобы структурировать полученный материал, как-то уложить его в некую систему. Она помогает также клиентам по-новому взглянуть на свою проблему, увидеть многообразие возможных объяснений, включает творческую мысль и стимулирует поиск решений.
Опытный консультант с легкостью отказывается от своих гипотез, какими бы гениальными и верными они поначалу ему ни казались.
Системная терапия развивалась в русле различных школ и направлений, каждое из которых обращало внимание на определенные характеристики живых систем. Поэтому, опираясь на общие теории систем, акценты при диагностике и терапии расставлялись в зависимости от приоритетов, предпочитаемых тем или иным направлением.
В основном при диагностике рассматриваются структурные, динамические и исторические (или генетические, если речь идет о семье) параметры [88].
С т р у к т у р н ы е п а р а м е т р ы системы включают в себя подсистемы, границы, сплоченность, гибкость, иерархию и альянсы (коалиции).
![]() Каждые
система и подсистема имеют свои границы, которые определяют ее отдельность от других
систем или подсистем, очерчивают круг людей, включенных во взаимодействие
внутри этой системы или подсистемы, и определяют правила, по которым данная
система или подсистема функционирует. Например, подсистема педагогического
состава функционирует по иным правилам, чем подсистема администрации,
подсистема детей отлична от подсистемы родителей и т.д. Границы отделяют
систему от остального социального мира, а подсистемы друг от друга внутри одной
системы, поэтому принято говорить о внешних границах и внут
Каждые
система и подсистема имеют свои границы, которые определяют ее отдельность от других
систем или подсистем, очерчивают круг людей, включенных во взаимодействие
внутри этой системы или подсистемы, и определяют правила, по которым данная
система или подсистема функционирует. Например, подсистема педагогического
состава функционирует по иным правилам, чем подсистема администрации,
подсистема детей отлична от подсистемы родителей и т.д. Границы отделяют
систему от остального социального мира, а подсистемы друг от друга внутри одной
системы, поэтому принято говорить о внешних границах и внут
ренних границах. Нарушение границ грозит смешением функций, нарушением иерархии, смешением контекстов и в конечном ито
ге хаосом и конфликтами.
При слишком жестких границах взаимообмен между системой и окружающим миром и между подсистемами сильно затруднен. В семье это может быть закрытый дом, куда никого не допускают, малое количество внешних контактов, отсутствие друзей и приятелей. Если границы жесткие внутри самой семьи, то это приводит к разобщенности, например, родительской и детской подсистем, когда родителям нет дела до детей, их жизни и переживаний: дети сами по себе, родители также заняты собой. В организации — это недоступность высшего звена власти подчиненным. В школе — отграничение администрации от педагогического состава, учителей от детей.
При размытых границах система подвергается очень сильному влиянию извне, с которым не успевает справиться, жизнь членов такой системы подчинена колебаниям внешней среды, члены системы сильно разобщены, их интересы находятся вне системы. Размытые границы внутри системы между подсистемами могут привести к чересчур сильному слиянию всех ее членов, потере ав
тономии (Минухин, 2006). Например, супруги не могут остаться наедине, так как дети постоянно находятся в их комнате. Или никто из членов семьи не имеет своего места, где находятся его личные вещи. Родители могут в любое время дня и ночи войти в комнату к молодым, только что женатым людям без стука. В школе это может проявиться в панибратских отношениях подростков с учителем или между педагогами и администрацией.
![]() Если
внешние границы диффузны (размыты и сильно проницаемы), то внутренние границы
ригидны (жестки и непроницаемы). И наоборот, если внешние границы жестки,
закрыты, то внутренние становятся сверхпроницаемыми. Например, семья с жесткими
внешними границами будет с трудом принимать в свой круг посторонних. Такое
ощущение, что семья представляет собой единый организм, дети и родители имеют
мало контактов с окружающим миром. Но внутри самой семьи они настолько едины
(размытые границы), что ни у кого из членов семьи нет своих собственных
интересов, они все делают вместе, их уровень автономии настолько низок, что
любой шаг к самостоятельности воспринимается как угроза существованию самой
семьи.
Если
внешние границы диффузны (размыты и сильно проницаемы), то внутренние границы
ригидны (жестки и непроницаемы). И наоборот, если внешние границы жестки,
закрыты, то внутренние становятся сверхпроницаемыми. Например, семья с жесткими
внешними границами будет с трудом принимать в свой круг посторонних. Такое
ощущение, что семья представляет собой единый организм, дети и родители имеют
мало контактов с окружающим миром. Но внутри самой семьи они настолько едины
(размытые границы), что ни у кого из членов семьи нет своих собственных
интересов, они все делают вместе, их уровень автономии настолько низок, что
любой шаг к самостоятельности воспринимается как угроза существованию самой
семьи.
Параметр границы тесно связан с параметром сплоченность. Сплоченность — это «характеристика системы внутригрупповых связей, показывающая степень совпадений оценок, установок и позиций группы по отношению к объектам, людям, идеям, собы
тиям, наиболее значимым для группы в целом. Сплоченность как черта выражает степень единомыслия и единодействия ее членов, является обобщенным показателем их духовной общности и единства» [40, с. 231 — 232].
В семейной системе сплоченность обозначает степень эмоциональной близости между членами семьи. Она может быть как очень высокой, так и очень низкой. Высокая сплоченность характеризуется очень тесной эмоциональной близостью всех членов системы между собой, низкая же предусматривает эмоциональную разобщенность.
Параметр гибкость означает способность системы приспосабливаться к изменяющимся внешним воздействиям и событиям естественного развития системы. В семейной системе это означает количество изменений в семейном руководстве, семейных ро
лях и правилах, регулирующих взаимоотношения (Черников, 2005). В организации — отражает способность быстро реагировать на внешние и внутренние изменения высшего руководства и, соответственно, руководства среднего звена. В школе — директора и завучей.
Параметр иерархия описывает, как в системе решаются вопросы власти и подчинения, контроля и принятия решений. Иерархия в системе в большой степени определяет наличие порядка и распределение ответственности.
Для достижения целей в любой системе образуются альянсы (коалиции). Образование коалиций может носить как конструктивный, так и деструктивный характер. Например, учителя одного предмета могут объединиться для того, чтобы в школе была принята новая программа по их предмету, а могут начать дружить против завуча по учебной работе. В семье альянс бабушки и внука может означать нежную привязанность, а может служить инструментом воздействия на папу.
Динамические параметры диагностики системы. Они связаны с отношениями и взаимодействиями членов системы между собой. Они тесно связаны со структурными параметрами, но отличаются тем, что акцент в них ставится не на статичной характеристике (структуре), а на процессе, суть которого отражают коммуникации, происходящие между членами системы.
![]() Коммуникация
— это обмен сообщениями, и не обязательно словесными. Невербальные сообщения
также несут информацию. Любая коммуникация всегда происходит на уровне некоего
контекста отношений, метакоммуникации, т. е. неких сложившихся ранее
представлений каждого из действующих лиц об отношениях. Просто информацией мы
можем обменяться с прохожим, которого до этого никогда не видели, и то, если не
успеем заранее составить о нем первое впечатление. Когда же мы общаемся с
человеком, с которым нас связывают долгие и эмоционально насыщенные отношения,
мы общаемся с ним, исходя из того контекста, в котором наши отношения
развивались.
Коммуникация
— это обмен сообщениями, и не обязательно словесными. Невербальные сообщения
также несут информацию. Любая коммуникация всегда происходит на уровне некоего
контекста отношений, метакоммуникации, т. е. неких сложившихся ранее
представлений каждого из действующих лиц об отношениях. Просто информацией мы
можем обменяться с прохожим, которого до этого никогда не видели, и то, если не
успеем заранее составить о нем первое впечатление. Когда же мы общаемся с
человеком, с которым нас связывают долгие и эмоционально насыщенные отношения,
мы общаемся с ним, исходя из того контекста, в котором наши отношения
развивались.
Например, мама говорит подростку: «А где твой дневник?» По идее подростку следует просто ответить: «В портфеле» или «В шко
ле». Вместо этого он говорит: «Опять начинаешь?» Если бы мы были членами данной семьи, нам бы было известно, что недавно ценой неимоверных усилий мама и сын договорились, что отныне сын будет сам отвечать за свою успеваемость, мама вмешиваться не будет и контролировать будет только в крайнем случае, если
159
ее вызовут в школу. С учетом этих обстоятельств их коммуникация на метауровне означает следующее. Мама: «Мало ли что мы
договорились, я тебе не верю, ты еще маленький, и все равно мне за тебя отвечать». Сын: «Мы уже все решили, и я уступать не собираюсь, тебе придется смириться».
Здесь мало знать контекст, здесь нужно еще и понимать правила, по которым строятся взаимодействия в данной системе. Применительно к семейной системе уровень правил является метауровнем по отношению к уровню коммуникаций. То есть неписаные правила диктуют и способ коммуникаций в данной семье. Например, если в семье не принято заявлять прямо о своих потребностях, тогда способом удовлетворить свою потребность будет настойчивое указание на полезность и необходимость того или иного действия для всех членов семьи. Если мама любит редьку,
то она не скажет прямо: «Хочу редьку», — а будет читать статьи из журналов за семейными обедами о пользе редьки, рассказывать истории о своих знакомых, которые ели редьку и исцелились от всех болезней, и т.д.
![]() В
организациях также нередко правила, которые прописаны в уставе и декларируются
на собраниях, не выполняются, а действуют свои неписаные правила, по которым
все живут. Например, в уставе школы записано уважение к индивидуальности
каждого члена коллектива, однако негласное правило заключается в том, что все
должны делать так, как говорит директор. В школе принято, чтобы учителя
сообщали директору обо всех событиях, которые происходят в школе. Если кто-то
из учителей откажется сообщать все, что знает, т.е. проявит свою
индивидуальность, то скорее всего на педсовете и на планерках будут говорить о
низкой включенности некоторых учителей в жизнь школы, об отсутствии интереса к
чаяниям родного коллектива и т.д., даже не называя фамилий, но все будут знать,
о ком идет речь.
В
организациях также нередко правила, которые прописаны в уставе и декларируются
на собраниях, не выполняются, а действуют свои неписаные правила, по которым
все живут. Например, в уставе школы записано уважение к индивидуальности
каждого члена коллектива, однако негласное правило заключается в том, что все
должны делать так, как говорит директор. В школе принято, чтобы учителя
сообщали директору обо всех событиях, которые происходят в школе. Если кто-то
из учителей откажется сообщать все, что знает, т.е. проявит свою
индивидуальность, то скорее всего на педсовете и на планерках будут говорить о
низкой включенности некоторых учителей в жизнь школы, об отсутствии интереса к
чаяниям родного коллектива и т.д., даже не называя фамилий, но все будут знать,
о ком идет речь.
К динамическим параметрам относят еще и так называемые стабилизаторы [88]. Это такие параметры, которые помогают
удерживать систему в равновесии, скрепляют членов системы, удерживают их вместе. В семье стабилизаторами выступают общее хозяйство, дети, интересы, деньги. В дисфункциональных семьях стабилизаторами могут выступать болезни детей и взрослых, девиантное поведение ребенка, алкоголизм одного из членов семьи. Симптом всегда является не только показателем неблагополучия, но и стабилизатором системы. Симптом, несмотря на то что он приносит страдания его носителю и доставляет массу неудобств другим членам семьи, выгоден всем. Например, мальчик, которого по ночам мучают кошмары, помогает родителям избежать сексуальных отношений, так как родители забирают его в свою постель. Эта проблема не обсуждается, поскольку отсутствию сексуальных отношений есть объяснение. Мальчик в свою очередь получает те
лесный контакт и тепло родительской заботы. Или, например, подросток, который стоит на учете в детской комнате милиции, сохраняет семью, препятствуя уходу отца к другой женщине, так как мать одна не сможет с ним справиться. В свою очередь, он по
лучает возможность диктовать свои условия матери, которая его боится.
В организации стабилизаторами выступают общее дело, деньги, социальные блага, демократичное руководство, психологический климат и т.д.
Роль стабилизаторов часто выполняют и мифы — некие истории, которые передаются в семье из поколения в поколение. Например, миф о злобном окружающем мире и о сплоченной семье, умеющей противостоять постоянной угрозе. В организации мифы становятся основой корпоративной культуры. В школе часто распространен миф о том, что школа — это одна большая семья.
![]() Исторические параметры диагностики
системы. По
отношению к семейной системе это история семей каждого из супругов. Каждый из
супругов, вступая в брак, имеет некоторый багаж установок, который ему передала
его семья. Когда супруги начинают жить вместе, у каждого из них существует свое
мнение о том, как надо жить, вести хозяйство, какие ценности должны
превалировать в семье и т.д. Некоторые из установок передаются из поколения в
поколение, корни их возникновения теряются в глубине истории семьи, однако сама
суть послания остается неизменной. Эти послания могут быть как осознанными, так
и неосознанными, но неизменно влияют на восприятие семейной жизни. Так,
например, в нынешней семье жена не доверяет мужу, постоянно копит тайком от
него деньги, хотя муж не давал никакого повода к такому недоверию. Если
произвести раскопки в семейной истории, то можно обнаружить там историю о
прабабушке-купчихе, которую бросил муж с тремя маленькими детьми, и она
осталась одна абсолютно без средств к существованию. Ее вывод, который она
транслировала своей дочери, а та в свою очередь своей дочери и так далее,
гласит: «Мужчинам доверять нельзя, в любой момент они могут тебя оставить без
гроша в кармане. Поэтому нужно за
Исторические параметры диагностики
системы. По
отношению к семейной системе это история семей каждого из супругов. Каждый из
супругов, вступая в брак, имеет некоторый багаж установок, который ему передала
его семья. Когда супруги начинают жить вместе, у каждого из них существует свое
мнение о том, как надо жить, вести хозяйство, какие ценности должны
превалировать в семье и т.д. Некоторые из установок передаются из поколения в
поколение, корни их возникновения теряются в глубине истории семьи, однако сама
суть послания остается неизменной. Эти послания могут быть как осознанными, так
и неосознанными, но неизменно влияют на восприятие семейной жизни. Так,
например, в нынешней семье жена не доверяет мужу, постоянно копит тайком от
него деньги, хотя муж не давал никакого повода к такому недоверию. Если
произвести раскопки в семейной истории, то можно обнаружить там историю о
прабабушке-купчихе, которую бросил муж с тремя маленькими детьми, и она
осталась одна абсолютно без средств к существованию. Ее вывод, который она
транслировала своей дочери, а та в свою очередь своей дочери и так далее,
гласит: «Мужчинам доверять нельзя, в любой момент они могут тебя оставить без
гроша в кармане. Поэтому нужно за
ранее, на всякий случай, позаботиться о себе и скопить денег на черный день». Ее правнучка выполняет это указание, даже не подозревая о том, что оно идет из глубины веков и не имеет к ее семейной жизни никакого отношения.
Здесь важно всегда помнить, что речь идет даже не о конкретных событиях далекого прошлого, а о том, к а к семья когда-то пережила это событие, какой вывод члены семьи сделали для себя и что они стати дальше передавать своим детям. Например, когда- то в семье маленькие дети умерли от голода, обезумевшая мать не
161
смогла пережить их смерть и окаменела. Все родившиеся впоследствии дети не получили от матери любви и тепла. Ее вывод состоял в том, что терять любимых детей невыносимо больно, так больно, что лучше их не любить вовсе. Она стала, что называется, холодной матерью. Ее дочь, не получившая тепла и любви, также выросла холодной и также не смогла дать своим детям любви.
В организации история создания и развития также важна. Многие процессы, которые невозможно понять, исходя из текущей ситуации, можно проследить в связи с историей ухода и прихода людей на руководящие должности, или создания или сокращения функций, или того, как обошлись с предыдущим директором.
Итак, диагностика системы включает в себя различные параметры. По мере того как собирается информация, у психолога-консуль
танта могут возникать различные гипотезы, каждая из которых имеет право на существование. Чаще всего они перекрывают друг друга, и один и тот же процесс можно объяснить, исходя как из структурных, так и динамических и исторических параметров.
![]() Для
того чтобы понять все многообразие процессов, происходящих в семейной системе,
безусловно, лучше всего диагностировать ее по всем параметрам. А. В. Черников
предложил интегративную модель диагностики, включающую структуру семьи,
коммуникации, стадии жизненного цикла семьи, семейную историю и функции
симптомов в семейной системе [92].
Для
того чтобы понять все многообразие процессов, происходящих в семейной системе,
безусловно, лучше всего диагностировать ее по всем параметрам. А. В. Черников
предложил интегративную модель диагностики, включающую структуру семьи,
коммуникации, стадии жизненного цикла семьи, семейную историю и функции
симптомов в семейной системе [92].
Вспомним, что структура семьи включает в себя такие параметры, как подсистемы, границы, альянсы (коалиции), иерархию, сплоченность и гибкость.
При работе с детьми и подростками эти темы можно обсуждать [см. также 88] с помощью следующих вопросов.
П о д с и с т е м ы .
— Из кого состоит семья?
— Кто живет вместе в одной квартире?
— Живы ли бабушки и дедушки?
— Общаются ли родители и дети с бабушками и дедушками?
Э м о ц и о н а л ь н а я с в я з ь .
1. Обращаются ли члены семьи за помощью друг к другу?
— Что ты делаешь, когда у тебя не получаются уроки?
— К кому ты обращаешься в первую очередь?
— Всегда ли тебе помогают?
— А что делает мама, когда у нее что-то не получается?
2. Чувствуют ли члены семьи себя близкими друг другу?— К кому ты можешь обратиться, если тебе грустно?
— Что ты делаешь, когда видишь, что маме грустно?
— Как родители реагируют на успехи и неудачи в вашей семье?
3. Важно ли для членов семьи чувство единства?
— Можешь ли ты сказать, что у вас дружная семья?
— Насколько вы заботитесь друг о друге?
![]() —
Как ты можешь оценить степень близости или отдаленности между членами семьи?
—
Как ты можешь оценить степень близости или отдаленности между членами семьи?
С е м е й н ы е г р а н и ц ы .
1. Предпочитают ли члены семьи общество друзей обществу друг друга?
— Есть ли у твоих родителей общие друзья?
— Есть ли у каждого из родителей свои друзья?
— Знают ли родители твоих друзей?
— Как часто вы собираетесь дома все вместе?
— Что вы делаете, когда оказываетесь все дома?
2. Близки ли члены семьи с посторонними в большей степени, чем друг с другом?
— Кому первому ты расскажешь о своей радости — другу или родителям?
— Как ты думаешь, кому мама первому расскажет о своих планах?
— А папа? Рассказывает ли о том, что у него на работе?
3. Приветствуют ли члены семьи неожиданные визиты к ним домой?
— Как часто у вас бывают гости?
— Что скажет мама, если к тебе внезапно придет твой друг? — А несколько друзей?
Л и д е р с т в о и п р и н я т и е р е ш е н и й .
1. Советуются ли члены семьи друг с другом по поводу принятия решений?
— Кто в вашей семье обычно принимает решения?
— За кем остается последнее слово?
— Как часто родители советуются между собой?
— По какому поводу родители советуются с тобой?
— Кто, по твоему мнению, в доме хозяин? Кто главный?
— По каким вопросам главная мама? По каким — папа?
2. Существует ли способ повлиять на уже принятые решения?
— Что будет, если ты не согласен с принятым решением, можешь ли ты что-то изменить?
— А кто может?
— Что нужно для этого сделать?
В р е м я , и н т е р е с ы и отдых.
163
1. Любят ли члены семьи проводить время вместе?— Как часто вы все вместе куда-нибудь ходите?
— Как вы обычно проводите выходные?
2. Трудно ли им долгое время находиться вместе?
— Сколько времени вы общаетесь в день, в неделю?
— Какие у вас общие занятия?
— Кто как проводит выходные?
3. Есть ли общие интересы и увлечения?
Д и с ц и п л и н а .
1. Какие существуют в семье формы наказания и поощрения?
— Наказывают ли тебя родители?
— Какие наказания обычно они применяют?
— Кто решил, что у тебя будет такое наказание?
— Как на это реагируют другие члены семьи? Согласны ли они с таким наказанием?
— Согласен ли ты с таким наказанием?
— Если бы у тебя был выбор, то какое бы наказание ты сам себе назначил?
— За что тебя хвалят? Как?
— Нравится ли тебе это поощрение или хотелось бы что-нибудь другое?
— Все ли согласны с таким поощрением?
Ро л и.
1. Каковы способы выполнения повседневных дел в семье?
— Кто за что отвечает в твоей семье?
— У кого какие обязанности?
— Что конкретно делаешь ты? Мама? Папа? Бабушка?
— Кто следит за выполнением обязанностей? Кто больше?
2. Могут ли домашние обязанности переходить от одного члена к другому?
— Что бывает, когда ты не выполняешь своих обязанностей?
— Что бывает, когда кто-то другой не выполняет своих обязанностей?
П р а в и л а .
1. Какие правила существуют в этой семье?
2. Изменяются ли эти правила под воздействием обстоятельств?
— Если кто-то заболевает, то кто выполняет эти обязанности?
— Что может повлиять на изменение этих правил? — Как часто они меняются?
— Что нужно сделать, чтобы правила изменились?
— Кто больше всего следит за выполнением правил, кто меньше?
![]() С
детьми более младшего возраста, для которых такая длинная беседа слишком
утомительна, можно проводить ее на фоне проективных рисуночных тестов, например
рисунка семьи (Захаров. 1988;
Лосева, 1995), рисунка несуществующего животного. Беседу можно строить по тем
же самым вопросам.
С
детьми более младшего возраста, для которых такая длинная беседа слишком
утомительна, можно проводить ее на фоне проективных рисуночных тестов, например
рисунка семьи (Захаров. 1988;
Лосева, 1995), рисунка несуществующего животного. Беседу можно строить по тем
же самым вопросам.
![]() Например,
разговаривая о животном, можно спросить ребенка: «Скажи пожалуйста, а у твоего
тетрабобика семья есть? С кем он живет? Кто его наказывает, как? И т.д.».
Используя рисунок семьи после рисунка несуществующего животного, можно спросить
ребенка, чем его семья отличается от семьи тетрабобика. Это интересно в тех
случаях, когда ребенок рисует идеальную семью, а не свою собственную. В его
сравнениях видны несоответствия между тем, что ему хочется, и тем, что есть на
самом деле. По степени различий можно выявить наиболее проблемную зону.
Например, отвечая на вопросы про несуществующего животного, ребенок говорит,
что его тетрабобик совсем один на всем белом свете и что он никому не нужен. А
на рисунке семьи он стоит тесно прижавшись к маме и папе.
Например,
разговаривая о животном, можно спросить ребенка: «Скажи пожалуйста, а у твоего
тетрабобика семья есть? С кем он живет? Кто его наказывает, как? И т.д.».
Используя рисунок семьи после рисунка несуществующего животного, можно спросить
ребенка, чем его семья отличается от семьи тетрабобика. Это интересно в тех
случаях, когда ребенок рисует идеальную семью, а не свою собственную. В его
сравнениях видны несоответствия между тем, что ему хочется, и тем, что есть на
самом деле. По степени различий можно выявить наиболее проблемную зону.
Например, отвечая на вопросы про несуществующего животного, ребенок говорит,
что его тетрабобик совсем один на всем белом свете и что он никому не нужен. А
на рисунке семьи он стоит тесно прижавшись к маме и папе.
Можно выдвинуть предварительную гипотезу о том, что в семье отсутствует эмоциональная близость между членами семьи, внутренние границы непроницаемы, между членами семьи нет сплоченности.
Другие методики, которые используются при диагностики структуры семьи: социометрический тест Дж.Л. Морено [96], техника «семейная скульптура», методика «карта вашей семьи» [72].
Системный семейный тест (FAST) Геринга [103; 92] представляет собой методику, основанную на структурной системной семейной теории, и предназначен для исследований и психотерапевтической практики.
Тестовый материал состоит из доски, разделенной на 81 квадрат (9 х 9), женских и мужских фигурок, а также цилиндрических блоков, высотой 1,5; 3 и 4, 5 см. На фигурках условно нанесены точками глаза. Расстояние между фигурками на доске отражает степень сплоченности семьи и отдельных ее подсистем. Высота фигурок, регулируемая с помощью цилиндрических блоков, показывает семейную иерархию. Направление взгляда фигур является
дополнительным качественным параметром, отражающим нюансы взаимоотношений членов семьи.
Системный семейный тест Геринга может проводиться индивидуально с одним или несколькими членами семьи или с семейной группой одновременно (групповой вариант). Значительная разница в восприятии членами семьи их семейной структуры является одним из показателей семейной дисфункции и затрудняет кооперацию в семье.
165
Существуют т р и р а з л и ч н ы е р е п р е з е н т а ц и и теста, отражающие типичную структуру семьи, ситуацию в семье в момент конфликта и идеальное распределение близости и иерархии, которое иногда бывает в семье или желательно. Изменение расположения фигурок на доске от одной репрезентации к
другой показывает степень гибкости семейной системы.
Анализ и интерпретация теста проводится относительно всей семьи в целом и двух ее подсистем по отдельности — супружеской и детской.
Существуют нормы относительно уровня сплоченности и иерархии, разработанные на примере американских и западноевропейских семей. Различают низкий, средний и высокий уровни этих параметров. В соответствии с ними определяется сбалансированность подсистем и семьи в целом (см. приложение 3). Помимо этого тест отражает наличие таких структурных нарушений, как перевернутая иерархия (высота фигурки ребенка равна или выше
![]() фигурки одного или обоих
родителей) и межпоколенные коалиции (расстояние между фигурками родителей
больше, чем между ребенком и одним из родителей). Проведенные Герингом и его
коллегами исследования показали, что семьям, имеющим серьезные проблемы,
соответствуют значительно менее сбалансированные семейные структуры и
многочисленные структурные нарушения [103].
фигурки одного или обоих
родителей) и межпоколенные коалиции (расстояние между фигурками родителей
больше, чем между ребенком и одним из родителей). Проведенные Герингом и его
коллегами исследования показали, что семьям, имеющим серьезные проблемы,
соответствуют значительно менее сбалансированные семейные структуры и
многочисленные структурные нарушения [103].
Для дополнительного исследования взаимоотношений в семье в тесте имеются фигурки трех цветов, с помощью которых испытуемый может подчеркнуть разницу в поведении и характере разных членов семьи.
П р о ц е д у р а п р о в е д е н и я F A S T состоит из четырех частей.
1. Сбор краткого анамнеза о семье (количество членов семьи, их возраст, социальный статус, страдали ли они психическими расстройствами и другими хроническими заболеваниями, были ли случаи госпитализации и т.д.).
2. Фиксация семейных репрезентаций одного испытуемого или всей семьи, как в групповом варианте. Экспериментатор на специальном бланке отражает расстановку фигур в типичной, конф
ликтной и идеальной семейных ситуациях.
3. Фиксация наблюдений за поведением испытуемого во время проведения теста (с чьей фигуры начал, что вызывало колебания, спонтанные замечания и т.д.).
4. Интервью после каждой репрезентации (см. приложение 4).
Системный семейный тест можно проводить со взрослыми и детьми от шести лет. Он занимает немного времени (20 — 30 мин на одного испытуемого) и обеспечивает терапевта большим количеством гипотез о семейной системе.
Тест Геринга можно использовать и не в столь стандартизированной форме. Если он используется не для строгих научных экспериментов, а для выдвижения предварительных гипотез, то можно вместо фигурок использовать пуговицы, игрушки, подставки, различной высоты и размера, и т.д.
Эта методика является модификацией [92] психотерапевтической техники «Ролевая карточная игра» [93]. Она помогает опре
делить вклад каждого члена семьи в организацию совместной жизни (роли-обязанности), а также типичные варианты поведения в конфликтных ситуациях (роли взаимодействия). Кроме того, анкета позволяет косвенно оценить статус членов семьи и степень их влияния на принятие семейных решений (см. прило
жение 5).
И н с т р у к ц и я . «Впишите имена членов вашей семьи и отметьте количеством звездочек, насколько перечисленные роли характерны для каждого из них:
*** — его (ее) постоянная роль;
** — довольно часто он (она) это делает; * — иногда это относится к нему.
Некоторые из упомянутых ролей не свойственны вашей семье или никогда не исполняются тем или иным ее членом; в этом случае оставьте графу пустой. Возможно, в вашей семье есть свои уникальные роли, отсутствующие в общем списке, — допишите их.
Затем среди всего списка выделите три роли, которые вы считаете наиболее важными для жизни семьи».
![]() Члены
семьи, которые чаще других играют важные роли, как правило, обладают большей
властью в семье. Методику можно проводить индивидуально или со всей семьей в
целом. Анкета «семейные роли» не является тестом. Она разрабатывалась прежде
всего для нужд терапии и изучения субъективного восприятия членов семьи и,
следовательно, меньше приспособлена для сравнительного изучения семей.
Члены
семьи, которые чаще других играют важные роли, как правило, обладают большей
властью в семье. Методику можно проводить индивидуально или со всей семьей в
целом. Анкета «семейные роли» не является тестом. Она разрабатывалась прежде
всего для нужд терапии и изучения субъективного восприятия членов семьи и,
следовательно, меньше приспособлена для сравнительного изучения семей.
Для того чтобы свести воедино всю полученную по различным методикам информацию и структурировать ее, удобно использовать циркулярную модель Олсона [105; 106; 92].
Эта модель включает в себя две основные оси (сплоченность и гибкость), которые задают тип семейной структуры, и один до-
167
Уровни гибкости:
низкая Сплоченность высокая — недостаток лидерства; — роли неясны и искажены; . — попустительская дисциплина; — слишком много изменений:
— разделенное с другими руководство;
— роли обсуждаются;
— демократическая дисциплина;
— изменения при необходимости; р—уководство изредка разделяется
с другими;
— роли стабильны;
— более строгая дисциплина;
— изменения при необходимости;
— авторитарное руководство;
— роли очень редко изменяются;
— строгая дисциплина;
Разоб Раздель Связан Запу — слишком мало изменений
щенный ный ный танный
Сплоченность низкая умеренная высокая
Лояльность низкая умеренная высокая
Зависимость низкая умеренная высокая
Типы систем
— сбалансированные; - среднесбалансированные; - несбалансированные
Циркулярная модель Олсона
полнительный параметр — коммуникацию, графически не вклю
ченную в модель (см. рис.).
Выделяются ч е т ы р е у р о в н я с п л о ч е н н о с т и : крайне низкий — разобщенный тип семьи; разделенный — низкий к умеренному; связанный — умеренный к высокому; запутанный — чрезмерно высокий уровень.
С е м е й н а я г и б к о с т ь , определяемая количеством изменений в семейном руководстве, семейных ролях и правилах, регулирующих взаимоотношения, также имеет ч е т ы р е у р о в н я : ригидный — очень низкий; структурированный — низкий к умеренному; гибкий — умеренный; хаотичный — очень высокий.
![]() Центральные
уровни сплоченности (раздельный, связанный) и гибкости (структурированный,
гибкий) являются сбалансированными и обеспечивают оптимальное семейное
функционирование, в то время как крайние значения по этим шкалам (разобщенный,
запутанный, ригидный и хаотичный типы) являются проблемными.
Центральные
уровни сплоченности (раздельный, связанный) и гибкости (структурированный,
гибкий) являются сбалансированными и обеспечивают оптимальное семейное
функционирование, в то время как крайние значения по этим шкалам (разобщенный,
запутанный, ригидный и хаотичный типы) являются проблемными.
Если уровень сплоченности слишком высок (запутанная система), то существует слишком много центростремительных сил в семье, крайности в требовании эмоциональной близости и лояльности, отдельные члены семьи не могут действовать независимо друг от друга. В семье слишком много согласия, различия в точках зрения активно не поощряются. Существует даже страх различий, опасность существования такой семьи («Если мы такие разные, то что мы делаем вместе?»). У членов семьи мало личного пространства и невысокий уровень дифференцированности друг от друга. Семья как система имеет жесткие внешние границы с окружением и слабые внутренние границы между подсистемами и индиви
дуальностями. Энергия людей сфокусирована в основном внутри семьи или отдельной ее подсистемы и существует мало неразде
ленных с другими друзей и интересов.
В школьном консультировании проблемы семьи имеют значение только в связи с проблемным поведением ребенка. При запутанной семейной системе у ребенка могут быть проблемы, например, с посещением школы в 1 классе. Ребенок может начать демонстрировать страхи, болеть по понедельникам, вплоть до активного сопротивления — крики, плач, истерики и т.д. Нередко ро
![]() дители сразу же начинают
обвинять школу и учителей в плохом обращении с ребенком, однако здесь может
быть проблема в расставании матери и ребенка. Проблемы в подростковом возрасте
могут быть связаны также со взрослением ребенка. Причем тесная эмоциональная
связь может быть как причиной подросткового бунта (подростку нужно больше
личного пространства, расширение сферы общения), так и усталости родителей, когда
ребенок не хочет взрослеть и остается столь же привязанным к родителям, как и в
младенчестве. Тогда родители жалуются на то, что у ребенка нет друзей, он не
гуляет, а все время сидит дома, он несамостоя
дители сразу же начинают
обвинять школу и учителей в плохом обращении с ребенком, однако здесь может
быть проблема в расставании матери и ребенка. Проблемы в подростковом возрасте
могут быть связаны также со взрослением ребенка. Причем тесная эмоциональная
связь может быть как причиной подросткового бунта (подростку нужно больше
личного пространства, расширение сферы общения), так и усталости родителей, когда
ребенок не хочет взрослеть и остается столь же привязанным к родителям, как и в
младенчестве. Тогда родители жалуются на то, что у ребенка нет друзей, он не
гуляет, а все время сидит дома, он несамостоя
тельный.
В другой крайности — разобщенной системе с низким уровнем сплоченности существует слишком много центробежных сил. Члены семьи эмоционально крайне дистанцированы, почти не испытывают привязанности друг к другу, демонстрируют несогласованное поведение. Они редко проводят время вместе, не имеют общих
друзей и интересов. Им трудно оказывать друг другу поддержку и совместно решать жизненные проблемы. Однако нельзя сказать, что члены такой семьи являются хорошо дифференцированными личностями в понимании Мюррея Боуэна, так как за изолированностью от других, подчеркнутой независимостью они часто скрывают свою неспособность устанавливать близкие взаимоотношения, возрастание тревоги при сближении с другими людьми. Дифференциация Я — обозначает спектр возможных способов, с помощью которых люди уравновешивают силы индивидуальности и совместности в значимых системах отношений [78, с. 490].
У детей из таких семей могут быть проблемы с уверенностью в себе, с самоценностью. Они могут демонстрировать либо симпто
169
матическое поведение, направленное на сближение членов семьи,
либо полную автономию от родителей (предоставлен сам себе), что способствует появлению иных, чем родители, авторитетов и большему риску правонарушений. Такие дети могут быть неуправляемы, так как родители не имеют на них влияния. Даже если на первый взгляд родители принимают активное участие в жизни ребенка, следует отличать материальную заботу (накормить, чисто одеть,
снабдить витаминами) от эмоциональной близости. Учителя час
то разводят руками: «Такая мама милая, а он...»
Полюса данной шкалы (близость—раздельность) отражают два фундаментальных человеческих страха — страха одиночества и страха быть поглощенным другими.
Члены семей сбалансированных типов способны сочетать собственную независимость и тесные связи со своими семьями. Семьи с раздельным типом взаимоотношений отличаются некоторой эмоциональной разделенностью, но она не проявляется в таких крайних формах, как в разобщенной системе. Несмотря на то что время, проводимое отдельно, для членов семьи более важно, они
способны собираться вместе, обсуждать проблемы, оказывать под
держку друг другу и принимать совместные решения. Интересы и друзья обычно разные, но некоторые разделяются с другими членами семьи.
Объединенный (связанный) тип семьи характеризуется эмоциональной близостью, лояльностью во взаимоотношениях. Члены семьи часто проводят время вместе. Это время для них важнее, чем время, посвященное индивидуальным друзьям и интересам. Однако сплоченность в таких семьях не достигает степени запутанности, когда пресекаются всякие различия.
Семьи нуждаются не только в балансе близости — раздельности, но и в оптимальном сочетании изменений внутри семьи со способностью сохранять свои характеристики стабильными. Несба
лансированные по шкале гибкости системы склонны быть или ригидными, или хаотичными.
Система становится ригидной, когда она перестает отвечать на жизненные задачи, возникающие перед семьей в ее продвижении по стадиям жизненного цикла. Семья отказывается меняться и приспосабливается к изменившейся ситуации (рождение, смерть
![]() членов семьи, взросление
детей и отделение их от семьи, изменения в карьере, месте жительства и т.д.).
По Олсону, система часто становится ригидной, когда она чрезмерно
иерархизирована. Существует член семьи, который всем заведует и осуществляет
контроль. Имеется тенденция к ограничению переговоров, большинство решений
навязывается лидером. В ригидной системе роли, как правило, строго
распределены, а правила взаимодействия остаются неизменными. Слишком
незначительное количество из
членов семьи, взросление
детей и отделение их от семьи, изменения в карьере, месте жительства и т.д.).
По Олсону, система часто становится ригидной, когда она чрезмерно
иерархизирована. Существует член семьи, который всем заведует и осуществляет
контроль. Имеется тенденция к ограничению переговоров, большинство решений
навязывается лидером. В ригидной системе роли, как правило, строго
распределены, а правила взаимодействия остаются неизменными. Слишком
незначительное количество из
менений в системе ведет к высокой предсказуемости и ригидности поведения ее членов.
В таких семьях велика вероятность появления насилия по отношению к ребенку — как физического, так и психологического, — когда любое отклонение от предписаний жестоко наказывается. Тираном может выступать любой член семьи: мать, отец или же властная бабушка. Реакции на насилие у детей бывают разные. Они могут выражаться в смещенной агрессии, когда ребенок, который
дома ведет себя тихо и слушается родителей, в школе выдает приступы неконтролируемой агрессии, ярости безо всякого повода. Весь скопившийся протест и бессилие, которое он испытывает дома, выливается на первый попавшийся объект в школе. Это может быть не только одноклассник, но также и старшие дети, и даже учитель. Еще одна реакция — это забитость и затравленность. Такой ребенок нередко становится «козлом отпущения». Главной за
дачей его становится — не высовываться. Такие дети нередко уходят от насилия в свой фантазийный мир, сводя контакты с внешним миром до минимума. Они могут много читать, играть в компьютерные игры, просто «витать в облаках». Всякое возвращение в реальный мир вызывает у них страдания.
Ригидная семья, даже если в ней нет ярко выраженного насилия, обязательно столкнется с проблемой взросления детей и желанием их обрести самостоятельность. В таких семьях правила не меняются и взрослеющий ребенок сталкивается с непониманием и нежеланием считаться с его иными потребностями.
Хаотическое состояние система часто обретает в момент кризиса, например при рождении ребенка, разводе, потере источников дохода и т.д. Проблемным состояние становится, если система застревает в нем надолго. Такой тип системы имеет неустойчивое или ограниченное руководство. Решения являются импульсивными и непродуманными. Роли неясны и часто смещаются от одного члена семьи к другому. Большое количество изменений приводит к непредсказуемости того, что происходит в системе.
![]() При
хаотическом состоянии обычно возрастает уровень тревоги у членов любой системы.
Если родители плохо справляются с изменившимися условиями, если уровень их
тревоги слишком высок и они теряются, соответственно, у ребенка повышается
уровень тревоги, он не чувствует себя защищенным от перипетий жизни. Реакции
ребенка на повышение тревоги могут быть также разнообразными: плаксивость,
дневные и ночные страхи, дезорганизация всякой деятельности, неуправляемость,
истерики и т.д. Если же это постоянное состояние семьи, то у ребенка может быть
ярко выраженная симптоматика на протяжении длительного времени.
При
хаотическом состоянии обычно возрастает уровень тревоги у членов любой системы.
Если родители плохо справляются с изменившимися условиями, если уровень их
тревоги слишком высок и они теряются, соответственно, у ребенка повышается
уровень тревоги, он не чувствует себя защищенным от перипетий жизни. Реакции
ребенка на повышение тревоги могут быть также разнообразными: плаксивость,
дневные и ночные страхи, дезорганизация всякой деятельности, неуправляемость,
истерики и т.д. Если же это постоянное состояние семьи, то у ребенка может быть
ярко выраженная симптоматика на протяжении длительного времени.
Следующие два типа семейных структур считаются Олсоном сбалансированными.
Системы структурированного типа отличаются некоторыми чертами демократического руководства, в частности члены семьи способны обсуждать общие проблемы и учитывать мнение детей. Роли и внутрисемейные правила стабильны, однако существует некоторая возможность их обсуждения.
Гибкий тип семейной системы характеризуется демократическим стилем руководства. Переговоры ведутся открыто и активно включают детей. Роли разделяются с другими членами семьи и меняются, когда это необходимо. Правила могут быть изменены и соотнесены с возрастом членов семьи. Иногда, правда, семье мо
жет не хватать лидерства, и члены семьи завязают в спорах друг с другом, что, однако, не приводит к потере управляемости системы.
Из рисунка 1 видно, что всего имеется шестнадцать типов супружеских или семейных систем. Из них четыре являются сбалансированными типами структур, восемь — среднесбалансированными (сбалансированными по одной шкале и находящимися на краю по другой) и четыре крайних типа несбалансированы по обоим параметрам.
Основываясь на циркулярной модели, Олсон выдвигает три гипотезы:
1) супруги и семьи сбалансированных типов в целом будут функционировать более адекватно, проходя через стадии жизненного цикла, чем несбалансированные типы;
2) в ситуации стресса или изменения задач жизненного цикла семьи будут модифицировать близость и адаптивность, приспосабливаясь к обстоятельствам. Сбалансированность семей не означает, что они всегда будут функционировать в умеренном диапазоне. Семьи могут приближаться к краям измерений, когда это необходимо, но застревание в этих позициях ведет к возникновению психологической проблематики у их членов;
3)
![]() позитивные
коммуникативные навыки (эмпатия, умение слушать, навыки самораскрытия, ведения
переговоров и т.д.) помогают поддерживать равновесие по двум выделенным
измерениям, дают возможность сбалансированным типам семей изменять свои уровни
близости и гибкости легче, чем несбалансированным типам. И наоборот, крайние
типы систем отличаются обедненной коммуникацией, что препятствует движению к
сбалансированным типам и увеличивает вероятность их застревания в крайних
позициях.
позитивные
коммуникативные навыки (эмпатия, умение слушать, навыки самораскрытия, ведения
переговоров и т.д.) помогают поддерживать равновесие по двум выделенным
измерениям, дают возможность сбалансированным типам семей изменять свои уровни
близости и гибкости легче, чем несбалансированным типам. И наоборот, крайние
типы систем отличаются обедненной коммуникацией, что препятствует движению к
сбалансированным типам и увеличивает вероятность их застревания в крайних
позициях.
Оценивая семьи по этой модели, следует также учитывать, что нормы близости и гибкости семейных систем у разных этнических групп могут различаться.
Сейчас в российских школах появилось множество семей из стран ближнего зарубежья. Некоторые из них проповедуют мусульманскую культуру. Эти семьи отличаются ригидностью и, в силу стрессовой ситуации (неустройство жилищных условий, отсутствие работы, потеря связей с родственниками), высокой сплоченностью.
Несмотря на то что школьный консультант редко имеет дело со всей семьей в целом и не работает с проблемами семьи, знание
жизненных циклов поможет понять, какие проблемы семья принесла из прошлого в настоящее, каким образом семья справлялась со стрессом переходного периода и как это сказалось на ребенке. Кроме того, это может помочь и в понимании общих процессов развития семейной системы.
Отличие российской семьи от западной и американской состоит в большей эмоциональной близости родителей и детей, большей материальной зависимости родителей в старости от детей, часто встречающимся совместным проживанием трех поколений в одной квартире, значимостью института семьи в обществе. И еще одна очень важная особенность — это распространенная парентификация российских детей.
![]() Парентификация (от англ.
слова parents —
родители) означает принятие ребенком на себя роли родителя для своих родителей.
В функциональном плане это часто выражается в ответственности за жизнь, судьбу,
эмоциональные переживания детей по отношению к своим родителям. Они заботятся о
вполне дееспособных и здоровых родителях так, как будто те являются маленькими
несмышлеными детьми. Родители же, в свою очередь, всячески поддерживают
проявления заботы и внимания, демонстрируя беспомощность в случаях, когда нужно
принять взрослое ответственное решение. Причем родителями своим родителям дети
становятся очень рано. Можно встретить девочку пяти лет, которая гла
Парентификация (от англ.
слова parents —
родители) означает принятие ребенком на себя роли родителя для своих родителей.
В функциональном плане это часто выражается в ответственности за жизнь, судьбу,
эмоциональные переживания детей по отношению к своим родителям. Они заботятся о
вполне дееспособных и здоровых родителях так, как будто те являются маленькими
несмышлеными детьми. Родители же, в свою очередь, всячески поддерживают
проявления заботы и внимания, демонстрируя беспомощность в случаях, когда нужно
принять взрослое ответственное решение. Причем родителями своим родителям дети
становятся очень рано. Можно встретить девочку пяти лет, которая гла
дит свою плачущую маму и говорит ей слова утешения и ободрения. Или мальчика 10— 11 лет, который заботливо поддерживает маму и бабушку под руки, а они опираются на него с блаженным видом и беспомощно толкутся в дверях, пока он им их не подер
жит. В нашем обществе это считается хорошим тоном, хорошие дети носят своим родителям стаканы воды к постели, а родители пребывают в тревогах и болезнях. Причины такого перевертыша мы рассматривали ранее в главе 1.
Для ребенка парентификация означает отказ от детства: игр, развлечений, фантазий. Он рано становится взрослым, ему тяжело выносить груз ответственности, он не может расслабиться, часто подвержен соматическим заболеваниям, тревожен. Картина осложняется двойственностью положения такого парентифицированного ребенка: с одной стороны, он несет ответственность за комфорт и эмоциональное, а иногда и физическое благополучие своих родителей, а с другой — он все-таки ребенок, и ему всегда могут указать на его подчиненное положение. Он к а к бы взрос
лый. Он никогда в точности не знает, что от него требуется, так как постоянно получает противоречивые двойные послания (см. ниже).
Жизненный цикл российской городской семьи. Он включает в себя шесть стадий.
П е р в а я с т а д и я — родительская семья со взрослыми детьми. Молодые люди не имеют возможности пережить опыт само
стоятельной, независимой жизни. Всю жизнь молодой человек — элемент своей семейной системы, носитель ее норм и правил, ребенок своих родителей. Обычно у него нет ясного представления о том, что было достигнуто в его жизни лично им самим, ему трудно выработать чувство личной ответственности за свою судьбу. Он не может проверить на практике те правила жизни, стандарты и нормы, которые получил от родителей, и часто не может вырабо
тать свои правила. Self-made-man (человек, сделавший себя сам) — редкое явление.
Н а в т о р о й с т а д и и жизненного цикла семьи кто-то из молодых людей знакомится с будущим брачным партнером, женится и приводит его в дом своих родителей. Это существенная ломка правил родительской семьи. Задача очень сложная — создать маленькую семью внутри большой. Молодые люди должны не только друг с другом договориться о том, как и по каким правилам они будут жить вместе, они еще должны договориться с родителями, вернее, передоговориться о том, как они будут ладить друг с другом.
Патриархальные правила предлагают вариант такого договора: молодой супруг или супруга входит в большую семью на правах еще одного ребенка — сына или дочери. Родителей мужа или жены предлагается называть мамой или папой. Тогда молодые супруги как бы и не супруги, а вновь обретенные брат с сестрой.
![]() Не
всякая молодая семья готова к такому сценарию отношений. Хорошо, если супруги
не готовы к этому вместе, гораздо хуже, когда к этому не готов кто-то один.
Тогда один партнер хочет быть прежде всего мужем или женой и только во вторую
очередь сыном или дочерью; у другого же супруга приоритеты обратные. Конфликты,
возникающие в этом случае, всем известны, и часто выглядят как ссора между
свекровью и невесткой или между зятем и родителями жены. На самом же деле в его
основе лежит конфликт ролевых приоритетов у супругов.
Не
всякая молодая семья готова к такому сценарию отношений. Хорошо, если супруги
не готовы к этому вместе, гораздо хуже, когда к этому не готов кто-то один.
Тогда один партнер хочет быть прежде всего мужем или женой и только во вторую
очередь сыном или дочерью; у другого же супруга приоритеты обратные. Конфликты,
возникающие в этом случае, всем известны, и часто выглядят как ссора между
свекровью и невесткой или между зятем и родителями жены. На самом же деле в его
основе лежит конфликт ролевых приоритетов у супругов.
Новая подсистема нуждается прежде всего в сепарации, старая система, подчиняясь закону гомеостаза, хочет сохранить все так, как было. Таким образом, создается парадоксальная ситуация: брак как бы есть и в то же время его как бы и нет. Это мучительно для
всех.
![]() Т
р е т ь я с т а д и я семейного цикла связана с рождением ребенка. Это тоже
кризисный период для всей системы. Опять необходимо договариваться о том, кто
что делает и кто за что отвечает. В семьях с размытыми границами подсистем и
невнятной организацией нередко плохо определены семейные роли. Например,
неясно, кто функциональная бабушка, а кто функциональная мама, т. е. кто фактически
осуществляет заботу, уход, растит ребенка. Часто эти роли спутаны, и ребенок
скорее является сыном или дочерью бабушки, а не матери. Собственные родители
ребенку скорее старшие брат и сестра. Мать и отец работают, а бабушка на
пенсии. Она много времени проводит с ребенком, при этом отношения матери и
бабушки могут быть совсем не хорошими.
Т
р е т ь я с т а д и я семейного цикла связана с рождением ребенка. Это тоже
кризисный период для всей системы. Опять необходимо договариваться о том, кто
что делает и кто за что отвечает. В семьях с размытыми границами подсистем и
невнятной организацией нередко плохо определены семейные роли. Например,
неясно, кто функциональная бабушка, а кто функциональная мама, т. е. кто фактически
осуществляет заботу, уход, растит ребенка. Часто эти роли спутаны, и ребенок
скорее является сыном или дочерью бабушки, а не матери. Собственные родители
ребенку скорее старшие брат и сестра. Мать и отец работают, а бабушка на
пенсии. Она много времени проводит с ребенком, при этом отношения матери и
бабушки могут быть совсем не хорошими.
Школьный психолог довольно часто сталкивается в своей работе с такими вот функциональными бабушками, которые ходят на родительские собрания и приходят вместо мамы на консультацию к психологу. В таких семьях правила устанавливает бабушка, особенно если молодые родители так и не вышли из своей роли
детей. В принципе с детьми при такой четко установленной иерархии проблем не бывает, они принимают подобное распределение сил как должное и слушаются бабушку как родителя. Проблемы с
детьми начинаются тогда, когда родителей перестает удовлетворять их положение и они начинают бороться за переструктурирование системы.
Например, мама добилась успехов в работе, сделала карьеру, выросла, стала самостоятельной, изменилась в сторону большей независимости. Она захотела отвечать за воспитание ребенка сама и стала отстранять бабушку от ведения дел. Бабушка стала, естественно, сопротивляться, так как у нее отнимают не только работу, т. е. занятость, но и власть, она автоматически переходит на вторые роли, с чем, естественно, смириться не хочет. Если при этом муж (папа) остается на позиции ребенка (см. вторую стадию), то в семье возникает конфликт перераспределения ролей, в который оказываются втянуты все члены семьи. Могут создаться новые коалиции или укрепиться старые.
Ребенок также активно участвует в этой борьбе, что обязательно скажется на его учебе, настроении, поведении и т.д. Диагностировать причину падения, например, успеваемости или ухудшения поведения у ребенка в таких случаях очень сложно, поскольку видимых причин нет. Поэтому полезно всегда выяснять все изменения, произошедшие в жизни отдельных членов семьи за период Их существования. И сравнивать, что изменилось в структуре, взаимоотношениях, иерархии и т.д. семьи по сравнению с тем, что было раньше.
![]() Еще
одна проблема, с которой психолог сталкивается в школе и которую также можно
соотнести с прохождением семьи стадий жизненного цикла, — это недовольство
одного из родителей своим ребенком. Жалобы могут быть самого разного свойства:
нерешительность, плаксивость, вредность, упрямство и т.д. Жалоба предъявляется
чаше всего как нежелательная черта характера, как нечто глобальное, присущее
ребенку от рождения. Часто звучит сравнение со вторым супругом: «Совсем как его
отец. Он тоже всегда...» И далее следует рассказ о плохом супруге. Вероятнее
всего, стало проявляться активное недовольство супругом, которое не было
высказано и прояснено ранее. Когда не были определены правила функционирования
семейной системы (см. первую стадию), а накопившееся недовольство высказывается
через ребенка.
Еще
одна проблема, с которой психолог сталкивается в школе и которую также можно
соотнести с прохождением семьи стадий жизненного цикла, — это недовольство
одного из родителей своим ребенком. Жалобы могут быть самого разного свойства:
нерешительность, плаксивость, вредность, упрямство и т.д. Жалоба предъявляется
чаше всего как нежелательная черта характера, как нечто глобальное, присущее
ребенку от рождения. Часто звучит сравнение со вторым супругом: «Совсем как его
отец. Он тоже всегда...» И далее следует рассказ о плохом супруге. Вероятнее
всего, стало проявляться активное недовольство супругом, которое не было
высказано и прояснено ранее. Когда не были определены правила функционирования
семейной системы (см. первую стадию), а накопившееся недовольство высказывается
через ребенка.
Так называемая школьная фобия у ребенка может быть связана с тревогой расставания, особенно в момент поступления в школу. Когда мать всецело занята ребенком и, как правило, не имеет занятий и интересов вне дома, ребенок отвечает ей взаимной привязанностью и страхом отделения. Особенно когда отец активно реализовывается в профессиональной деятельности и редко бывает дома.
Несогласия родителей в том, как надо воспитывать ребенка, обостряются с приходом его в школу. Они также часто являются причиной давнего скрытого конфликта и невысказанных претензий супругов друг другу. Ребенок в таком случае оказывается между двух огней: поддерживая одного из родителей, он предает другого. Эта нагрузка невыносима для ребенка и может привести к тяжелому невротическому расстройству. Более подробно об образовании треугольников можно посмотреть в книге «Теория семейных систем Мюррея Боуэна».
Следующий, буквально гротескный, случай из практики может проиллюстрировать путь, который может выбрать ребенок, находящийся между двух огней. На консультацию к школьному психологу обратились учительница начальных классов и мама одной из третьеклассниц. Девочка до недавнего времени была круглой от
личницей, отличалась старательностью и аккуратностью. И вдруг ее почерк испортился так, что невозможно было вообще разобрать, что написано в тетрадке. Сама девочка на вопрос, почему она так стала писать, ничего не могла ответить ни учительнице, ни маме. Она не понимала, что с ней происходит. Девочка очень старалась и сильно расстраивалась, когда у нее выходили каракули, которые никто не мог прочитать. Выяснилось, что, оказывается, мама хотела, чтобы ее буквы были остренькими и с наклоном, а папа хотел, чтобы они закруглялись и стояли прямо. Каждый из родителей заглядывал в ее тетрадки и каждый делал замечания, выдвигая свои требования. Девочка так старалась угодить своим родителям, что каждый раз меняла почерк. Родители заглядывали в тетрадки часто, критиковали также часто, оказывалось, что кто-то из них всегда недоволен. В результате девочка нашла выход — она стала писать так, чтобы никого не обидеть, — каракулями. В данной семье обострились противоречия между супругами, которые выли
лись в борьбу через ребенка. Родители, критикуя почерк дочери, высказывали таким образом недовольство друг другом и вели скрытую борьбу за право устанавливать нормы и правила в семье. Пока мама сидела дома (в связи с рождением второго ребенка), она принимала главенство супруга по многим вопросам. Как только она вышла на работу (год назад до описываемых событий), страсти накалились, и супруга потребовала пересмотра списка прав и обязанностей. Но, как это часто бывает, не напрямую, а косвенно, через контроль над обучением ребенка.
На ч е т в е р т о й с т а д и и в семье появляется второй ребенок. Эта стадия достаточно мягкая, так как она во многом повторяет предыдущую стадию и ничего кардинального нового, кроме детской ревности, в семью не вносит.
Однако для школьного психолога, работающего в основном с детьми, очень важно знание, во-первых, всех изменений в жизни ребенка в связи с рождением брата или сестры, а во-вторых — знание порядка рождения данного ребенка.
![]() В
связи с рождением второго ребенка часто жизнь первого ребенка кардинально
меняется. Если разница между детьми невелика (менее 5 — 6 лет), то между детьми (сиблингами) возникает
ревность и конкуренция. Это неизбежный процесс, и во многом он способствует
развитию ценных и полезных для взрослой жизни качеств: способности к кооперации,
умению считаться и делить пространство с другими людьми, умению подчиняться и
лидировать, умению побеждать и проигрывать, соперничать и конкурировать и т.д.
При здоровой атмосфере в семье дети учатся этому в
В
связи с рождением второго ребенка часто жизнь первого ребенка кардинально
меняется. Если разница между детьми невелика (менее 5 — 6 лет), то между детьми (сиблингами) возникает
ревность и конкуренция. Это неизбежный процесс, и во многом он способствует
развитию ценных и полезных для взрослой жизни качеств: способности к кооперации,
умению считаться и делить пространство с другими людьми, умению подчиняться и
лидировать, умению побеждать и проигрывать, соперничать и конкурировать и т.д.
При здоровой атмосфере в семье дети учатся этому в
драках и мирных занятиях, сами устанавливая правила существования в своей подсистеме. В дисфункциональных семьях детей «делят», образуя коалиции и альянсы, вмешиваются в детскую подсистему, устанавливая там взрослые правила, манипулируют и используют детей для сохранения семейной системы. С раннего
детства дети учатся взрослым правилам игры, учатся манипулировать в свою очередь взрослыми и использовать их слабости в своих интересах. Тогда брат и сестра становятся соперниками за внимание и любовь родителей, а также ответственными и важными фигурами в супружеских войнах и играх. К моменту поступления в школу одного из детей роли обычно уже давно и прочно закреплены: кто-то является «козлом отпущения», кто-то принимает на себя роль героя семьи и т.д.
Если же разница между детьми составляет более шести лет, го каждый из детей воспитывается как единственный ребенок, лишь в небольшой степени принимая на себя роль, определяемую по
рядком рождения [110].
Психологу-консультанту полезно подробно расспросить ребенка, как изменилась его жизнь после рождения брата или сестры. Иногда бывает, что старшего ребенка назначают нянькой, взваливая на его плечи всю работу по уходу за маленьким. У такого ребенка, естественно, падает успеваемость, он становится вялым, безразличным, апатичным, часто пропускает школу. Для таких случаев характерно равнодушие родителей к изменениям в состоянии ребенка, они как будто не видят его усталости и пониженного тонуса. Они становятся слепыми и глухими к жалобам ребенка на усталость и учителей — на
![]() снижение успеваемости.
Ребенок сильно не противится, так как наградой ему бывает обычно внимание со
стороны родителей. «Любовь надо зарабатывать» — вывод, который ребенок часто
выносит в свою взрослую жизнь, стараясь впоследствии заработать любовь какого-
нибудь индивида, в принципе не способного любить. Кроме того, у ребенка, много
времени отдающего работам по дому или уходу за младшими детьми, гораздо меньше
социального опыта, что мешает его адаптации и способствует отчуждению и
изоляции в мире сверстников. Такие дети инфантильны и одиноки.
снижение успеваемости.
Ребенок сильно не противится, так как наградой ему бывает обычно внимание со
стороны родителей. «Любовь надо зарабатывать» — вывод, который ребенок часто
выносит в свою взрослую жизнь, стараясь впоследствии заработать любовь какого-
нибудь индивида, в принципе не способного любить. Кроме того, у ребенка, много
времени отдающего работам по дому или уходу за младшими детьми, гораздо меньше
социального опыта, что мешает его адаптации и способствует отчуждению и
изоляции в мире сверстников. Такие дети инфантильны и одиноки.
П я т а я с т а д и я жизненного цикла семьи характеризуется тем, что начинают активно стареть и болеть прародители. Семья опять переживает кризис. Старики становятся беспомощными и зависимыми от среднего поколения. Фактически они занимают позицию маленьких детей в семье, однако чаще сталкиваются с досадой и раздражением, чем с любовью. Из стариков получаются нежеланные и нелюбимые дети, в то время как всем ходом преды
дущей жизни они приучены быть главными, принимать решения за всех, быть в курсе всех событий. Это стадия очередного передо- говора, мучительная для всех.
В общественном сознании не существует модели одинокой и самостоятельной жизни стариков. Считается недостойным позво
лить умереть своим старикам вне дома, поместить их в дом для престарелых. Особой доблестью признается во время болезни ле
чить старого человека дома, не отдавать в больницу.
Нередко этот период в жизни старших членов семьи совпадает с периодом полового созревания детей. В такой семье он проходит иначе, чем в нуклеарной (состоящей только из родителей и детей). Могут возникать коалиции стариков с подростками против среднего поколения. Например, старики покрывают поздние возвращения и школьные неуспехи подростков.
В то же время у среднего поколения есть хорошая управа на подростков. Больные старики требуют ухода и присмотра, эту обязанность вполне можно передать подросткам, привязав их к дому,
лишив вредной уличной компании, замедлив процесс построения их идентичности.
![]() Школьный
психолог часто сталкивается с проблемами так называемого подросткового кризиса.
Кризис у подростков во многом обусловлен общим кризисом семейной системы. К
тому времени, когда дети достигают подросткового возраста, в семейной системе,
как мы видим, происходят значительные изменения в иерархии, структуре (смерть
одного или двух прародителей), семья сталкивается с необходимостью
пересматривать правила функционирования и перераспределения зон
ответственности. С точки зрения семейной системы подростковый кризис можно
рассматривать как внутрисемейную борьбу за поддержание прежнего иерархического
порядка [92]. Кроме того, родители сталкиваются с тем, что дети все реже и реже
находятся дома, у них появляются свои, неподконтрольные интересы, они
отдаляются и физически и духовно, и родители остаются наедине друг с другом и
все больше и больше начинают осознавать, что с уходом детей им придется
проводить время друг с другом, решать свои проблемы самостоятельно без
привлечения детей. Это вызывает сильную тревогу, и родители всячески стараются
замедлить процесс отделения. Если же мать воспитывала ребенка одна, и в этот
момент начинают болеть ее собственные родители или умирает кто-то из них, то
женщина оказывается перед лицом неизбежного одиночества.
Школьный
психолог часто сталкивается с проблемами так называемого подросткового кризиса.
Кризис у подростков во многом обусловлен общим кризисом семейной системы. К
тому времени, когда дети достигают подросткового возраста, в семейной системе,
как мы видим, происходят значительные изменения в иерархии, структуре (смерть
одного или двух прародителей), семья сталкивается с необходимостью
пересматривать правила функционирования и перераспределения зон
ответственности. С точки зрения семейной системы подростковый кризис можно
рассматривать как внутрисемейную борьбу за поддержание прежнего иерархического
порядка [92]. Кроме того, родители сталкиваются с тем, что дети все реже и реже
находятся дома, у них появляются свои, неподконтрольные интересы, они
отдаляются и физически и духовно, и родители остаются наедине друг с другом и
все больше и больше начинают осознавать, что с уходом детей им придется
проводить время друг с другом, решать свои проблемы самостоятельно без
привлечения детей. Это вызывает сильную тревогу, и родители всячески стараются
замедлить процесс отделения. Если же мать воспитывала ребенка одна, и в этот
момент начинают болеть ее собственные родители или умирает кто-то из них, то
женщина оказывается перед лицом неизбежного одиночества.
Еще одна проблема, связанная с изменением иерархического порядка в семье, это необходимость пересмотра отношений со взрослеющими детьми. Мальчик — это не только сын, во всем признающий авторитет отца, но уже и партнер, другой мужчина. Девочка становится девушкой, нередко более привлекательной, чем ее мать. Конкуренция и соперничество могут сильно осложнять процесс переструктурирования в семейной системе. Взросление ребенка могут отрицать, не признавать его интересы, не замечать изменений. Дети также могут разрываться между потребностью в сепарации и лояльностью семейной системе.
Ш е с т а я с т а д и я повторяет первую. Старики умерли, и перед нами семья со взрослыми детьми.
Порядок рождения детей в семье. Исследования Уолтера Тоумена были проведены более 30 лет назад, однако до сегодняшнего дня, несмотря на значительные изменения в количестве детей в семьях и изменениях уклада жизни, его результаты и выводы остаются наиболее популярными среди психологов-практиков.
Старший ребенок в семье имеет опыт единственного ребенка.
![]() Некоторое время он получал
от родителей все внимание, тепло и заботу. Ему не приходилось делить
родительскую любовь. Велико его разочарование, когда в семье появляется еще
один ребенок и родители начинают заботиться о нем так же, как ранее о старшем.
Стремление быть первым и самым важным сохраняется в этом ребенке. Кроме того,
старшему ребенку часто поручают заботу о младшем ребенке, что делает его
ответственным и добросовестным. Старшие дети, как правило, честолюбивы,
обладают ярко выраженными лидерскими качествами, могут быть властолюбивы и
директивны. На старшего ребенка, особенно если это мальчик, родители возлагают
большие надежды. Поэтому старшие дети часто бывают перфекционистами, т. е.
стремятся все делать отлично, без ошибок, лучше всех. Им сложно расслабляться,
они все время в тонусе достижений. Часто такие дети обладают повышенным уровнем
тревоги, тяжело переживают неудачи.
Некоторое время он получал
от родителей все внимание, тепло и заботу. Ему не приходилось делить
родительскую любовь. Велико его разочарование, когда в семье появляется еще
один ребенок и родители начинают заботиться о нем так же, как ранее о старшем.
Стремление быть первым и самым важным сохраняется в этом ребенке. Кроме того,
старшему ребенку часто поручают заботу о младшем ребенке, что делает его
ответственным и добросовестным. Старшие дети, как правило, честолюбивы,
обладают ярко выраженными лидерскими качествами, могут быть властолюбивы и
директивны. На старшего ребенка, особенно если это мальчик, родители возлагают
большие надежды. Поэтому старшие дети часто бывают перфекционистами, т. е.
стремятся все делать отлично, без ошибок, лучше всех. Им сложно расслабляться,
они все время в тонусе достижений. Часто такие дети обладают повышенным уровнем
тревоги, тяжело переживают неудачи.
Младшему ребенку в семье, как правило, достается любовь и забота всех членов семьи. Его балуют, позволяют больше, чем другим детям, не возлагают на него больших надежд и спокойно относятся к его неудачам в учебе. Младший ребенок, с одной стороны, получает больше послаблений, а с другой — он вынужден подчиняться старшим детям. Младший ребенок более беззаботен, может быть безответственным и безалаберным. У него могут возникать трудности в принятии решений. В общении с членами семьи он скорее выработает стиль манипуляции или детских капризов, с помощью которых успешно добивается своих целей. Используя
зависимое положение, младший ребенок успешно избегает ответственности. Младший ребенок более оптимистичен, легок в общении, беззаботен, способен принимать помощь и покровительство.
Средний ребенок оказывается в самом невыгодном положении: он не имеет такой власти, как старший, но в то же время он уже не самый маленький и ему также нужно уступать и делиться с более младшим ребенком. Средний ребенок оказывается зажат между
двумя детьми. Считается, что средний ребенок самый проблемный, так как он рано уходит из семьи и с легкостью принимает ценности другой группы, подвержен влиянию окружающих. Средние дети не выносят критики, обижаются и очень чувствительны к любым попыткам руководить ими. В то же время они умеют ла
дить с различными людьми, вести переговоры и с наделенными властью (старший ребенок) и с зависимыми (младший ребенок).
В многодетных семьях существует распределение на старших и младших детей, характеристики отдельных детей зависят от того, к какой группе они относятся: к старшей или младшей.
Единственный ребенок может воспитываться в семье и как самый старший и как самый младший ребенок, в зависимости от предпочтений родителей. Он также может сочетать в себе свойства и старшего и младшего ребенка одновременно. У единственных детей обычно бывают трудности в сепарации.
Мы кратко описали типичные характеристики, не беря в расчет другие факторы: болезнь старшего ребенка, когда функции старшего ребенка переходят к младшему, болезни родителей, проекции родителей, ожидания и установки родителей, порядок рождения самих родителей, события жизни, влияющие на ход истории семьи, и т.д.
Иерархия в семье. Существуют следующие нарушения иерархического порядка в семье:
1) парентификация — наделение ребенка полномочиями взрослого человека, когда его статус выше, чем у родителя (перевернутая иерархия);
2) передача права принятия решающего голоса членам расширенной семьи (бабушкам и дедушкам), которые имеют право только на совещательный голос. Все решения должны приниматься в нуклеарной семье;
3) возвышение ребенка на одну ступень с родителями (друг или подруга, а не ребенок);
4) нарушение иерархии в детской подсистеме: а) один из детей наделен полномочиями взрослого, а другой остается в статусе ребенка; б) все проблемы и разногласия в детской подсистеме решают родители, вмешиваясь в их взаимодействие (диффузные внутренние границы).
![]() Семейные коалиции. В любой семье между ее
членами существуют привязанности различной степени интенсивности и окраски.
Родители по-разному относятся к своим детям: кого-то больше жалеют, кого-то
уважают, кого-то больше любит мама, а кого- то папа. Бабушки нежно общаются с
внуками, мама секретничает со своей мамой и т. д. И это нормальное явление. В
здоровой функциональной системе такие коалиции могут возникать по причине общих
интересов, например папа с сыном увлекаются хоккеем, мама с дочкой шьют куклам
платья. Или для усиления иерархической структуры системы, например когда
родители едины в своих требованиях к детям, а дети образуют детскую крепкую
подсистему со своими правилами и нормами поведения внутри этой подсистемы.
Семейные коалиции. В любой семье между ее
членами существуют привязанности различной степени интенсивности и окраски.
Родители по-разному относятся к своим детям: кого-то больше жалеют, кого-то
уважают, кого-то больше любит мама, а кого- то папа. Бабушки нежно общаются с
внуками, мама секретничает со своей мамой и т. д. И это нормальное явление. В
здоровой функциональной системе такие коалиции могут возникать по причине общих
интересов, например папа с сыном увлекаются хоккеем, мама с дочкой шьют куклам
платья. Или для усиления иерархической структуры системы, например когда
родители едины в своих требованиях к детям, а дети образуют детскую крепкую
подсистему со своими правилами и нормами поведения внутри этой подсистемы.
Подобные объединения становятся дисфункциональными, когда они образуются для целей борьбы членов семьи друг с другом и являются межпоколенными, т.е. нарушают принцип иерархичности, подрывая тем самым устои социального объединения. Тогда один враждующий член семьи перетягивает на свою сторону другого члена семьи из другого поколения для того, чтобы легче было справиться с соперником, чтобы усилить свою позицию. Коалиции «позволяют членам семьи совладать с низким самоуважением, уменьшить тревогу и контролировать третью сторону» [92, с. 44].
Например, мама с бабушкой образует коалицию против мужа (зятя), обвиняя его в том, что он мало зарабатывает, и заставляя тем самым подчиняться правилам, устанавливаемым супругой.
Другой пример: один родитель объединяется с ребенком против другого родителя, выступая против воспитательных мер данного родителя, тем самым ослабляя его влияние на ребенка.
Или: один родитель объединяется с одним из детей, а другой родитель с другим ребенком, давая каждый своему ребенку поблажки и льготы.
Или: бабушка или дедушка объединяются с внуком против родителей, покрывая его и получая взамен поддержку внука в баталиях с супругами.
![]() Такие
межпоколенные коалиции ослабляют систему, заставляя ее членов тратить время и
силы на разрешение межличностных проблем косвенным путем. Например, в первых
трех случаях в основе лежит неразрешенный конфликт супругов, которые не смогли
договориться о правилах функционирования в своей подсистеме. Случаи, когда
прародители объединяются с внуками, говорят о незавершенном процессе сепарации
среднего поколения от своих родителей.
Такие
межпоколенные коалиции ослабляют систему, заставляя ее членов тратить время и
силы на разрешение межличностных проблем косвенным путем. Например, в первых
трех случаях в основе лежит неразрешенный конфликт супругов, которые не смогли
договориться о правилах функционирования в своей подсистеме. Случаи, когда
прародители объединяются с внуками, говорят о незавершенном процессе сепарации
среднего поколения от своих родителей.
Коалиции бывают скрытыми, когда наличие объединения не признается членами семьи. Например, бабушка ругается на внука при родителях, когда тот приходит поздно домой, но никогда не говорит им о его позднем приходе, если они его не обнаружили сами.
Мы рассмотрели структурный подход к диагностике семьи, который ориентирован на состав семьи, и связанные с этим различные сочетания близости/отдаленности членов семьи и переплетения: иерархия, коалиции, границы и т.д. Исходя из этого подхода, зная состав семьи и события, повлекшие за собой изменения в структуре семьи (смерть, рождение, развод и т.д.), можно предположить ее возможные слабые звенья. Например, семья,
состоящая их двух человек — мамы и ребенка, — может страдать от слишком тесной эмоциональной близости (запутанная система), мешающей развитию и самореализации каждого из ее членов, она может отличаться ригидностью и диффузными границами между подсистемами (мать—ребенок). Многодетные семьи могут также иметь диффузные внешние границы, хаотичное состояние, страдать от нарушений иерархии, образовывать межпоколенные коалиции.
Напомним, что подобные утверждения являются лишь отправной точкой возможных размышлений, первоначальным выдвижением гипотез, но никак не окончательным утверждением. Каждое такое предположение нуждается в тщательной и многократной проверке.
4.5.3. Динамические параметры диагностики семейной
Динамические параметры касаются способов взаимодействия между членами системы и устанавливаемых в системе взаимоотношений. Любое сообщение (коммуникация) в системе всегда существует в неком контексте ранее сложившихся межличностных
![]() отношений, в результате
простое сообщение приобретает некий смысл, известный только членам данной
системы. Этот уровень метакоммуникации не выражается простыми сообщениями, а
отражает весь предыдущий спектр отношений. Например, сетование супруги на то, что
она очень устала на работе, вовсе не означает констатации факта усталости после
трудного дня, а выражает недовольство мужем по поводу того, что он взвалил на
нее всю работу по дому. Муж прекрасно понимает, что она имеет в виду, и идет на
кухню мыть посуду.
отношений, в результате
простое сообщение приобретает некий смысл, известный только членам данной
системы. Этот уровень метакоммуникации не выражается простыми сообщениями, а
отражает весь предыдущий спектр отношений. Например, сетование супруги на то, что
она очень устала на работе, вовсе не означает констатации факта усталости после
трудного дня, а выражает недовольство мужем по поводу того, что он взвалил на
нее всю работу по дому. Муж прекрасно понимает, что она имеет в виду, и идет на
кухню мыть посуду.
Говоря про коммуникацию, мы должны помнить, что коммуникацией считается любое сообщение — как вербальное, так и невербальное. Если мама поджала губы и ничего не сказала, то на
самом деле она многое сказала, и тот, кому предназначено сообщение, его понял.
Также мы помним о том, что в ситуации, когда двое или более людей находятся в одном пространстве, они не могут не общаться. Отказ от коммуникации — это также коммуникация.
В каждой семье устанавливаются свои коммуникативные правила, повторяющиеся последовательности (паттерны коммуникации), которые помогают системе сохранять равновесие и способствуют ее функционированию. Они не лучше и не хуже других правил в других семьях; они именно такие, поскольку выработаны и способствуют сохранению целостности системы.
Паттерны коммуникации бывают комплементарные и симметричные. Симметричные паттерны означают такой же ответ, а комплементарные — иной, противоположный. Например, муж раз
бил тарелку, жена разбила вторую — это симметричный ответ. Муж разбил тарелку, а жена подмела пол — комплементарный.
Коммуникация в семье всегда происходит на двух уровнях: на Уровне простых сообщений и на уровне отношений. Это объясняет непонятный со стороны факт, что один и тот же сигнал, например смех, в одной семейной системе воспринимается как одобрение, а в другой как издевка.
Рассмотрим наиболее распространенные о ш и б к и к о м м у н и к а ц и и в с е м е й н о й с и с т е м е .
1. Неопределенность семейных правил. Никогда не понятно точно, что несет в себе сообщение того или иного члена семьи.
Большую роль в адекватном восприятии сообщений друг другу играет свобода слова в семье. Если в семье не принято обсуж
![]() дать правила, по которым
семья функционирует, и если неявные правила никогда не озвучиваются и, более
того, отрицаются, существует большая вероятность того, что коммуникация будет
сильно затруднена. Например, если в семье четко не определено, кто будет гулять
с собакой, то дети, опираясь на свои собственные представления о
справедливости, будут вечно спорить об этом.
дать правила, по которым
семья функционирует, и если неявные правила никогда не озвучиваются и, более
того, отрицаются, существует большая вероятность того, что коммуникация будет
сильно затруднена. Например, если в семье четко не определено, кто будет гулять
с собакой, то дети, опираясь на свои собственные представления о
справедливости, будут вечно спорить об этом.
Или же в семье действуют запреты на обсуждение некоторых тем.
В. Сатир определяет четыре момента, которые характеризуют свободу слова, что при диагностике также можно обсуждать (Са
тир, 2007).
— Что вы можете сказать по поводу того, что вы видите и слышите?
То есть может ли любой член семьи выразить вслух и прямо любые свои чувства: страх, беспомощность, раздражение, потребность в любви и заботе, агрессию и т.д.?
— Кому вы можете это сказать?
То есть может ли один член семьи высказать претензию любому другому члену семьи или не всем? Может ли ребенок потребовать соблюдения правил от взрослого человека?
— Как вы будете реагировать, если с чем-то не согласны?
— Как вы зададите вопрос, если чего-то не поняли? (А вы его зададите?)
То есть может ли любой член семьи спросить о том, что его волнует или что-то непонятно?
Если в семье не принято открыто обсуждать правила, то часты случаи, когда все должны догадываться о том, что транслирует тот или иной член семьи. Например, отец ходит по квартире мрачный
и молчит. Мать ничего у него не спрашивает и делает вид, что ничего не происходит. Ребенок гадает, отчего молчит отец и тоже ни о чем его не спрашивает. Напряжение растет, но никто не обсуж
дает тяжелую атмосферу в доме. Так может продолжаться неделями. Подобные способы коммуникации формируют низкую самооценку, так как ребенок никогда точно не знает, является ли он источником недовольства или раздражения, и не может об этом
спросить. И если даже спросит, то вряд ли получит правдивый ответ. Скорее всего, ему скажут что-то вроде: «Я очень устал на работе...» — скосят глаза и покачают головой укоризненно, всем своим видом показывая, что это неправда, а дело совсем в другом и вина, скорее всего, лежит на том, кто спрашивает.
2. Парадоксальные сообщения, т.е. сообщения, которые противоречат друг другу. Например, мать говорит ребенку: «Иди играй с детьми. Куда ты пошел? Стой здесь!» Человек, попадающий
в ситуацию «двойной ловушки», получает одновременно два предписания, и на какое бы сообщение он ни реагировал, его реакция в другой части требования будет неверной. Избегая этой «двойной ловушки», ребенок может поступить парадоксальным обра
зом — залезть на дерево. Или аутизироваться, или выдать какую- нибудь другую реакцию. И любая его реакция будет воспринята как неадекватная. Один из самых распространенных случаев двойной ловушки — это требования родителей к подростку стать самостоятельным и отвечать за свою жизнь, в то же время в корне пресекая всякие его попытки совершить малейший шаг самостоятельно (Вацлавик и др., 2000; Палаццоли и др., 2002; Хейли, 1998; Бейтсон и др., 1993).
3.
![]() Смешение
контекстов, когда в коммуникативном процессе перемешивается аспект содержания и
аспект взаимоотношений (Watzlawick, 1967). То есть когда предмет спора сам по
себе не важен, а при помощи спора о предмете выясняются взаимоотношения.
Например, споря о том, что нужно надеть ребенку на голову: кепку или шапку,
родители на самом деле выясняют, кто из них будет устанавливать правила, а кто
им следовать. Если исчезает один предмет спора, то тут же появляется другой.
Смешение
контекстов, когда в коммуникативном процессе перемешивается аспект содержания и
аспект взаимоотношений (Watzlawick, 1967). То есть когда предмет спора сам по
себе не важен, а при помощи спора о предмете выясняются взаимоотношения.
Например, споря о том, что нужно надеть ребенку на голову: кепку или шапку,
родители на самом деле выясняют, кто из них будет устанавливать правила, а кто
им следовать. Если исчезает один предмет спора, то тут же появляется другой.
4. Усиление, нарастание симметричной или комплементарной коммуникации.
При симметричной коммуникации если один оскорбил другого в запальчивости, то другой тоже оскорбил, первый еще больше выругался, второй ответил тем же... Далее по нарастающей так
доходят в семьях до драк и убийств.
При комплементарном способе на оскорбление одного — другой молчит и никак не отвечает, первый еще больше оскорбляет, второй опять не реагирует и т.д. Если не ставят преград, то можно продолжать. Так развивается насилие.
Еще один динамический параметр диагностики семейной системы — это мифы. «Семейный миф — определенное неосознаваемое соглашение между членами семьи, поддерживающее семейное единство, формирующее образ семьи, семейное самосознание,
семейную идентичность, регулирующее семейные правила, опре
деляющее характер коммуникаций» [88, с. 168].
Рассмотрим наиболее распространенные мифы [11]:
Миф «Мы — дружная семья». Невозможность открытых конфликтов, все должны быть едины и добры друг к другу. «Тот, кто не с нами, тот против нас» — так можно охарактеризовать прави
ло такой семьи. Если появляется бунтарь, то семейная система его изгоняет. Поэтому открытый бунт невозможен и в семье появляется идентифицированный пациент. Типичными проблемами такой семьи являются тревожно-депрессивные расстройства, анорексия, агрессивное поведение.
Миф о спасителе (который все время спасает одного или всех членов семьи). Распространен в семьях алкоголиков. Способствует появлению беспомощных и больных в системе. Если все здоровы, то некого спасать и спаситель оказывается не у дел, у него теряется смысл жизни.
Миф о героях. Распространен в семьях, где история семьи связана с преодолением трудностей, войной, героическим прошлым. В таких семьях все как в кино: великие деяния, всеобъемлющие чувства, страсти и метания. Членам такой семьи трудно жить простой жизнью, заниматься каждодневными рутинными делами. Реальная жизнь скучная и серая.
Мифы — это мощный стабилизатор семейной системы, то, что помогает держаться членам семьи вместе, что способствует единению. Фактически это высшая вера и твердая почва под ногами. Когда разрушается семейный миф, земля уходит из-под ног, теряется ощущение опоры.
Стабилизаторы — это факторы, скрепляющие систему, то, что позволяет людям быть вместе. Стабилизаторами могут быть некие внутренние представления, внешние события, мифы, общие интересы, материальное благополучие и т.д. Стабилизаторами могут быть и болезни и дисфункциональность одного из членов семьи. Мы уже рассматривали «полезность» симптома у ребенка (как и у любого другого члена семьи) для сохранения системы.
4.5.4. Исторические (генетические) параметры
![]() История
семьи включает в себя не только события, которые происходили в данной ядерной
семье, но также и историю семей каждого из супругов. В школьном
консультировании мы редко имеем дело с генетическими параметрами. Мы редко
используем в диагностике генограмму,
которая позволяет проследить историю становления каждого рода и проследить
определенные закономерности в этих семьях. Тем не менее учитывать возможные
межпоколенные передачи нужно.
История
семьи включает в себя не только события, которые происходили в данной ядерной
семье, но также и историю семей каждого из супругов. В школьном
консультировании мы редко имеем дело с генетическими параметрами. Мы редко
используем в диагностике генограмму,
которая позволяет проследить историю становления каждого рода и проследить
определенные закономерности в этих семьях. Тем не менее учитывать возможные
межпоколенные передачи нужно.
Например, передающийся из поколения в поколение по женской линии рак. Естественно, следует предположить, что у матери есть такой страх, и у ребенка страх скорой смерти матери вероятнее всего будет присутствовать. Или повторяющаяся история о муже, ушедшем из семьи. Или об алкоголизации всех старших мужчин в семье по линии отца и т.д.
О генограмме подробно рассказано в книге «Теория семейных систем Мюррея Боуэна» и в работе А. В. Черникова «Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики».
186
![]() Сразу
следует оговорить, что диагностику школы как организации мы проводим не в целях
исследования и не в целях последующих рекомендаций руководству, а в целях
понимания процессов, происходящих в данной школе, для облегчения диагностики,
связанной с конкретными проблемами. Часто бывает, что проблема, которую
связывают с каким-то конкретным человеком, на самом деле является проблемой
организации, а поведение человека может выполнять как стабилизирующую функцию в
системе, так и выступать симптомом, указывающим на неблагополучие. В первом
случае любое вмешательство в системное функционирование приведет к
дестабилизации организации или же к выталкиванию чуждого элемента — в данном
случае психолога — из системы, во втором — психолог-консультант имеет
возможность работать с симптомом. Для успешной работы в контексте организации
психолог-консультант должен понимать основные моменты, касающиеся распределения
власти и обязанностей в школе, иерархиче
Сразу
следует оговорить, что диагностику школы как организации мы проводим не в целях
исследования и не в целях последующих рекомендаций руководству, а в целях
понимания процессов, происходящих в данной школе, для облегчения диагностики,
связанной с конкретными проблемами. Часто бывает, что проблема, которую
связывают с каким-то конкретным человеком, на самом деле является проблемой
организации, а поведение человека может выполнять как стабилизирующую функцию в
системе, так и выступать симптомом, указывающим на неблагополучие. В первом
случае любое вмешательство в системное функционирование приведет к
дестабилизации организации или же к выталкиванию чуждого элемента — в данном
случае психолога — из системы, во втором — психолог-консультант имеет
возможность работать с симптомом. Для успешной работы в контексте организации
психолог-консультант должен понимать основные моменты, касающиеся распределения
власти и обязанностей в школе, иерархиче
ской структуры, особенностей коммуникации, истории создания школы и т. д.
Диагностику организации следует проводить по таким же параметрам, как и семейную диагностику: структурным, динамическим и историческим.
Структурные параметры диагностики школы как организации. Ранее мы уже определили подсистемы, которые будем выделять в школьной организации. Далее нас интересуют такие параметры, как границы, коалиции, иерархия, сплоченность и гибкость.
Диагностику любой организации полезно начинать с построения органиграммы, т. е. со структурной схемы. Построение органиграммы позволяет выявить тип организационной структуры, нарушения в иерархии, коалиции, проблемы распределения функ
ций и должностей и т.д.
Существуют различные типы организационной структуры.
Наиболее часто встречающиеся — линейная, функциональная, проектная и матричная. При линейной структуре существует строгая иерархия, характеризующаяся разделением зон ответственности и единоначалия. Функциональная структура строится по принципу распределения функций внутри организации, и чаще всего существует одновременно с линейной. Проектная струк
тура представляет собой временное объединение специалистов внутри организации, которая создается для решения конкретной задачи. Матричная структура характерна для организаций, для которых проектная форма постоянна [подробнее см.: 82, гл. 11; 26, гл. 6].
В школе все эти структуры, кроме матричной, обычно представлены и дополняют друг друга. У каждой из структур имеются как свои достоинства, так и недостатки. При четкой структурной организации особых проблем обычно не возникает.
Трудности организационного порядка начинают появляться при следующих структурных нарушениях:
1)
![]() двойное
подчинение либо по должностной, либо по функциональной линии. Это означает,
что в организации появляется еще одна должность, которая дублирует зону
ответственности и зону контроля. Например, в частной школе устанавливается
должность директора по организационным вопросам, которая дублирует должность
завуча по учебным вопросам. По властным полномочиям они идентичны. Или, что
чаше бывает в школах, одни и те же функции выполняют два человека: например, за
эстетическое воспитание учащихся всей школы отвечают и завуч начальной школы и
завуч по воспитательной работе. Результатом такого
двойное
подчинение либо по должностной, либо по функциональной линии. Это означает,
что в организации появляется еще одна должность, которая дублирует зону
ответственности и зону контроля. Например, в частной школе устанавливается
должность директора по организационным вопросам, которая дублирует должность
завуча по учебным вопросам. По властным полномочиям они идентичны. Или, что
чаше бывает в школах, одни и те же функции выполняют два человека: например, за
эстетическое воспитание учащихся всей школы отвечают и завуч начальной школы и
завуч по воспитательной работе. Результатом такого
двойного подчинения могут быть: а) раскол школы на два лагеря, который чреват конфликтами; б) дезорганизация деятельности, которая включает саботаж распоряжений одного или обоих начальников; в) частая смена руководителей высшего (директоров, если это частная школа) и среднего звена (завучей);
2) перевернутая иерархия, когда статус человека, занимающего более низкую должность, выше, чем статус его непосредственного руководителя. Например, в школе завуч по учебной работе имеет больший вес, чем директор. В таком случае власть в школе ослаб
лена, что также порождает массу организационных проблем;
3) образование коалиций поперек уровней организации. Например, директор образует коалицию с учителями против завуча, завуч с родителями против учителя, учитель с учениками против завуча и т.д. При этом нарушается иерархия, так как некоторые члены низшего звена приобретают большую власть и влияние, чем их непосредственные руководители. Помимо возникающего хаоса в управлении такое положение провоцирует конфликты, деструкцию деятельности, потерю общей цели обучения и воспитания;
4) расширение управленческого аппарата. Создаются должности, которые функционально не нагружены. Человек имеет высокий статус по должности, но у него нет ни зоны ответственности, ни зоны контроля. На таком месте человек чувствует себя ненужным и начинает искать себе область применения: вмешивается в работу других руководителей, пытается создать новые проекты и т.д.;
5) перегруженность должности функциональными обязанностями. Один человек совмещает функции нескольких должностей. Например, завуч по учебной работе выполняет еще и функции социального педагога и председателя методобъединения школы.
188
Естественно, большинство совмещенных функций не выполняются.
![]() Что
касается границ
любой организации, то всегда встает вопрос о том, что включать в
организационную систему, а что нет. Нужно ли включать семьи и социальные и
юридические службы? Здесь нет четких правил, мы будем определять систему в том
составе, в котором определили ранее. Социальные и другие службы в школьную
систему мы включать не будем, а семьи — только как родительскую подсистему,
осуществляющую контроль за учением ребенка вне школьного времени.
Что
касается границ
любой организации, то всегда встает вопрос о том, что включать в
организационную систему, а что нет. Нужно ли включать семьи и социальные и
юридические службы? Здесь нет четких правил, мы будем определять систему в том
составе, в котором определили ранее. Социальные и другие службы в школьную
систему мы включать не будем, а семьи — только как родительскую подсистему,
осуществляющую контроль за учением ребенка вне школьного времени.
Поэтому нас прежде всего интересуют внутренние границы между подсистемами, а именно то, каким образом осуществляется обмен между подсистемами, насколько они проницаемы.
Если в н у т р е н н и е г р а н и ц ы ж е с т к и е и н е п р о н и ц а е м ые, то в школе могут быть следующие проблемы:
1) руководство не в курсе нужд и потребностей коллектива. Отсюда большой разрыв между формальными приказами и реальной жизнью;
2) учителя не имеют возможности своевременно высказывать свои претензии и пожелания. Отсюда может возникать саботаж распоряжений начальства;
3) родители не имеют свободного доступа к учителям. Отсюда не координированные действия родителей и учителей, накапливающиеся недоговоренности и недовольство учителей и родителей друг другом. Может быть большое количество жалоб в вышестоящие инстанции, что также способствует отчуждению;
4) отсутствие контакта учителей и учеников, работа в большей степени формализована.
При д и ф ф у з н ы х г р а н и ц а х , что наиболее распространено в школе, часто встречаются следующие проблемы:
1) панибратство между учителями и учениками. Иногда нарушение границ путают с любовью учеников к своему учителю. Однако панибратское обращение детей к учителю не означает любви, а скорее свидетельствует о пренебрежении. Особенно подросткам присуще постоянно проверять границы взрослого человека, и эти границы следует выдерживать очень жестко;
2) развитие переносов и контрпереносов. Между учениками и учителями, между руководством и учителями, между родителями и учителями, и т.д. во всех возможных вариантах;
3) смешение контекстов. Это явление не сразу поддается идентификации, так же как и перенос и контрперенос. Смешение контекстов означает, что семейный контекст переплетается с рабочим. В рабочее пространство привносятся нерешенные семейные проблемы. Например, у учительницы трудно складываются отношения с сыном-подростком. На рабочем месте она решает проблему со своим сыном через усиленное включение в жизнь похожих подростков: уделяет им массу своего свободного времени, приглашает домой, ходит к ним в семьи, активно вмешивается в воспитание и т.д.;
4) смешение человека и функции. У каждого в организации есть свои функциональные обязанности, определяемые должностью. Организация отличается от семейной системы тем, что это прежде всего группа функций или позиций. При диффузных границах в школе часто путают функцию и человека, общаются на рабочие темы с человеком, а не с функциональным работником. Отсюда масса межличностных и рабочих проблем: обиды на требования, невыполнение должностных обязанностей, попытки решить проблемы неформальным путем и т.д.;
5) выполнение за кого-то его работы. «По дружбе», добровольно выполняют функциональные обязанности другого человека. В результате, не получая за э то должного признания и вознаграждения, человек начинает чувствовать себя обманутым, теряет силы и интерес к работе. Мы поместили данный пункт в организационные проблемы, а не в личные, поскольку данная проблема характерна для организации с диффузными границами и является частью общей симптоматики нарушения иерархической структуры.
Структура организации оказывает влияние и на гибкость организации, т. е. на то, каким образом школа реагирует на изменения в окружающей среде, и на то, как она приспосабливается к неизбежным изменениям, связанным с внутренним развитием. Поскольку для школы наиболее типична линейно-функциональная структура, гибкость обеспечивается, во-первых, гибкостью руководителя и, соответственно, гибкостью руководящего состава, а во-вторых, развитием в школе проектных форм, наиболее мобильных для решения конкретных задач.
Говоря о сплоченности как об еще одной характеристике, необходимой для диагностики школы как организации, мы можем говорить лишь о сплоченности той или иной группы внутри шко
![]() лы или о сплоченности внутри
подсистем, поскольку одним из факторов, способствующих групповой сплоченности,
выступает относительно небольшой объем группы. Сплоченность как «характеристика
системы внутригрупповых связей, показывающая степень совпадений оценок,
установок и позиций группы по отношению к объектам, людям, идеям, событиям,
наиболее значимым для группы в целом» [40, с. 231], отражает общую
организационную культуру. Здесь можно только отметить, что проблемы,
возникающие на более высоком уровне руководства, всегда повторяются на более
низких уровнях. Например, если руководством школы чей-то вклад не признается,
кто-то из завучей находится
лы или о сплоченности внутри
подсистем, поскольку одним из факторов, способствующих групповой сплоченности,
выступает относительно небольшой объем группы. Сплоченность как «характеристика
системы внутригрупповых связей, показывающая степень совпадений оценок,
установок и позиций группы по отношению к объектам, людям, идеям, событиям,
наиболее значимым для группы в целом» [40, с. 231], отражает общую
организационную культуру. Здесь можно только отметить, что проблемы,
возникающие на более высоком уровне руководства, всегда повторяются на более
низких уровнях. Например, если руководством школы чей-то вклад не признается,
кто-то из завучей находится
100
на периферии управленческой деятельности, то можно с уверенностью сказать, что точно такие же проблемы будут возникать и на уровне учителей: в школе среди учителей будут признаны одни учителя и игнорироваться заслуги других. Если учителя параллельных классов ведут непримиримую борьбу за власть, то дети этих классов будут драться и ненавидеть друг друга. Здоровая конку
ренция превратится в изматывающую борьбу.
«философские и идеологические представления, ценности, убеждения, верования, ожидания, аттитюды и нормы, которые связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами» [26, с. 383], включает в себя динамические и исторические характеристики системы.
Ф. Харрис и Р. Моран п р е д л о ж и л и выделить десять содержательных характеристик, свойственных любой организационной куль
туре [26, с. 388-389]:
1) осознание себя и своего места в организации (в одних культурах ценится сдержанность и сокрытие работником своих внутренних настроений и проблем, в других — поощряется открытость, эмоциональная поддержка и внешнее проявление своих переживаний; в одних случаях творчество проявляется через сотрудничество, а в других — через индивидуализм);
2)
![]() коммуникационная
система и язык общения (использование устной, письменной, невербальной
коммуникации, «телефонного права» и открытости коммуникации варьируется от
организации к организации; профессиональный жаргон, аббревиатуры, язык жестов
специфичен для организаций различной отраслевой, функциональной и
территориальной принадлежности организаций);
коммуникационная
система и язык общения (использование устной, письменной, невербальной
коммуникации, «телефонного права» и открытости коммуникации варьируется от
организации к организации; профессиональный жаргон, аббревиатуры, язык жестов
специфичен для организаций различной отраслевой, функциональной и
территориальной принадлежности организаций);
3) внешний вид, одежда и представление себя на работе_(раз- нообразие униформ, деловых стилей, нормы использования кос
метики, духов, дезодорантов и т.п.);
4) привычки, традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи (как организовано питание работников в организации, включая наличие или отсутствие столовых и буфетов; участие организации в оплате расходов на питание; периодичность и продолжительность питания; совместно или раздельно организовано питание работников с разным организационным статусом и т.п.);
5) осознание времени, отношение к нему и его использование (восприятие времени как важнейшего ресурса или пустая трата времени, соблюдение или постоянное нарушение временных параметров организационной деятельности);
6) взаимоотношения между людьми (влияние на межличностные отношения таких характеристик, как возраст, пол, национальность, статус, объем власти, образованность, опыт, знания и т.д.; соблюдение формальных требований этикета или протокола; степень формализации отношений, получаемой поддержки, приня
тые формы разрешения конфликтов);
7) ценности и нормы (первые представляют собой совокупности представлений о том, что — хорошо, а что — плохо; вторые — набор предположений и ожиданий в отношении определенного типа поведения);
8) мировоззрение (вера/отсутствие веры в справедливость, успех, свои силы, руководство; отношение к взаимопомощи, к этичному или недостойному поведению, убежденность в наказуемости зла и торжестве добра и т. п.);
9) развитие и самореализация работника (бездумное или осознанное выполнение работы; опора на интеллект или силу; свободная или ограниченная циркуляция информации в организации; признание или отказ от рациональности сознания и поведения людей; творческая обстановка или жесткая рутина; признание ограниченности человека или акцент на его потенциале к росту);
10) ![]() трудовая этика и
мотивирование (отношение к работе как к ценности или повинности;
ответственность или безразличие к результатам своего труда; отношение к своему
рабочему месту; качественные характеристики трудовой деятельности; достойные и
вредные привычки на работе; справедливая связь между вкладом работника и его
вознаграждением; планирование профессиональной карьеры работника в организации).
трудовая этика и
мотивирование (отношение к работе как к ценности или повинности;
ответственность или безразличие к результатам своего труда; отношение к своему
рабочему месту; качественные характеристики трудовой деятельности; достойные и
вредные привычки на работе; справедливая связь между вкладом работника и его
вознаграждением; планирование профессиональной карьеры работника в организации).
Некоторые правила в школе носят негласный характер, другие прописаны в различных документах, озвучиваются на педсоветах и собраниях школы. Декларируемые правила иногда расходятся со скрытыми, что приводит к феномену двойных посланий, хорошо известному нам по характеристикам семейной сис
темы.
Необходимо помнить, что в школьной системе, так же как и в семейной, существует метауровень, который отражает предыдущие отношения, сложившиеся в данном коллективе. Следует помнить и о том, что любое действие, так же как и его отсутствие, является актом коммуникации. К примеру, отсутствие какой-либо видимой реакции администрации на шумную ссору учителей в присутствии родителей и учеников является важнейшим сообщением всему кол
лективу, скажем, о том, что администрация отказывается улаживать данный конфликт и что даже подобные демонстративные методы не заставят директора обратить внимание на этот конфликт.
Или: в какой-то момент учителей в школе перестали бесплатно кормить обедами. Это реакция администрации на жалобу, поступившую в вышестоящую инстанцию, где описывались нарушения
192
администрации по отношению к учителям. Администрация в лице
директора таким образом наказала всех учителей, ясно дав понять, что каждое подобное событие будет жестко наказываться.
Для психолога-консультанта любое событие является индикатором процессов, происходящих в школе. Рассматривая отдельный случай, необходимо раскручивать всю цепочку событий, приведших к подобному коммуникативному акту. Здесь также обнаруживается круговая причинность, где нет правых и виноватых, а есть некие действия, направленные на стабилизацию системы.
![]() Если
в семейной системе члены семьи тесно и навсегда связаны между собой
родственными узами, то в организации тот, кто не сумел принять правила, нормы,
способы коммуникации данной системы, будет ею изгнан. Система не примет
элемент, реально угрожающий ее целостности. Если же человек долгое время
находится в организации, несмотря на его, например, скандальный характер, то
значит, он системе нужен и выполняет функцию стабилизатора.
Если
в семейной системе члены семьи тесно и навсегда связаны между собой
родственными узами, то в организации тот, кто не сумел принять правила, нормы,
способы коммуникации данной системы, будет ею изгнан. Система не примет
элемент, реально угрожающий ее целостности. Если же человек долгое время
находится в организации, несмотря на его, например, скандальный характер, то
значит, он системе нужен и выполняет функцию стабилизатора.
Большинство норм и правил школы складываются постепенно в ходе становления школы и закладываются с момента ее основания. Чем старее школа, тем устойчивее ее традиции и консервативнее правила, со временем они превращаются в мифы. Чем моложе — тем гибче структура, а следовательно, и неустойчивее правила, они могут меняться, приспосабливаясь к действительности.
Поэтому психологу-консультанту, впервые пришедшему в школу, необходимо выяснить для себя следующие исторические параметры.
1. Когда и как возникла школа? Кто был основатель (если есть) или первый директор? Что послужило основанием для ее откры
тия?
2. Как она задумывалась (как частная, специальная, профильная и т.д.)? Что изменилось в ее статусе за годы существования?
3. Какие важнейшие события произошли за последние годы (расширение, слияние, перепрофилирование, переезд, смена директора, завучей и т.д.).
4. Сколько руководителей сменилось, как часто они сменялись, по какой причине уходили?
5. Кто из учителей работает дольше всех, кто недавно пришел? Каково отношение к старейшим учителям, к молодежи? Кому отдается приоритет?
6. Кто из нынешних учителей ранее был в руководстве? Как давно произошла смена руководства?
7. Сколько учителей ушло из школы за последнее время, сколько пришло, с чем связаны уходы?
![]() Иногда
события далекого прошлого имеют непосредственное отношение к настоящему школы.
Например, первым директором школы был заслуженный учитель СССР. Он буквально по
крупицам собирал мебель для школы, так как школу открыли в новом районе и
средств не хватало. Все учителя с энтузиазмом помогали ему в этом. Этот
директор, создав лучшую в городе школу и прослужив в ней бессменно 30 лет, умер
прямо в своем кабинете. Его имя превратилось в легенду, и в памяти сохранился
образ сурового, но справедливого руководителя, который к каждому подходил с
меркой его вклада в общее дело. Так был создан миф школы. Когда
Иногда
события далекого прошлого имеют непосредственное отношение к настоящему школы.
Например, первым директором школы был заслуженный учитель СССР. Он буквально по
крупицам собирал мебель для школы, так как школу открыли в новом районе и
средств не хватало. Все учителя с энтузиазмом помогали ему в этом. Этот
директор, создав лучшую в городе школу и прослужив в ней бессменно 30 лет, умер
прямо в своем кабинете. Его имя превратилось в легенду, и в памяти сохранился
образ сурового, но справедливого руководителя, который к каждому подходил с
меркой его вклада в общее дело. Так был создан миф школы. Когда
директор умер, в школу стали присылать молодых и не очень молодых новых директоров, но ни один не смог ужиться со старой гвардией, свято чтившей память старого директора. Через несколько лет уникальная школа превратилась в коллектив, где основной
деятельностью стала борьба за власть, борьба старого с новым,
консервативного с прогрессивным.
1. Какие аспекты включает в себя выполнение диагностической задачи?
2. Какова основная задача психодиагностики? Какие два подхода обычно используются для достижения этой задачи?
3. Каким образом объясняет поведение человека системный подход? Какая взаимосвязь между явлениями рассматривается в системном подходе: причинно-следственная или круговая?
4. Перечислите основные принципы системного подхода.
5. Что такое гомеостаз и каким образом он обеспечивается системой?
6. Чем живые системы отличаются от неживых?
7. Каковы сущностные характеристики открытой системы?
8. Перечислите принципы работы психолога при системном подходе.
9. Дайте определение подсистемы. Какие подсистемы выделяются в школе?
10. Как определяется проблема при системном подходе? Каковы ее особенности?
11. Каковы общие способы решения проблемы при системном подходе?
12. Что такое идентифицированный пациент и какие функции он выполняет в семейной системе?
13. Перечислите симптомы, указывающие на неблагополучие в организации.
14. Какие параметры рассматриваются при диагностике системы? Охарактеризуйте каждый из них.
15. В чем заключается интегративная модель диагностики семьи, предложенная А. В. Черниковым?
16. Что включает в себя структура семьи?
17. Опишите тест Геринга. Когда и с кем он может использоваться.
Какие существуют варианты его использования?
18. На что направлена анкета «семейные роли»?
19. Сколько выделено уровней сплоченности в семейной системе? Чем характеризуется каждый уровень?
20. Чем определяется семейная гибкость?
21. Что такое дифференциация
22. Какую систему можно назвать ригидной?
23. Перечислите типы структур, выделенные Олсоном. Чем характеризуется каждый тип?
24. Перечислите стадии жизненного цикла российской семьи. Расскажите подробно о стадиях, в которых фигурирует наличие несовершеннолетних детей.
25. Что такое парентификация и в чем она выражается? Как можно распознать парентифицированного ребенка?
26. Какие психологические последствия могут иметь для ребенка порядок его рождения в семье?
27. С чем может быть связан подростковый бунт (с точки зрения стадий жизненного цикла семьи)?
28. Перечислите нарушения иерархического порядка в семье.
29. Когда создание коалиций становится дисфункциональным?
30. Какими бывают паттерны коммуникации?
31. Перечислите ошибки коммуникации в семейной системе.
32. Что такое семейный миф и какие мифы наиболее распространены?
33. Что включают в себя исторические параметры семейной системы?
34. Какие структурные параметры выделяются при диагностике организации?
35. Перечислите типы организационных структур. Чем они принципиально отличаются друг от друга?
36. При каких структурных нарушениях начинают появляться трудности организационного порядка?
37. Какие проблемы могут возникать в школе при жестких и непроницаемых внутренних границах?
38. Какие проблемы могут возникать при диффузных границах?
39. Каким образом в школе обеспечивается гибкость организации?
40. Что такое организационная культура?
41. Перечислите содержательные характеристики организационной культуры.
42. Какие исторические параметры необходимо выяснить психологу- консультанту, впервые пришедшему в школу?
![]() ■
Выполните упражнение на определение контекста проблемы. Ра бота в парах. Один
участник — клиент, другой — консультант. Потом они меняются ролями. Клиент
рассказывает свою проблему как «посетитель». Консультант определяет контекст
проблемы, задавая системные вопросы: 1) о том, что является проблемой; 2) о
видении проблемы; 3) об околопроблемном взаимодействии; 4) об объяснении
проблемы; 5) о значении проблемы для отношений.
■
Выполните упражнение на определение контекста проблемы. Ра бота в парах. Один
участник — клиент, другой — консультант. Потом они меняются ролями. Клиент
рассказывает свою проблему как «посетитель». Консультант определяет контекст
проблемы, задавая системные вопросы: 1) о том, что является проблемой; 2) о
видении проблемы; 3) об околопроблемном взаимодействии; 4) об объяснении
проблемы; 5) о значении проблемы для отношений.
■ Выполните упражнение на формулирование гипотез. Сформулируйте все возможные гипотезы по следующему случаю.
К школьному психологу обратилась мама мальчика 16 лет с тем, что он внезапно прекратил учиться, ничего не делает, стал получать двойки. Ее очень волнует подобное положение дел, так как это выпускной класс, сыну надо поступать в институт. Из контекста выяснилось, что подросток всегда учился хорошо, а когда у него возникали трудности, то ему помогал старший брат, который закончил школу с золотой медалью и сейчас уже закончил вуз и устроился на хорошее место.
![]() Выяснилось также, что мать воспитывает
мальчиков одна, что муж у нее умер, когда младшему сыну был год, а старшему 10
лет. Мать посвятила свою жизнь детям, никогда не задумывалась о том, чтобы
вторично выйти замуж. Старший сын всегда помогал ей. Он был ей опорой и
поддержкой на протяжении многих лет. Два месяца назад старший сын начал снимать
квартиру, так как у него появилась девушка, с которой у него серьезные
отношения. Он редко стал приезжать домой. Это первая девушка, с которой у него
серьезные отношения, она хорошая девушка, но происходит из неблагополучной
семьи, и мать беспокоится о возможных наследственных факторах. Она ничего не
говорит сыну, только постоянно обсуждает эту проблему с младшим сыном, не
скрывая своего волнения и беспокойства. Конечно, когда она просит, старший сын
не отка
Выяснилось также, что мать воспитывает
мальчиков одна, что муж у нее умер, когда младшему сыну был год, а старшему 10
лет. Мать посвятила свою жизнь детям, никогда не задумывалась о том, чтобы
вторично выйти замуж. Старший сын всегда помогал ей. Он был ей опорой и
поддержкой на протяжении многих лет. Два месяца назад старший сын начал снимать
квартиру, так как у него появилась девушка, с которой у него серьезные
отношения. Он редко стал приезжать домой. Это первая девушка, с которой у него
серьезные отношения, она хорошая девушка, но происходит из неблагополучной
семьи, и мать беспокоится о возможных наследственных факторах. Она ничего не
говорит сыну, только постоянно обсуждает эту проблему с младшим сыном, не
скрывая своего волнения и беспокойства. Конечно, когда она просит, старший сын
не отка
зывает ей в помощи, но сейчас это происходит очень редко. А тут еще младший сын вздумал влюбиться, и это уже совсем никуда не годится,
так как сейчас ему надо думать об учебе, а не о какой-то там любви. Кроме того, классный руководитель в классе сына никогда ей не нравилась, и в девятом классе у них был крупный конфликт, который дошел аж до РОНО, тогда они победили, но при любом удобном случае учительница мстит мальчику.
■ Проведите диагностику собственной семьи:
1) определите структуру своей семьи, ответив на вопросы, представленные в тексте. Какие в вашей семье подсистемы? Насколько сильна эмоциональная связь между членами семьи? Насколько жесткие или проницаемые границы в вашей семье? Кто обычно принимает решения в вашей семье? Какие существуют негласные правила в вашей семье? По
думайте, в чем может лежать источник напряжения в вашей семье (если оно есть);
2) проведите тест Геринга на примере вашей семьи. Какие неожиданные вещи вам открылись? Что вам виделось иначе? На что вы обратили внимание? Что требует дальнейшего изучения?
3) проведите анкету «семейные роли» на примере вашей семьи. Проанализируйте полученный результат. Кто из членов семьи играет наиболее важные роли? Как это принимается другими членами семьи? Кто играет наименее важные роли? Устраивает ли каждого члена семьи его роль? Как вы относитесь к своей роли в семье?
4) сведите воедино всю полученную по трем методикам информацию и структурируйте ее в соответствие с моделью Олсона.
■ Подумайте, какие могут быть слабые звенья в семье, состоящей из мамы, бабушки и ребенка.
196
![]()
![]() Курт
Людевиг выделил четыре вида помощи, которые классифицируются по видам оказания
помощи, направленных на устранение определенных причин страданий [по: 94, с.
128]: вступительные рекомендации, консультирование, сопровождение (поддержка),
терапия. А. Шлиппе и Й.Ш вайтцер добавили пятый вид — открытие самого себя.
Курт
Людевиг выделил четыре вида помощи, которые классифицируются по видам оказания
помощи, направленных на устранение определенных причин страданий [по: 94, с.
128]: вступительные рекомендации, консультирование, сопровождение (поддержка),
терапия. А. Шлиппе и Й.Ш вайтцер добавили пятый вид — открытие самого себя.
П е р в ы й в и д п о м о щ и — вступительные рекомендации.
Т ип з а п р о с а — «Помоги нам расширить наши возможности!»
Причина страдания — отсутствие или недостаток навыков.
Вид оказания помощи — предоставление познаний.
Длительность — без ограничений.
В т о р о й вид п о м о щ и — консультирование.
Т и п з а п р о с а — «Помоги нам использовать наши возможности!»
Причина страдания — внутреннее блокирование системы.
Вид оказания помощи — поддержка или стимулирование имеющихся структур.
Длительность — ограниченно, в зависимости от объема заказа.
Т р е т и й в и д п о м о щ и — сопровождение (поддержка).
Т и п з а п р о с а — «Помоги нам перенести наше положение!»
Причина страдания — проблемная ситуация, которую невозможно изменить.
Вид оказания помощи — стабилизация системы с помощью «структуры со стороны».
Длительность — без ограничений.
Ч е т в е р т ы й в и д п о м о щ и — терапия.
Т и п з а п р о с а — «Помоги нам покончить с нашим страданием!»
Причина страдания — проблемная ситуация, которую можно изменить.
Вид оказания помощи — вклад в решение или распад проблемной системы.
Длительность — ограниченная и запланированная как конкретное задание.
П я т ы й в и д п о м о щ и — открытие самого.
Т ип з а п р о с а — «Помоги мне лучше познать себя!» Причина страдания — отсутствие острого давления проблем.
Вид оказания помощи — предоставление компетентной терапевтической помощи.
Длительность — без ограничений, в рамках свободной договоренности.
Ранее уже говорилось, что первоначальной задачей любого психолого-консультативного процесса является точное определение не только проблемы, но и того вида помощи, который клиент ожидает от консультанта. Поэтому рекомендуется не торопиться и тщательно выявить запрос клиента.
Выявление запроса подробно описано в главе 1. Здесь же обратим внимание на некоторые тонкости.
1. Не стоит останавливаться на глобально представленных запросах, любая глобальная проблема имеет вполне конкретный аспект, который наиболее болезнен в данное время и в данном кон
тексте. Следует идти от общего к частному и обязательно находить конкретные случаи, которые, собственно, и подвигли клиента на
обращение к психологу.
2. Следует обязательно интересоваться периодичностью подобных травмирующих случаев в жизни клиента, их повторяемостью.
Так выявляется проблемная зона.
3. Работать лучше всего с конкретным случаем, недавно произошедшим и эмоционально затрагивающим в настоящее время. Даже если это повторяющиеся, типичные ситуации, нужно выбрать одну, конкретную.
4. Работать нужно только с запросом клиента на конкретный вид помощи, не затрагивая без разрешения другие проблемные зоны.
![]() П
е р в ы й в и д п о м о щ и — вступительные рекомендации, который отвечает на
запрос «Помоги нам расширить
наши возможности!», очень часто встречается в школьном
консультировании и используется при работе с любой категорией клиентов.
Характеризуется предоставлением знаний по различным психологическим вопросам: о
возрастных особенностях детей, о физиологических процессах подросткового
организма, о различных видах общения, о структуре личности и о многом-многом
другом. Очень часто подростки приходят к психологу именно за этим знанием.
Родителям также важно получить некие обобщенные, стандартизированные сведения о
некоторых психических явлениях. Это, по сути, знакомство с психологией как
сферой науки и практики.
П
е р в ы й в и д п о м о щ и — вступительные рекомендации, который отвечает на
запрос «Помоги нам расширить
наши возможности!», очень часто встречается в школьном
консультировании и используется при работе с любой категорией клиентов.
Характеризуется предоставлением знаний по различным психологическим вопросам: о
возрастных особенностях детей, о физиологических процессах подросткового
организма, о различных видах общения, о структуре личности и о многом-многом
другом. Очень часто подростки приходят к психологу именно за этим знанием.
Родителям также важно получить некие обобщенные, стандартизированные сведения о
некоторых психических явлениях. Это, по сути, знакомство с психологией как
сферой науки и практики.
Знания предоставляются в виде рассказов, но не рекомендаций или советов. Как простой пересказ умных книжек.
П р и м е р . К психологу пришла девочка-подросток, с жалобой на свою подружку, с которой они дружили с первого класса, а теперь рассорились и стали постоянно конфликтовать. Подружка,
узнав о ее посещении психолога, также попросилась на консультацию. Психолог пригласил их обеих. Обе девочки стали жаловаться на то, что они стали ссориться по пустякам, что раньше у них все было общее, не было секретов друг от друга, они всегда понимали друг друга с полуслова. Каждая винила в возникших разногласиях другую, и обе обижались, считая себя правыми.
Психолог не стал разбираться в конфликте, а рассказал девочкам о том, что они начали взрослеть и сейчас для каждой из них начался период самоидентификации, т.е. период поиска себя как
личности. Поэтому они уже не могут быть похожими друг на друга, не могут думать и чувствовать одинаково, они разделяются, и каждая из них становится личностью, со своими потребностями и желаниями. Поэтому э то чудесно, что они оказались такими разными — значит каждая обретает свой путь развития, непохожий ни на чей другой. Совсем не обязательно, что они останутся друзьями, но тот период, который они прожили вместе, очень многое
дал каждой из них.
После этого девочки с помощью психолога стали разбирать, что именно каждая из них получила от другой в результате их союза и
чем каждая отличается от другой. В результате их дружба не сохранилась, но они смогли довольно мирно существовать в одном классе дальше.
В т о р о й т и п п о м о щ и — консультирование, который отвечает на запрос «Помоги нам использовать наши возможно
![]() сти!», также один из самых распространенных
типов помощи в школьном консультировании. Он применяется тогда, когда человек
имеет достаточно ресурсов для решения проблемы, когда он что-то не понимает в
сути проблемы или ситуации, когда он не знает, как преодолеть препятствия и
барьеры. Основная задача в данном типе консультирования — актуализация
имеющегося потенциала и обеспечение понимания сути проблемы и препятствий.
сти!», также один из самых распространенных
типов помощи в школьном консультировании. Он применяется тогда, когда человек
имеет достаточно ресурсов для решения проблемы, когда он что-то не понимает в
сути проблемы или ситуации, когда он не знает, как преодолеть препятствия и
барьеры. Основная задача в данном типе консультирования — актуализация
имеющегося потенциала и обеспечение понимания сути проблемы и препятствий.
Шаги, которые здесь нужно предпринять, сводятся к следующему:
1) выбор конкретной ситуации, с которой можно работать (актуальная либо типичная);
2) поиск проблемного звена в ситуации (эмоциональная реакция, поведение). Для некоторых людей слабым звеном является эмоциональная реакция, когда, по образному выражению клиентов, происходит «обвал», т.е. полная дезориентация в происходящем, шквал негативных эмоций. Человек не может справиться с эмоциональным состоянием, теряется и не может предпринять никаких действий, хотя в других случаях он вполне может действовать решительно и успешно. Для других людей — проблемной зоной является собственно действие, т.е. отсутствие определенных поведенческих паттернов. Это чаще всего связано со слабым ро
левым репертуаром;
3) поиск исключений из проблемной ситуации, т.е. поиск таких случаев, когда в подобной же ситуации эмоционального «обвала» не происходило или были использованы какие-либо способы поведения, которые привели к успеху;
4) поиск средств (ресурсов), которые помогли в том конкретном случае не допустить эмоционального срыва или найти адекватный способ поведения;
5) применение найденных средств (ресурсов) к разбираемой ситуации;
6) поиск сдерживающих факторов, если не получается использовать найденные средства, разбор их полезности для проблемы, поиск отличия данной проблемы от успешно решавшейся ранее;
7) выбор; в каких случаях использовать найденный способ, а в каких полезнее оставить старый способ. Признание за старым способом права на существование.
П р и м е р 1. К школьному психологу обратилась учительница литературы, которая пожаловалась на то, что она совершенно теряется при хамстве некоторых людей. При подробном расспрашивании, когда и в каких случаях это бывает, обнаружилось, что на последнем родительском собрании у нее произошел неприятный разговор с папой одной из учениц, когда родитель требовал объяснить ему, на каком основании его дочери поставили в четверти
четверку (шаг 1).
![]() Выяснилось,
что обычно учительница легко справляется с подобными ситуациями, но данная
ситуация отличалась тем, что она была неожиданна; отец девочки ворвался в класс
и с порога стал кричать и обвинять учительницу во всех смертных грехах, причем
мама, которая незадолго до этого была в школе, даже не зашла к учительнице и не
подняла вопрос об отметке. То есть ничто не предвещало столь бурной реакции со
стороны родителя. Выяснилось также, что учительница легко справляется с
агрессией родителей и умеет ей противостоять. Однако фактор неожиданности для
нее всегда был труднопреодолимым. Поэтому психолог-консультант предположил, что
основной проблемой здесь является поведенческий аспект, а именно то, как себя
вести, когда нет времени подумать и подготовиться к атаке. Учительница с данной
постановкой проблемы согласилась и отметила, что это и есть ее основная
трудность в работе с людьми: когда она готова встретить возражения, агрессию,
упреки и т. д., тогда ей очень легко с ними справиться, а когда это для нее
неожиданно, она не знает, как себя вести (шаг 2).
Выяснилось,
что обычно учительница легко справляется с подобными ситуациями, но данная
ситуация отличалась тем, что она была неожиданна; отец девочки ворвался в класс
и с порога стал кричать и обвинять учительницу во всех смертных грехах, причем
мама, которая незадолго до этого была в школе, даже не зашла к учительнице и не
подняла вопрос об отметке. То есть ничто не предвещало столь бурной реакции со
стороны родителя. Выяснилось также, что учительница легко справляется с
агрессией родителей и умеет ей противостоять. Однако фактор неожиданности для
нее всегда был труднопреодолимым. Поэтому психолог-консультант предположил, что
основной проблемой здесь является поведенческий аспект, а именно то, как себя
вести, когда нет времени подумать и подготовиться к атаке. Учительница с данной
постановкой проблемы согласилась и отметила, что это и есть ее основная
трудность в работе с людьми: когда она готова встретить возражения, агрессию,
упреки и т. д., тогда ей очень легко с ними справиться, а когда это для нее
неожиданно, она не знает, как себя вести (шаг 2).
Отвечая на вопросы об исключениях, учительница вспомнила, что раза два в своей жизни она, несмотря на неожиданность ситуации, смогла быстро сориентироваться и ответить в подобной ситуации (шаг 3).
В то время ей помогло одно маленькое обстоятельство: оба раза она вышла из непосредственного контакта. Один раз ее кто-то позвал, и она, извинившись, покинула класс, другой произошел
![]() не в школе, а в магазине,
когда она уронила на пол кошелек и нагнулась, чтобы его поднять. И в том и в
другом случае она получила некоторое время, чтобы прийти в себя. Учительница
вспомнила, что, нагибаясь за кошельком, она вдруг подумала: «А какого черта эта
женщина на меня кричит?» Это позволило ей по-другому взглянуть на ситуацию (шаг
4).
не в школе, а в магазине,
когда она уронила на пол кошелек и нагнулась, чтобы его поднять. И в том и в
другом случае она получила некоторое время, чтобы прийти в себя. Учительница
вспомнила, что, нагибаясь за кошельком, она вдруг подумала: «А какого черта эта
женщина на меня кричит?» Это позволило ей по-другому взглянуть на ситуацию (шаг
4).
В небольшом упражнении, где использовался обмен ролями, учительница вначале показала, как родитель кричал на нее, а потом попробовала выйти из непосредственного контакта: полезла в шкаф за журналом, уронила тетрадки, нагнулась за карандашом, что дало ей необходимую паузу. После этого она смогла спокойно ответить разбушевавшемуся родителю (шаг 5).
В то же время она отметила, что иногда ее растерянность помогает ей в ситуациях, когда она не права. Ее потерянный вид смяг
чает начальство и налагаемые взыскания (шаг 6).
Поэтому учительница решила, что при разговоре с родителями она будет использовать найденный способ, а при взаимодействии с завучем — оставит старый способ (шаг 7).
П р и м е р 2. К психологу обратилась классная руководительница и попросила побеседовать со своей ученицей-пятиклассницей. Учительница была озабочена тем, что эту девочку обижают в классе. Она часто плачет и замыкается в себе. Учительница хотела бы, чтобы девочка научилась себя отстаивать, когда ее обижают, а не плакала.
При разговоре с девочкой выяснили, что девочка плачет только тогда, когда ее обижает вполне определенная девочка и когда это происходит на глазах у всего класса или большей его части (типичная ситуация) (шаг 1).
Девочка говорила, что ей очень обидно и что она не может сдержать слезы. И она хотела бы не расстраиваться, когда ее обижают. Она сказала, что не хочет отвечать тем же, не хочет ругаться с девочками, а хочет только научиться не реагировать эмоционально, когда ее достают (шаг 2).
Обсуждение исключений позволил выявить еще один способ, которым девочка пользовалась в подобных случаях: иногда она начинала кричать и вполне могла ответить на любое оскорбление (шаг 3).
Ресурсом в таких случаях служило то, что она злилась и позволяла себе злиться открыто. Тогда ее оставляли в покое (шаг 4).
На вопрос психолога-консультанта, использует ли она этот способ в классе, она ответила, что в классе она не может так поступать, а только дома, когда ссорится со старшей сестрой (шаг 5).
Далее выяснилось, что ситуация дома отличается от ситуации в классе тем, что дома нет зрителей, что когда она плачет в классе, то всегда находится несколько человек, которые ее защищают, жалеют и утешают. Она на некоторое время привлекает к себе всеобщее внимание. И это ей нравится (шаг 6). Этот способ она выработала в отношениях с мамой, когда мама на нее кричала и обижала, девочка начинала плакать, маме становилось стыдно и мама начинала ее обнимать и целовать.
На осознанном уровне девочка решила оставить этот способ получения внимания в классе, однако собственная хитрость привела ее в состояние веселья. И она сказала, что часто немножко подыгрывает самой себе, когда плачет.
Надо сказать, что это не самый лучший способ привлечения внимания, и при работе психолог-консультант отметил, что есть другие способы, которые могут быть также очень эффективны, но девочка на данный момент времени не хотела ничего менять, ей было удобно и она пользовалась тем способом, который приносил ей дивиденды.
При системном подходе мы отмечаем, что данное поведение девочки поддерживалось определенной группой одноклассников, которые таким образом решали свои проблемы включенности в коллектив. Как только это поведение перестанет поддерживаться,
или девочка станет решать другие проблемы, или ей самой захочется поменять способ, то ее слезы прекратятся сами собой без каких-либо усилий с ее стороны.
![]() Т
р е т и й т и п п о м о щ и — сопровождение (поддержка), который отвечает на
запрос «Помоги нам перенести
наше положение!», также является областью применения знаний и умений
психолога-консультанта в школе. Это ситуации, когда ничего нельзя изменить. В
семейном консультировании этот вид помощи применяется, например, для семей, где
есть неизлечимо больной ребенок, умирающий член семьи, тяжелое материальное
положение без возможности скорого улучшения и т.д., т.е. когда есть некие
внешние факторы, которые семья не может изменить.
Т
р е т и й т и п п о м о щ и — сопровождение (поддержка), который отвечает на
запрос «Помоги нам перенести
наше положение!», также является областью применения знаний и умений
психолога-консультанта в школе. Это ситуации, когда ничего нельзя изменить. В
семейном консультировании этот вид помощи применяется, например, для семей, где
есть неизлечимо больной ребенок, умирающий член семьи, тяжелое материальное
положение без возможности скорого улучшения и т.д., т.е. когда есть некие
внешние факторы, которые семья не может изменить.
В школьном консультировании, когда психолог-консультант в основном имеет дело с отдельным членом семьи, и чаще всего — это ребенок, основной задачей является облегчение страданий ребенка внутри системы, что, например, часто встречается в семьях с зависимостью одного из членов семьи. Безусловно, оптимальным решением является направление семьи к специалисту по
семейным проблемам, но если это невозможно, мы стараемся работать на облегчение жизни данного ребенка внутри системы, без попыток ее изменить. Основной задачей здесь является поиск внут
ренних защитников и помощников, которые облегчают жизнь. Мы уже говорили о том, что супружеские пары, которые не в состоянии разрешить внутренние конфликты самостоятельно, часто втягивают в свою борьбу ребенка, который служит для отвода агрессии супругов и основной функцией которого в семье является сохранение семейной системы.
Работа с детьми без участия родителей в консультативном процессе осложняется еще и тем, что дети сами готовы «служить» ро
дителям. Они готовы сделать все, чтобы ослабить напряжение в доме, чтобы сохранить семью. Иногда родители прямо озвучивают роль ребенка в сохранении семьи. Например, отец говорит подростку: «Вот из-за того, что ты такой несамостоятельный, я вынужден жить с твоей матерью, я бы давно уже ушел, если бы мог
быть уверенным, что она из тебя не сделает урода». И ребенок готов быть «уродом», чтобы только отец не уходил из семьи. В его детском сознании он является тем цементом, который скрепляет родителей. Он прочно и основательно вплетен в супружеские взаимоотношения. Кроме того, зачастую это вплетение является единственным способом обратить на себя внимание, почувствовать себя нужным родителям.
Чаще всего, однако, подобная роль ребенка не озвучивается, и он сам принимает для себя решение спасать кого-либо из родите
лей или семью в целом.
![]() П
р и м е р . Один из учеников V класса в новом учебном году стал избивать своих
одноклассников, с особенной жестокостью он бил девочек. Учителя не могли с ним
справиться, так как он совершенно терял контроль над собой. До этого подобного
поведения не наблюдалось. Анализ семейной ситуации показал, что мама мальчика,
которая воспитывала его одна, год назад вышла второй раз замуж и родила еще
одного ребенка, тоже мальчика. По рассказам учителей, которые изредка общались
с мамой, «там не все в порядке в семье, муж выпивает и вроде бы поколачивает
жену». При разговоре с мальчиком эта информация подтвердилась. Мальчик люто
ненавидит отчима, потому что тот действительно бьет мать. Справиться с ним
мальчик не может, пару раз отчим избил и его. Он очень жалеет свою мать, и его
агрессия выливается в школе. Единственно, чего он жаждет, — чтобы мама бросила
этого гада. Он мечтает о том, что когда вырастет, то станет зарабатывать много
денег и заботиться о матери, тогда она сможет уйти от мужа.
П
р и м е р . Один из учеников V класса в новом учебном году стал избивать своих
одноклассников, с особенной жестокостью он бил девочек. Учителя не могли с ним
справиться, так как он совершенно терял контроль над собой. До этого подобного
поведения не наблюдалось. Анализ семейной ситуации показал, что мама мальчика,
которая воспитывала его одна, год назад вышла второй раз замуж и родила еще
одного ребенка, тоже мальчика. По рассказам учителей, которые изредка общались
с мамой, «там не все в порядке в семье, муж выпивает и вроде бы поколачивает
жену». При разговоре с мальчиком эта информация подтвердилась. Мальчик люто
ненавидит отчима, потому что тот действительно бьет мать. Справиться с ним
мальчик не может, пару раз отчим избил и его. Он очень жалеет свою мать, и его
агрессия выливается в школе. Единственно, чего он жаждет, — чтобы мама бросила
этого гада. Он мечтает о том, что когда вырастет, то станет зарабатывать много
денег и заботиться о матери, тогда она сможет уйти от мужа.
![]() Этот
ребенок понимал, что бить детей нельзя, но для него это была неважная жизнь,
порог чужой боли был для него очень высоким, не было боли сильнее, чем у него
самого. Он даже не задумывался о том, что другим больно и обидно. Он весь
находился в жизни своей матери и отчима. При беседе с матерью мальчика стало
ясно, что она не собирается ничего менять в своей семейной жизни и что ее
устраивает борьба, которую ведут за нее муж и сын. Она говорила, что очень
любит своего сына, что всегда дает ему понять и прямо говорит, что он является
единственным мужчиной в ее жизни, что он ее защитник и только ему она может
доверять. Фактически мать ставила своего 10-летнего сына на роль еще одного
мужа, таким образом давая понять фактическому мужу, что
Этот
ребенок понимал, что бить детей нельзя, но для него это была неважная жизнь,
порог чужой боли был для него очень высоким, не было боли сильнее, чем у него
самого. Он даже не задумывался о том, что другим больно и обидно. Он весь
находился в жизни своей матери и отчима. При беседе с матерью мальчика стало
ясно, что она не собирается ничего менять в своей семейной жизни и что ее
устраивает борьба, которую ведут за нее муж и сын. Она говорила, что очень
любит своего сына, что всегда дает ему понять и прямо говорит, что он является
единственным мужчиной в ее жизни, что он ее защитник и только ему она может
доверять. Фактически мать ставила своего 10-летнего сына на роль еще одного
мужа, таким образом давая понять фактическому мужу, что
тот — явление временное в ее жизни. Но когда у них были хорошие отношения, периоды затишья и любви, о мальчике мать забывала совершенно, он переставал ее интересовать, и тот очень страдал. Как только отношения с мужем разлаживались, мать сразу же приближала к себе сына.
В такой ситуации, когда мальчик ощущает свою значимость для матери, защищает ее и борется с соперником, а мать это поощряет, изменения возможны только с изменением всей системы взаимоотношений в данной семье. А это возможно лишь в том случае, когда взрослые захотят что-либо изменить и обратятся к специа
листу. Поэтому задача для школьной психологической помощи может состоять лишь в облегчении положения мальчика, снятия, по возможности, с него груза ответственности за жизнь своей матери. Чем младше ребенок, тем сложнее это сделать, так как ребенок не обладает еще способностью анализировать, сопоставлять,
сравнивать, смотреть на ситуацию со стороны. Это становится возможным лишь в подростковом возрасте.
Здесь важно помнить, что семья для ребенка всегда важнее и хорошего психолога, и заботливого учителя, и всех расчудесных взрослых, вместе взятых. И ребенок будет яростно защищать свою маму, папу и всю семью в целом, потому что семья — это его мир, пусть кривой, тяжелый, порой невыносимый, но предсказуемый
и по-своему защищающий.
Поэтому здесь можно предпринять следующие шаги:
1) соотнести неадекватное поведение с эмоциональным состоянием в этот момент;
2) выявить все ситуации, при которых это эмоциональное состояние появляется;
3) найти аналог в семейных взаимоотношениях, т. е. когда данное настроение и/или поведение появляется при общении с родителями, с братьями-сестрами, бабушками-дедушками;
4) проанализировать способы совладания с ситуацией или эмоциональным состоянием;
5) проанализировать возможность изменить ситуацию силами самого ребенка (передача ответственности взрослым за свою жизнь);
6) найти безопасное место внутри себя, свой собственный отдельный мир, страну, дом и т.д. для возможности ухода из тяжелой ситуации, где есть хорошие люди (или какие-либо другие существа), защитники, где ребенок сам создает для себя условия;
7) зародить надежду, что подобное положение вещей не вечно, что когда ребенок вырастет, он сам сможет контролировать свою жизнь и строить ее в соответствии со своими потребностями.
В данном случае в процессе первой консультации было обозначено эмоциональное состояние — агрессия (шаг 1). Это состояние появлялось у ребенка тогда, когда ему кто-то противоречил и не делал того, что он хотел. Он рассказал, что вначале просит что-то сделать, а потом, если не делают (игнорируют), начинает бить, чтобы поняли. Чувство агрессии появляется тог
да, когда его игнорируют, «как будто не слышит, но я же знаю, что слышит» (шаг 2).
Далее это состояние было соотнесено с ситуациями дома, когда отчим бил мать, а мальчик ничего не мог сделать. Он обычно просил отчима не трогать маму, плакал, потом или уходил на улицу в бессильной ярости, или бросался на отчима. Когда он бро
сался на отчима, ему бывало легче, чем когда он просто уходил из дома, несмотря на то что пару раз отчим его избил. Поэтому когда в школе его не слушают, он чувствует, что его не уважают, и в нем поднимается агрессия (шаг 3).
![]() Далее
было отмечено, что единственный способ совладать со своим ощущением бессилия и
агрессии у ребенка — не присутствовать при ссорах матери и отчима. Он сказал,
что не всегда их ссоры заканчиваются драками, иногда они кричат друг на друга,
а потом запираются в своей комнате. Драки обычно бывают, когда отчим приходит
пьяный. Решили, что лучшим вариантом будет, если в такие дни мальчик будет
уезжать к бабушке или уходить ночевать к другу (шаг 4).
Далее
было отмечено, что единственный способ совладать со своим ощущением бессилия и
агрессии у ребенка — не присутствовать при ссорах матери и отчима. Он сказал,
что не всегда их ссоры заканчиваются драками, иногда они кричат друг на друга,
а потом запираются в своей комнате. Драки обычно бывают, когда отчим приходит
пьяный. Решили, что лучшим вариантом будет, если в такие дни мальчик будет
уезжать к бабушке или уходить ночевать к другу (шаг 4).
Довольно долго разбирали, что на самом деле мальчик может изменить в жизни семьи. В основном все его идеи касались фан
тазии, что если отчим уйдет, то все будет хорошо. А для этого мама должна выгнать его. Несмотря на то что решение должно было исходить от матери мальчика, в его фантазии многое зависело и от него самого. Итогом работы стало принятие мальчиком того факта, что от него в данном случае ничего не зависит, и что мама поступает непоследовательно, когда говорит, что хочет выгнать отчима, а потом идет с ним в клуб и опять с ним мирится (шаг 5).
![]() Построение своего
собственного мира привело к тому, что у мальчика появилось свое внутреннее
пространство, где нашлось место и для его собственных интересов, что позволило
ему немного выйти из супружеских взаимоотношений. В его мире также нашлись и
помощники, и защитники, и выход агрессии в борьбе с внешними врагами, которые
постоянно нападали на его территорию. Он научился отстаивать свои границы, не
позволять лазутчикам проникать в его мысли (шаг 6). Кроме того, ребенок оставил
надежду на то, чтобы заставить мать выгнать отчима из дома. Он смог посмотреть
в свое будущее, отдельное от жизни матери и отчима, и начал строить планы, как
он станет машинистом поезда дальнего следования и будет ездить по стране (шаг
7). Конечно, у него осталась идея о том, чтобы начать зарабатывать много денег
и жить только с мамой, но ему легче стало переносить конфликты в доме, и
нашлись способы справиться со своей агрессией.
Построение своего
собственного мира привело к тому, что у мальчика появилось свое внутреннее
пространство, где нашлось место и для его собственных интересов, что позволило
ему немного выйти из супружеских взаимоотношений. В его мире также нашлись и
помощники, и защитники, и выход агрессии в борьбе с внешними врагами, которые
постоянно нападали на его территорию. Он научился отстаивать свои границы, не
позволять лазутчикам проникать в его мысли (шаг 6). Кроме того, ребенок оставил
надежду на то, чтобы заставить мать выгнать отчима из дома. Он смог посмотреть
в свое будущее, отдельное от жизни матери и отчима, и начал строить планы, как
он станет машинистом поезда дальнего следования и будет ездить по стране (шаг
7). Конечно, у него осталась идея о том, чтобы начать зарабатывать много денег
и жить только с мамой, но ему легче стало переносить конфликты в доме, и
нашлись способы справиться со своей агрессией.
Данная работа, безусловно, проводилась не на одной консультации, а в течение трех месяцев. В работе также не было столь четкой последовательности, которая продемонстрирована для иллюстрации. Задачи перемежались, перекрывали и дополняли друг друга. За время одной консультации могли заниматься либо только одной задачей, либо несколькими, возвращались и повторяли бесконечное количество раз одно и то же. Мир строился не сразу, а постепенно дополнялся различными фигурами и предметами. Постоянно возвращались к актуальному состоянию агрессии по отношению к одноклассникам, и агрессия снижалась также постепенно. Методы использовались также разные, много было ро
левых игр, работы с игрушками, иногда рисовали, иногда просто беседовали.
Ч е т в е р т ы й в и д п о м о щ и — терапия, который отвечает на запрос «Помоги нам покончить с нашим страданием!», в школьном консультировании встречается очень редко, так как требует от клиента очень сильной заинтересованности и стремления
действительно изменить ситуацию. Терапия требует глубокой личностной проработки, довольно длительной во времени. В рамках школьного консультирования это практически невозможно, поэтому такие клиенты либо прекращают общение с консультантом, как только становится понятно, что проблема глубже и значительнее, чем представлялось вначале, либо идут к психотерапевту на индивидуальную или семейную терапию. Задача школьного кон
сультанта — мотивировать на работу и предоставить некоторые начальные сведения о том, что такое терапия и как она работает (вступительные рекомендации). Или, решив частную проблему, с использованием имеющихся возможностей (консультирование) отметить, что этим ограничивается собственно консультирование, а для решения других проблем нужен другой тип работы. Или, ведя сопровождение, направить семью на терапию, если члены семьи захотят что-то изменить. То есть консультант в школе работает до определенного предела и далее, будучи ограниченным и во времени, и в возможностях, мотивирует клиентов (взрослых) на дальнейшую работу с психологом.
![]() П
я т ы й вид п о м о щ и — открытие самого себя, который отвечает на запрос «Помоги мне лучше познать себя!»,
в условиях школьного консультирования в основном встречается при работе с
подростками. Это та область, с которой подростки приходят к психологу сами. Они
стремятся понять себя, найти свое место в мире людей, определить свои
способности и возможности, научиться любить и дружить и т. д. Их запросы часто
бывают туманны и расплывчаты. Они сами не знают, чего хотят, и стремятся в один
запрос заложить проблемы всего своего подрастающего существования. Поэтому темы
могут меняться в течение одного сеанса: от родителей — к друзьям, от любви — к
подружкам. Либо приходят с определенной темой (чаще всего это любовь и дружба)
и пытаются выяснить для себя, где правда, а где ложь, получить совет — как быть
дальше, что делать, чтобы полюбили. Консультирование подростков при этом виде
помощи напоминает плавание на лодке без весел и компаса по океану. Это
увлекательное путешествие мы рассмотрим подробнее, когда будем говорить о
консультировании подростков. Вид помощи по открытию самого себя и у подростков
и у взрослых всегда сопровождается и первым видом помощи — предоставлением
новых знаний.
П
я т ы й вид п о м о щ и — открытие самого себя, который отвечает на запрос «Помоги мне лучше познать себя!»,
в условиях школьного консультирования в основном встречается при работе с
подростками. Это та область, с которой подростки приходят к психологу сами. Они
стремятся понять себя, найти свое место в мире людей, определить свои
способности и возможности, научиться любить и дружить и т. д. Их запросы часто
бывают туманны и расплывчаты. Они сами не знают, чего хотят, и стремятся в один
запрос заложить проблемы всего своего подрастающего существования. Поэтому темы
могут меняться в течение одного сеанса: от родителей — к друзьям, от любви — к
подружкам. Либо приходят с определенной темой (чаще всего это любовь и дружба)
и пытаются выяснить для себя, где правда, а где ложь, получить совет — как быть
дальше, что делать, чтобы полюбили. Консультирование подростков при этом виде
помощи напоминает плавание на лодке без весел и компаса по океану. Это
увлекательное путешествие мы рассмотрим подробнее, когда будем говорить о
консультировании подростков. Вид помощи по открытию самого себя и у подростков
и у взрослых всегда сопровождается и первым видом помощи — предоставлением
новых знаний.
Таким образом, мы видим, что каждому виду помощи соответствуют свои задачи, время, необходимое для достижения цели, и способ решения проблемы. Если психолог-консультант с самого начала уяснил для себя и прояснил для клиента, что именно тот
хочет получить в результате общения с психологом, то выбор способа оказывается техническим моментом в работе. Безусловно, виды помощи могут переходить из одного в другой, сменять друг
друга, но тогда лучше всего заключать контракт на новую работу, на новый ожидаемый результат и заново объяснить, чем один вид помощи отличается от другого.
В качестве консультанта организации школьный психолог может выступать в случае проблем организационного порядка, которые мы рассмотрели, говоря о диагностике организаций. Здесь важно соблюдать одно правило: заявка на организационные изменения и развитие может поступать т о л ь к о от тех людей, ко
торые непосредственно принимают решения по этим вопросам, т.е. имеют реальную власть и возможность влияния на процессы, происходящие в школе. Естественно, принять заявку на реорганизацию школьной системы у учителя психолог не может, даже если у того очень правильный и непредвзятый взгляд на действительность. Принимая заявку у завуча, психолог также должен оценивать реальную власть последнего и сферу его непосредственного влияния. Также не следует путать коучинг (индивидуальное сопровождение руководителя) и консультирование руководителя по организационным вопросам. Коуч — это некий личный психолог при руководителе, который оказывает поддержку, помогает принимать решения, справляться с личными проблемами и т.д.
![]() Консультирование
организации в рамках школьной психологической службы скорее всего лучше
называть консультированием по организационным вопросам. За консультацией
обращается, как правило, один человек, и помощь он запрашивает для себя.
Находясь в системном взаимодействии, человек определяет проблему как личную, а
не как организационную. Поэтому п е р в о й з а д а ч е й является отнесение
предъявленной проблемы к личной или организационной. Несмотря на то что эти две
сферы очень тесно переплетены и, безусловно, личные проблемы оказывают
непосредственное влияние на рабочие отношения, мы их условно
Консультирование
организации в рамках школьной психологической службы скорее всего лучше
называть консультированием по организационным вопросам. За консультацией
обращается, как правило, один человек, и помощь он запрашивает для себя.
Находясь в системном взаимодействии, человек определяет проблему как личную, а
не как организационную. Поэтому п е р в о й з а д а ч е й является отнесение
предъявленной проблемы к личной или организационной. Несмотря на то что эти две
сферы очень тесно переплетены и, безусловно, личные проблемы оказывают
непосредственное влияние на рабочие отношения, мы их условно
будем разделять по целям консультирования.
Например, к психологу обратилась учительница — классный руководитель IX класса — с жалобой на сложные отношения с учительницей математики.
Проблема организационного характера звучит так: IX класс — выпускной, и перед детьми и классным руководителем стоит вопрос о сохранении или расформировании этого класса, так как многим детям рекомендуют покинуть данную школу и перейти в какой-нибудь специализированный колледж. Классный руководитель заинтересован в том, чтобы как можно больше детей осталось в классе, так как в этом случае она остается работать с ним до выпуска. Учительница математики ставит детям незаслуженные «двойки», что способствует их уходу. Задача состоит в том, чтобы добиться объективных оценок.
В данном случае будут рассматриваться все организационные аспекты в их системной взаимосвязи: кто еще включен в данную проблему; какова расстановка сил в старшей школе; кто заинтересован в том, чтобы класс был расформирован; как это отразится на кадровых перестановках и т.д. Если выяснится, что учитель математики выполняет некий запрос системы, то либо надо будет найти варианты, при которых этот запрос может быть решен другим способом, либо отказаться от борьбы, что автоматически приведет к снижению количества двоек.
В данном случае личностные особенности человека имеют второстепенную роль, являются фоном, на котором разыгрываются организационные бои. Поэтому мы оставляем личностные особенности и проблемы в стороне, отмечая, что это — возможная тема для индивидуального психологического консультирования, и занимаемся нахождением оптимального решения.
Проблема личного характера может звучать как проблема отстаивания своих прав в подобных ситуациях, в приобретении навыков противостояния манипуляции или в выявлении особенно
стей межличностного взаимодействия с похожими людьми. Тогда проблема с «двойками» становится частной проблемой в ряду похожих ситуаций. И запрос на личную работу в таком случае может формулироваться так: «Что в моем поведении провоцирует людей определенного типа на конфликты и на преследования?» В этом случае фоном является рабочий контекст, а фигурой — личная проблема.
В проблемах, связанных с организацией, акцент ставится на единичном конкретном случае, а в личностном — на повторяющихся ситуациях, реакциях и проблемах.
Исходя из системного понимания возникновения любой проблемы, психолог-консультант, так же как и в консультировании по личным вопросам, в т о р о й з а д а ч е й ставит определение вида помощи на данный момент времени и в данном рабочем кон
тексте.
О с н о в н о й ц е л ь ю консультирования по организационным вопросам является адаптация членов школы в целом к конкретной школьной системе и в частности к подсистеме, к которой человек принадлежит. О с н о в н а я з а д а ч а — это помощь включения в системное взаимодействие на правах равноправного члена данной системы. Или же осознанный уход из системы.
Первый вид оказания помощи — вступительные рекомендации, который касается отсутствия или недостатка навыков, довольно часто встречается при консультировании учителей, а также старших подростков, если они занимаются организационными вопросами, будучи членами совета школы или еще каких-нибудь управленческих структур. Заключается он в предоставлении психологических знаний по различным сферам делового взаимо
действия, структурирования рабочего пространства и времени, установления рабочих приоритетов и целей.
![]() Инструментом
здесь может выступать выстраивание алгоритма действий, выработка ближайших
целей (см. в главе 1), наглядное отделение личного пространства от рабочего,
прописывание функциональных обязанностей, сфер ответственности и т.д., а также
предоставление конкретных знаний по отдельным вопросам, например по вопросам
устройства иерархической системы организации. Иногда такие простые действия
помогают человеку иначе, под другим углом, взглянуть на проблему и занять
соответствующее его обязанностям место в школе.
Инструментом
здесь может выступать выстраивание алгоритма действий, выработка ближайших
целей (см. в главе 1), наглядное отделение личного пространства от рабочего,
прописывание функциональных обязанностей, сфер ответственности и т.д., а также
предоставление конкретных знаний по отдельным вопросам, например по вопросам
устройства иерархической системы организации. Иногда такие простые действия
помогают человеку иначе, под другим углом, взглянуть на проблему и занять
соответствующее его обязанностям место в школе.
Второй вид помощи — консультирование — направлен на использование возможностей человека на рабочем месте и предусмат
ривает, во-первых, оказание поддержки, т.е. вселения уверенности в то, что задуманное получится, а во-вторых, актуализацию имеющегося потенциала. Для этого типа оказания помощи наиболее предпочтительна ориентированная на решение консультация.
Главное, как и в личностном консультировании, — помочь клиенту использовать прошлый успешный опыт в решении подобных
или других задач:
— вспомнить успешный опыт решения подобных проблем;
— выделить факторы, мешающие достижению цели;
— найти способы блокировки этих факторов (из прошлого опыта);
— выявить адекватные приемы, которые были использованы ранее в успешном решении подобных проблем;
— проверить их на приемлемость к данной конкретной ситуации.
![]() Третий
вид оказания помощи — сопровождение
— в рамках консультирования по организационным вопросам применяется в том
случае, когда от человека, обратившегося за консультацией, ничего не зависит,
он сам ничего в сложившейся ситуации
изменить не может. Например, когда директор категорически противится
всяческим переменам и блокирует все попытки внедрения инноваций. А к психологу
обратился молодой энергичный педагог, полный идей и сил, с просьбой помочь ему
научиться пробивать свои идеи. В таком случае, выявив в ходе консультации, что
все его усилия не принесут желаемого результата, задачей становится выбор
клиента меж
Третий
вид оказания помощи — сопровождение
— в рамках консультирования по организационным вопросам применяется в том
случае, когда от человека, обратившегося за консультацией, ничего не зависит,
он сам ничего в сложившейся ситуации
изменить не может. Например, когда директор категорически противится
всяческим переменам и блокирует все попытки внедрения инноваций. А к психологу
обратился молодой энергичный педагог, полный идей и сил, с просьбой помочь ему
научиться пробивать свои идеи. В таком случае, выявив в ходе консультации, что
все его усилия не принесут желаемого результата, задачей становится выбор
клиента меж
ду тем, чтобы остаться в школе и принять условия существования, т. е. отказаться на неопределенный срок от своих замыслов, или уходить в другую школу. Подсознательно люди в организации обычно выбирают одну из стратегий поведения. В зависимости от принятого на интуитивном уровне решения они начинают себя вести соответствующим образом: либо принимают правила, по которым живет данная школа, либо начинают вести себя так, чтобы им создали невыносимые условия или прямо попросили уйти. В любом случае — это болезненный процесс, который тяжело проходит и для организации (возможен раскол и межличностные конфликты), и
для самого человека (его самооценка падает). Психолог-консультант в таком случае помогает сделать осознанный выбор, не разделяя на правых и виноватых, а обрисовывая проблему как проблему соответствия данного человека и данной системы. Тогда уход учителя или завуча, или хозработника проходит в уважительной и бесконфликтной атмосфере.
В случае же, когда человек осознанно делает выбор, при котором отказывается от части своих притязаний в угоду другой, удовлетворяемой в данной школе части своих потребностей, психолог-консультант работает вместе с клиентом над минимизацией негативных воздействий системы на человека. Тогда происходит внутреннее принятие своего положения в системе, снимается напряжение, связанное с ощущением несправедливости и давления, и человек адаптируется к требованиям системы. Здесь также
необходимо разделение личного и организационного контекстов. Чаще всего человек видит проблему в межличностных отношениях и жалуется на несправедливость со стороны какого-то одного человека, не видя системных закономерностей.
Технически здесь может быть следующий алгоритм работы:
— поиск возможных решений проблемы — рассматриваются все варианты;
— осознание невозможности решения данной проблемы в рамках данной организации, констатация факта;
— снятие тревоги клиента о собственной несостоятельности путем расширения контекста (рассмотрение проблемы в рамках отношения «индивид—организация», а не «индивид—индивид»);
— осознанный выбор по поводу принятия существующего положения дел;
— поиск возможных дальнейших шагов по преодолению внутреннего дискомфорта (что реально можно сделать в рамках существующей системы) или подготовка к уходу из школы (определить время ухода, какие завершить дела, с кем провести беседу, как по
дать заявление и т.д.).
![]() Четвертый
вид оказания помощи — терапия — может использоваться в
организационном консультировании при работе с непосредственным руководителем
организации, с ее основателем или учредителем, директором-владельцем. Основной
вопрос, который решается в рамках данного вида помощи, — решение о сохранении,
ликвидации или полном переструктурировании организации, по сути — о
кардинальном изменении системы. В рамках школы — практически невыполнимая
задача, так как школа является подсистемой более крупного объединения — системы
образования.
Четвертый
вид оказания помощи — терапия — может использоваться в
организационном консультировании при работе с непосредственным руководителем
организации, с ее основателем или учредителем, директором-владельцем. Основной
вопрос, который решается в рамках данного вида помощи, — решение о сохранении,
ликвидации или полном переструктурировании организации, по сути — о
кардинальном изменении системы. В рамках школы — практически невыполнимая
задача, так как школа является подсистемой более крупного объединения — системы
образования.
И наконец, пятый вид помощи — открытие самого себя — не может решаться в рамках только организационных проблем, а касается всей личности в целом и редко осуществляется в рамках школы, как мы уже указывали выше.
1. Какие виды систем помощи используются в консультативной деятельности психолога?
2. В чем заключается вид помощи, который носит характер вступительных рекомендаций? В чем его отличие от консультирования и сопровождения?
3. Какие шаги следует предпринять при втором виде помощи — консультировании?
4. В чем заключается сопровождение (поддержка) ребенка в условиях школьного консультирования?
5. Какие шаги следует предпринять при сопровождении?
6. Какое важнейшее правило важно соблюдать при получении заявки на организационные изменения и развитие?
7. Какова основная цель консультирования по организационным вопросам?
8. В чем состоит основная задача психолога-консультанта при консультировании по организационным вопросам?
9. Опишите первый тип оказания помощи в организационных вопросах в школе.
10. Опишите характер оказании помощи второго типа в школе.
11. В каких случаях можно применять третий тип оказания помощи в рамках консультирования по организационным вопросам?
12. Возможны ли в школе четвертый и пятый типы оказания психологической помощи по организационным вопросам?
■ Определите, какой вид помощи, скорее всего, следует предоставить клиенту в приведенных ниже случаях.
1.
![]() К психологу-консультанту обратилась
девочка-старшеклассница. Она рассказала, что всегда стеснялась выходить к доске
и все учителя об этом знают, и поэтому ее или не спрашивают вообще, или ждут,
пока она справится с волнением. Но сейчас она стала ходить на курсы при очень
серьезном вузе, и там поощряются высказывания на занятиях. А она не может
ничего сказать, хотя все знает. Девочка отметила, что она совсем не боится и не
стесняется отвечать учителю с глазу на глаз, мало того, у нее
К психологу-консультанту обратилась
девочка-старшеклассница. Она рассказала, что всегда стеснялась выходить к доске
и все учителя об этом знают, и поэтому ее или не спрашивают вообще, или ждут,
пока она справится с волнением. Но сейчас она стала ходить на курсы при очень
серьезном вузе, и там поощряются высказывания на занятиях. А она не может
ничего сказать, хотя все знает. Девочка отметила, что она совсем не боится и не
стесняется отвечать учителю с глазу на глаз, мало того, у нее
есть опыт выступления перед большой аудиторией с чтением доклада.
Отв ет. В данном случае полезно будет предоставление второго типа помощи — консультирования, т.е. поиск вариантов, когда девочка могла преодолеть свою стеснительность, и использование имеющихся ресур
сов в других условиях.
2. На консультацию пришла мама мальчика 9 лет с жалобой на то, что ее ребенок все делает очень медленно и это ее очень раздражает. Она боится, что с ним не все в порядке, и пришла посоветоваться, не надо ли обратиться к врачу. Мама по темпераменту холерического склада: быст
рая, порывистая, несдержанная.
Мальчик неторопливый, уравновешенный, медленно и основательно усаживается за стол, долго обдумывает каждый свой ответ, спокойно сидит в течение часа на одном месте. По его словам, ему все в школе нравится, уроки он делает сам, учительница хорошая, мама ругается, но на то она и женщина — такая нетерпеливая. А он так не может, он не
умеет быстро.
О т в е т. В данном случае, скорее всего, достаточно предоставить знания о существовании различных темпераментов (первый тип помощи), рассказав о холерическом складе темперамента (мама) и флегматическом (сын). И объяснив, что подобное различие хотя и может вызывать раздражение у мамы, но является всего лишь различием, а не патологией
[см. 38; 49; 24].
3. Мальчик-подросток 16 лет переживает по поводу матери, которая впала в депрессию, когда от нее ушел муж — отец мальчика. Сам мальчик продолжает видеться с отцом, и у него хороший контакт с ним. Несмотря на то что прошло уже больше года с тех пор, как ушел муж, женщина надеется на его возвращение. Она стала посещать гадалок и экстрасенсов, привораживает мужа и борется с соперницей. Мальчик боится, что его мать сойдет с ума. К психологу он пришел с тем, как помочь матери понять, что отец не вернется.
Отв ет. Здесь возможен третий вид помощи — терапия, в рамках которой мальчику предстоит принять страдания матери и снять с себя от
ветственность за ее жизнь.
■ Определите, в рамках какого контекста — личного или организационного, скорее всего, будет лежать решение следующей проблемы.
1. Две подружки из VIII класса в начале года сильно поссорились. Они дружили с начальной школы, но между ними вспыхнула борьба за власть. Каждая была по своему привлекательна для одноклассников и популярна. Конфликт разгорался все больше и больше, пока в классе не воцари
лась атмосфера всеобщей войны: часть класса стояла за одну девочку, другая часть — за другую. Силы были примерно равны. К психологу обратилась учительница с просьбой урезонить одну из девочек. В процессе первичного разговора с учительницей психолог-консультант выяснил, что учительница явно симпатизирует одной из девочек, осуждая поведение
другой. Она жаловалась на то, что одна из девочек постоянно провоцирует другую, на что та вынуждена отвечать некими действиями. В картине учительницы в конфликте присутствовали «преследователь» и «жертва», учительница симпатизировала «жертве».
![]() О т в е т. В данном случае, скорее
всего, решение лежит в организационном контексте. При системном взгляде на
ситуацию мы не рассматриваем поведение одной из девочек как причину поведения
другой, а тем более как причину раскола класса. При ближайшем рассмотрении, вероятнее
всего, выявится равноценный вклад обеих девочек в конфликтную ситуацию.
Поведение «жертвы» окажется провокационным, а «преследователь» — обиженной и
запутавшейся девочкой. Основная проблема здесь — в поведении учительницы,
которая взяла сторону одного из подростков, нарушив таким образом баланс внутри
класса. Учительница
О т в е т. В данном случае, скорее
всего, решение лежит в организационном контексте. При системном взгляде на
ситуацию мы не рассматриваем поведение одной из девочек как причину поведения
другой, а тем более как причину раскола класса. При ближайшем рассмотрении, вероятнее
всего, выявится равноценный вклад обеих девочек в конфликтную ситуацию.
Поведение «жертвы» окажется провокационным, а «преследователь» — обиженной и
запутавшейся девочкой. Основная проблема здесь — в поведении учительницы,
которая взяла сторону одного из подростков, нарушив таким образом баланс внутри
класса. Учительница
образовала коалицию поперек иерархии — с ученицей, тем самым нарушив структуру ученической подсистемы. Ученики при таком раскладе не могут решить проблему внутри своей подсистемы. Единственный выход из сложившейся ситуации — нейтральность педагога, ее четкая позиция по отношению к конфликту, а не к конкретному ребенку, предоставление возможности подросткам решить данную проблему самостоятельно. И дальнейшая работа по укреплению сплоченности класса.
2. К психологу-консультанту обратилась учительница начальных классов с жалобой на проблемы по организации учебного процесса. По ее
![]()
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ КЛИЕНТОВ В ШКОЛЕ
Психологическая помощь детям обычно оказывается по просьбе взрослых: учителей или родителей. Поводы обращения в основном касаются проблем в учебе или в поведении, реже — настора
живающего эмоционального состояния ребенка (подавленность, страхи, фобии, агрессивность и т.д.) или после травматического события.
Прежде чем работать с симптомом, как мы уже неоднократно говорили, следует понять причину возникновения того или иного проявления неблагополучия.
Все причины делятся на несколько категорий:
1) задержка психического развития;
2) проблемы в семье (дисфункциональная семья или кризис семейной системы);
3) травматический стресс.
В зависимости от обнаруженной в результате диагностики причины возникновения симптома или какого-либо внушающего беспокойство поведенческого или эмоционального проявления выбирается тот или иной способ работы с ребенком.
Задержка психического развития характеризуется замедлением темпа формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах [42] и встречается в школах довольно часто. Речь идет не о стойком и, по существу, необратимом психическом недоразвитии, а о замед
![]() лении его темпа, которое
часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности
общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой
интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой
пресыщаемостью в интеллектуальной деятельности. В одних случаях на первый план
будет выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные виды
инфантилизма), а нарушения интеллектуальной сферы будут выражены нерезко. В
других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития
интеллектуальной сферы, касающиеся регуляции интеллектуальной деятельности
(целенаправленности, программирования, контроля).
лении его темпа, которое
часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности
общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой
интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой
пресыщаемостью в интеллектуальной деятельности. В одних случаях на первый план
будет выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные виды
инфантилизма), а нарушения интеллектуальной сферы будут выражены нерезко. В
других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития
интеллектуальной сферы, касающиеся регуляции интеллектуальной деятельности
(целенаправленности, программирования, контроля).
Исходя из этиологического принципа, различают ч е т ы р е о с н о в н ы х в а р и а н т а з а д е р ж к и п с и х и ч е с к о г о р а з в и тия:
1) задержку психического развития конституционального происхождения;
2) задержку психического развития соматогенного происхождения;
3) задержку психического развития психогенного происхождения;
4) задержку психического развития церебрально-органического генеза.
![]() При
задержке психического развития конституционального происхождения инфантильности психики часто соответствует
инфантильный тип телосложения с детской пластичностью мимики и моторики.
Эмоциональная сфера этих детей как бы находится на более ранней ступени
развития, соответствуя психическому складу ребенка более младшего возраста: с
яркостью и живостью эмоций, преобладанием эмоциональных реакций в поведении,
игровых интересов, внушаемости и недостаточной самостоятельности. Эти дети
неутомимы в игре, в которой проявляют много творчества и выдумки, и в то же
время быстро пресыщаются интеллектуальной деятельностью. Поэтому в 1 классе
школы у них иногда возникают трудности, связанные как с малой направленностью
на длительную интеллектуальную деятельность (на занятиях они предпочитают
играть), так и с неумением подчиняться правилам дисциплины.
При
задержке психического развития конституционального происхождения инфантильности психики часто соответствует
инфантильный тип телосложения с детской пластичностью мимики и моторики.
Эмоциональная сфера этих детей как бы находится на более ранней ступени
развития, соответствуя психическому складу ребенка более младшего возраста: с
яркостью и живостью эмоций, преобладанием эмоциональных реакций в поведении,
игровых интересов, внушаемости и недостаточной самостоятельности. Эти дети
неутомимы в игре, в которой проявляют много творчества и выдумки, и в то же
время быстро пресыщаются интеллектуальной деятельностью. Поэтому в 1 классе
школы у них иногда возникают трудности, связанные как с малой направленностью
на длительную интеллектуальную деятельность (на занятиях они предпочитают
играть), так и с неумением подчиняться правилам дисциплины.
При задержке психического развития соматогенного происхождения эмоциональная незрелость обусловлена длительными, нередко хроническими заболеваниями, пороком развития сердца и т. д. Хроническая физическая астения тормозит развитие активных форм деятельности, способствует формированию таких черт
личности, как робость, боязливость, неуверенность в своих силах. Эти же свойства в значительной степени обусловливаются и созданием для больного или физически ослабленного ребенка режима ограничений и запретов. Таким образом, к явлениям, обусловленным болезнью, добавляется искусственная инфантилизация, вызванная условиями гиперопеки.
![]() Задержка
психического развития психогенного
происхождения связана
с неблагоприятными условиями воспитания. Несмотря на то что в основе лежат
социальные факторы, это не исключает возможности развития патологии. Известно,
что при раннем возникновении и длительном действии психотравмирующего фактора
могут возникнуть стойкие сдвиги нервно-психической сферы ребенка,
обусловливающие патологическое развитие его личности. Так, в условиях
безнадзорности может формироваться патологическое развитие личности с задержкой
психического развития по типу психической неустойчивости: неумением тормозить
свои эмоции и желания, импульсивностью, отсутствием чувства долга и
ответственности.
Задержка
психического развития психогенного
происхождения связана
с неблагоприятными условиями воспитания. Несмотря на то что в основе лежат
социальные факторы, это не исключает возможности развития патологии. Известно,
что при раннем возникновении и длительном действии психотравмирующего фактора
могут возникнуть стойкие сдвиги нервно-психической сферы ребенка,
обусловливающие патологическое развитие его личности. Так, в условиях
безнадзорности может формироваться патологическое развитие личности с задержкой
психического развития по типу психической неустойчивости: неумением тормозить
свои эмоции и желания, импульсивностью, отсутствием чувства долга и
ответственности.
В условиях гиперопеки психогенная задержка эмоционального развития проявляется в формировании эгоцентрических установок, неспособности к волевому усилию, труду. В психотравмирующих условиях воспитания, где преобладают жестокость либо грубая авторитарность, нередко формируется невротическое развитие личности, при котором задержка психического развития будет проявляться в отсутствии инициативы и самостоятельности, робости, боязливости.
Причинами задержки психического развития церебрально- органического генеза могут быть патология беременности и родов, инфекции, интоксикации, травмы нервной системы в первые годы жизни. Степень выраженности задержки психического развития зависит от массивности органического поражения и от времени поражения. Признаки замедления темпа созревания часто обнаруживаются уже в раннем развитии этих детей и касаются почти всех сфер, поэтому в общеобразовательную школу они, как правило, обычно не попадают, а идут учиться в специализирован
ные школы.
Многие психологи-клиницисты в формировании задержки психического развития даже церебрально-органического типа
большую роль отводят социальному фактору — неблагоприятным условиям воспитания. В благополучной семье задержка психического развития ребенка с «минимальной мозговой дисфункцией» нередко может быть преодолена путем направленной активацией его возможностей. Еще один психогенный фактор — это ситуация систематического неуспеха. У детей формируется заниженный уровень притязаний, который отмечается не только в отношении к учебным предметам, но и к любой другой деятельности, содержащей оценочные моменты.
Неблагоприятное положение детей с задержкой психического развития в среде сверстников рождает у них ряд гиперкомпенсаторных реакций. Стремясь обеспечить себе успех, они еще прочнее фиксируются в своей деятельности на более раннем возрастном интеллектуальном уровне, в частности на игре, дающей больше шансов на успех. Таким образом, игровые интересы этих детей определяются не только незрелостью эмоциональной сферы, но и вторично закрепляются неуспехом в школьной деятельности. Все это усугубляет нарушения адаптации этих детей к школьным условиям, способствует их невротизации, а в более старшем возрасте — и нарушению поведения.
![]() Подводя
итоги, следует еще раз подчеркнуть, что при задержке психического развития речь
идет не о необратимом недоразвитии, а о замедлении темпа психического
созревания, которое может быть преодолено при правильном и систематическом
развитии данного ребенка. Эти нарушения носят мозаичный характер, т. е.
различные психические функции имеют различную степень и характер недоразвития.
Одни из них могут быть негрубо повреждены, другие — функционально неустойчивы,
третьи — незрелы. Таким образом, у ребенка всегда есть ресурс в виде
неповрежденных участков, на которые он может опираться в своем развитии.
Подводя
итоги, следует еще раз подчеркнуть, что при задержке психического развития речь
идет не о необратимом недоразвитии, а о замедлении темпа психического
созревания, которое может быть преодолено при правильном и систематическом
развитии данного ребенка. Эти нарушения носят мозаичный характер, т. е.
различные психические функции имеют различную степень и характер недоразвития.
Одни из них могут быть негрубо повреждены, другие — функционально неустойчивы,
третьи — незрелы. Таким образом, у ребенка всегда есть ресурс в виде
неповрежденных участков, на которые он может опираться в своем развитии.
При работе с такими детьми в рамках консультативной работы, безусловно, основная задача состоит в предоставлении профессиональной информации родителям и учителям о специфике данного ребенка, а также в выработке совместно с учителями и родителями критериев оценки его учебной деятельности и требований с учетом его возможностей для того, чтобы исключить влияние социальных факторов, усугубляющих и еще более замед
ляющих психическое развитие ребенка. Главное, что следует объяснять родителям и учителям, что это недоразвитие преодолевается. Основная задача — ликвидация самой задержки психического развития: выработки навыков и умений, привития знаний, формирование которых было замедленно. Поэтому коррекционная работа должна носить индивидуальный характер с уче
том структуры эмоционального и интеллектуального дефектов, значимости нейродинамических расстройств, импульсивности, слабости контроля, недостаточности отдельных корковых функций.
И еще один момент хотелось бы отметить. Существует так называемый феномен педагогической, а правильно микросоциаль
ной, запущенности: недостаточный уровень развития навыков, умений и знаний у ребенка с полноценной нервной системой, но
длительно находящегося в условиях недостатка информации, интеллектуальной, а часто и эмоциональной депривации. В социально неблагополучных семьях (при хроническом алкоголизме родителей, в условиях безнадзорности и т.д.) может задерживаться интеллектуальное развитие ребенка и со здоровой нервной системой. Однако при этом у ребенка нет органических нарушений психических функций. Такой ребенок будет хорошо ориентирован в довольно сложных, но знакомых ему ситуациях, проявит в них самостоятельность, гибкость и инициативу, будет достаточно осведомлен и сообразителен в вопросах, представляющих для него интерес.
Такие дети часто производят впечатление лентяев, которые ничего не хотят делать. Обычно учителей сбивает с толку именно
тот факт, что в жизни такие дети сообразительны и прекрасно ориентируются. Они «тупеют» в классе. В таких случаях систематические занятия и определенные навыки приобретения знаний также помогут постепенно преодолеть задержку. Главная проблема в
том, что они не умеют учиться. Если им показать, как это делать, и если у них еще не сформировалось ощущение постоянного неуспеха, то они могут значительно повысить свои достижения.
На страницах данного пособия мы много говорили о том, как отражаются на ребенке дисфункциональные отношения в семье. Дисфункциональными называются такие отношения, которые могут быть поняты как «ригидное закрепление паттерна комплементарности, или как стремящаяся к разрыву, или перемежающаяся дистанцированием друг от друга эскалация напряжения симметричной коммуникации» [12].
Когда мы имеем дело с семейной системой, мы должны помнить, что поведение ребенка или его эмоциональное состояние говорят не о проблемах отдельно взятого ребенка, а о проблемах (кризисе) семейной системы. Ребенок является лишь выразителем этих проблем. Он демонстрирует симптом, а не саму болезнь. В рамках школьного консультирования мы работаем в основном с симптомом, стремясь обеспечить ребенку возможность иного, более безболезненного, функционирования в данной семейной системе.
![]() Безусловно,
оптимальным решением является сотрудничество с психологом всех членов семьи. К
сожалению, родители далеко не всегда идут на контакт с психологом и в
особенности со школьным, справедливо опасаясь разглашения семейных тайн.
Поэтому хорошим результатом работы школьного психолога будет, если семья примет
решение проконсультироваться со специалистом по семейным вопросам. Если семья
не желает ничего менять в своем укладе, даже несмотря на явные проблемы ребенка,
нужно, тем не менее, попытаться войти в контакт хотя бы с одним из родителей.
Абсолютно бесполезно стараться заменить ребенку кого-либо из отсутствующих
родителей, конфликтовать с системой, присоединяться к ней в качестве еще одного
(конструктивного) члена семьи. Эти ошибки приведут лишь к обострению ситуации и
ничего не изменят в состоянии ребенка.
Безусловно,
оптимальным решением является сотрудничество с психологом всех членов семьи. К
сожалению, родители далеко не всегда идут на контакт с психологом и в
особенности со школьным, справедливо опасаясь разглашения семейных тайн.
Поэтому хорошим результатом работы школьного психолога будет, если семья примет
решение проконсультироваться со специалистом по семейным вопросам. Если семья
не желает ничего менять в своем укладе, даже несмотря на явные проблемы ребенка,
нужно, тем не менее, попытаться войти в контакт хотя бы с одним из родителей.
Абсолютно бесполезно стараться заменить ребенку кого-либо из отсутствующих
родителей, конфликтовать с системой, присоединяться к ней в качестве еще одного
(конструктивного) члена семьи. Эти ошибки приведут лишь к обострению ситуации и
ничего не изменят в состоянии ребенка.
Как мы уже отмечали ранее, признаком дисфункциональных отношений в семье может быть любое неконструктивное поведение ребенка и любые тяжелые эмоциональные состояния. Здесь мы коснемся таких распространенных явлений у детей младшего школьного возраста, как страхи и «школьная фобия».
Страх — это аффективное отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека. Если говорить в
самом общем виде, то эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего стимула и имеет ярко выраженный защитный характер, заставляющий человека мобилизовывать свои силы для отражения опасности. Таким образом, страх — это естественная реакция живого организма в конкретных ситуациях опасности. Обычно страхи кратковременны и обратимы, они не затрагивают ценностные ориентации человека и не влияют на его характер, поведение и отношения с окружающими людьми (естественные страхи). Однако нас интересуют страхи, которые носят затяжной, повторяющийся характер. Помимо страхов как следствие посттравматического стресса, если своевременно не оказана помощь ребенку и возрастных страхов, которые проходят бесследно по мере взросления ребенка, существует масса причин, по которым страхи сопровождают детей в течение многих лет. Это так называемые
личностно обусловленные страхи, в основе которых — особенности воспитания и взаимодействия родителей с ребенком.
Возрастные (естественные) страхи. Девочки больше, чем мальчики, подвержены различного рода страхам. Наибольшее ко
![]() личество страхов приходится
на возраст 6 — 8 лет. Для детей 7 — 11 лет характерно уменьшение
эгоцентрической и увеличение социоцентрической направленности личности. Это
связано с изменением социального статуса ребенка — он становится школьником.
Общество предъявляет ребенку новые требования, которые связаны с чувством
ответственности, долга, новыми обязанностями. Ведущий страх в этом возрасте —
быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и понимают. Это может
выражаться в конкретных страхах «сделать неправильно, не так как надо»,
«опоздать в школу», страх «не успеть сделать уроки». Если критерии оценки
личных достижений своевременно вырабатываются, то ребенок получает возможность
оценивать собственные действия. Именно в младшем школьном возрасте
закладывается основа самоуважения, основанного на сочетании требований социума
и собственных возможностей.
личество страхов приходится
на возраст 6 — 8 лет. Для детей 7 — 11 лет характерно уменьшение
эгоцентрической и увеличение социоцентрической направленности личности. Это
связано с изменением социального статуса ребенка — он становится школьником.
Общество предъявляет ребенку новые требования, которые связаны с чувством
ответственности, долга, новыми обязанностями. Ведущий страх в этом возрасте —
быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и понимают. Это может
выражаться в конкретных страхах «сделать неправильно, не так как надо»,
«опоздать в школу», страх «не успеть сделать уроки». Если критерии оценки
личных достижений своевременно вырабатываются, то ребенок получает возможность
оценивать собственные действия. Именно в младшем школьном возрасте
закладывается основа самоуважения, основанного на сочетании требований социума
и собственных возможностей.
При работе с такого рода страхами без помощи родителей не обойтись. В этом возрасте критерии успеха или неуспеха закладывают родители и школьная система оценки успеваемости. Задача психо-
лога-консультанта — помочь родителям найти баланс между требованиями школы, их требованиями и возможностями ребенка.
Отделение от родителей, в особенности от матери, активизирует страх смерти родителей. И помимо «школьных» страхов для детей этого возраста типичен страх стихии — природных катаклизмов: бури, урагана, наводнения, землетрясения. Этот страх отражает магическое мышление, присущее данному возрасту: различного рода суеверия, предсказания и знаки.
Личностно обусловленные страхи. Это страхи, которые появились вследствие осознанного или неосознанного внушения или в результате психотравмирующих условий воспитания.
На возникновение страхов могут влиять:
1) неизжитые и не проработанные страхи родителей, и прежде всего мамы;
2) алкоголизм, наркомания, насилие в семье, в том числе и по отношению к ребенку;
3) тяжелая конфликтная атмосфера в семье;
4) нервно-психические перегрузки матери;
5) непомерные требования родителей, чаще всего к единственному ребенку;
6) эмоциональная отчужденность и холодность матери;7) излишняя тревожность и опека матери.
«Школьная фобия». Фобии — это навязчивые страхи, когда существует непроизвольная болезненная фиксация на каких-
либо пережитых, травмирующих событиях ж изни.
![]() Мы
остановимся лишь на «школьной фобии» — страхе перед посещением школы. Это
явление довольно широко распространено в первые годы обучения в школе. Иногда
страх вызван конфликтами со сверстниками, боязнью проявлений агрессии с их
стороны. Иногда — это реакция на агрессию учительницы, на ее строгость и
взыскательность. Но чаще всего это скорее не страх посещения школы, а страх
ухода из дома, разлуки с родителями (мамой).
Мы
остановимся лишь на «школьной фобии» — страхе перед посещением школы. Это
явление довольно широко распространено в первые годы обучения в школе. Иногда
страх вызван конфликтами со сверстниками, боязнью проявлений агрессии с их
стороны. Иногда — это реакция на агрессию учительницы, на ее строгость и
взыскательность. Но чаще всего это скорее не страх посещения школы, а страх
ухода из дома, разлуки с родителями (мамой).
«Школьной фобии» подвержены подчеркнуто самолюбивые, с завышенным уровнем притязаний дети, которые не приобрели до школы необходимого опыта общения со сверстниками, не ходили в детский сад, чрезмерно привязаны к матери и недостаточно уве
рены в себе. В этом случае они боятся не оправдать ожидания родителей, одновременно испытывая трудности адаптации в школьном коллективе и отраженный от родителей страх перед учительницей (Захаров, 2000). Страх может выражаться как в активном нежелании уходить из дома по утрам (слезы, крики, цепляние за маму), так и в молчаливом саботаже, например в повышении температуры по понедельникам утром.
Работа со страхами. При работе со страхами (так же, как и с другими темами) детей данного возраста предпочтительны рисо
вание, лепка, игры, истории и сказки.
222
В игровой и художественной деятельности ребенок получает возможность не только отражать окружающую действительность, но и моделировать ее и выражать свое к ней отношение.
В процессе рисования, игры и других творческих занятий с ребенком необходимо соблюдать несколько условий:
1) процесс должен регулироваться самим ребенком. Это означает, что он рисует то, что считает нужным, разыгрывает только
то, что ему интересно. Роль психолога — сопровождающая и любопытствующая;
2) следует обязательно хвалить любой продукт, произведенный ребенком;
3) нельзя указывать ребенку, что должно получиться, и не следует выказывать недовольства или разочарования, если ребенок делает не то, что хотелось бы психологу;
4) следует помнить, что при конфликтующих родителях и при дисфункциональных отношениях в семье результаты избавления от страха будут намного ниже;
5) не рекомендуется рисовать или разыгрывать сцены со смертью родителей.
А л г о р и т м р а б о т ы со с т р а х о м может быть следующим (опуская обязательные шаги по знакомству, сбору первичной информации и вступления в доверительный контакт).
1. Выявление конкретных страхов. Их может быть несколько.
2.
![]() Встреча
со страхом. Нарисовать, разыграть, слепить сам конкретный страх. При этом
мобилизуются силы на борьбу со страхом и преодолевается внутренний
психологический барьер — страх страха. Вполне возможно, что ребенок не сможет
сразу нарисовать или показать свой страх. Не стоит торопиться, ребенку нужно
время, чтобы подготовиться к выполнению задания. При рисовании, лепке, образном
представлении страха он становится зримым и приобретает знакомые черты, он
становится понятнее. Кроме того, любой творческий акт неотделим от различного
рода эмоций, которые постепенно гасят эмоцию страха.
Встреча
со страхом. Нарисовать, разыграть, слепить сам конкретный страх. При этом
мобилизуются силы на борьбу со страхом и преодолевается внутренний
психологический барьер — страх страха. Вполне возможно, что ребенок не сможет
сразу нарисовать или показать свой страх. Не стоит торопиться, ребенку нужно
время, чтобы подготовиться к выполнению задания. При рисовании, лепке, образном
представлении страха он становится зримым и приобретает знакомые черты, он
становится понятнее. Кроме того, любой творческий акт неотделим от различного
рода эмоций, которые постепенно гасят эмоцию страха.
3. Рассказ о том, что нарисовал или слепил, или описать образ страха в сказочной форме, или изобразить его в лицах. После этого следует спросить: «Ты нарисовал этот страх, а теперь скажи, боишься его или нет?»
4. После каждого задания, связанного со страхом, игра с ребенком в подвижные игры. После этого задания — игра, где есть некоторый риск (кегли, сражение на шпагах, дартс). Игра строит
ся таким образом, чтобы ребенок выигрывал.
5. Портрет или показ себя, который не боится этого страха. Нужно изобразить не только сам страх — ребенок должен нарисовать (или вылепить) себя, который победил страх в некотором новом взаимодействии. Например: ребенок бьет страх палкой или корчит ему рожи и дразнит его. Могут иметь место различные способы совладания со страхом. Нет единого способа, одинаково пригодного для всех детей, — это внутренний ресурс, который становится сознательно задействованным.
6. Закрепление достигнутого результата. Еще раз встреча со страхом: либо предъявляются самые первые рисунки и опять спрашивается: «боишься или не боишься?», либо используются игрушки, которые первоначально вызывали страх.
Более подробное описание природы страхов, их содержания, а также работы с ними можно прочитать в книге А. И. Захарова «Дневные и ночные страхи у детей».
6.1.3. Посттравматический стресс и посттравматическое
Посттравматический стресс (ПТС) появляется после травмирующего события, выходящего за пределы нормального человеческого опыта, при котором глубоко затронута психика человека 133]. Посттравматический стресс — это «нормальная реакция человека на ненормальные обстоятельства» [91, с. 7]. Возникающие после травматического стресса реакции естественны и помогают человеку справиться с неординарной ситуацией, носят защитный характер.
![]() Однако
при длительном воздействии стресса, связанном со смертью близких людей, а также
при «нагруженности» стрессового события предшествующим опытом (например,
повторная травматизация или психотравмирующие условия воспитания),
травматический стресс может приобрести патологическое течение, при котором
возникает пост т равм ат ическое ст рессовое р а с стройство (ПТСР) — «отставленная и/или
затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию (кратковременную или
продолжительную) исключительно угрожающего или катастрофического характера»
[79, с. 39].
Однако
при длительном воздействии стресса, связанном со смертью близких людей, а также
при «нагруженности» стрессового события предшествующим опытом (например,
повторная травматизация или психотравмирующие условия воспитания),
травматический стресс может приобрести патологическое течение, при котором
возникает пост т равм ат ическое ст рессовое р а с стройство (ПТСР) — «отставленная и/или
затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию (кратковременную или
продолжительную) исключительно угрожающего или катастрофического характера»
[79, с. 39].
Различают острые ПТСР (продолжительностью менее трех месяцев), хронические (продолжительностью три месяца и более) и отсроченные (проявляющиеся через шесть месяцев после травма
тического события).
Посттравматические нарушения в обобщенном виде характеризуются:
— повторением травматического переживания в мыслях, снах и воспоминаниях;
— ослаблением связей с жизнью, проявляющимся в сдерживании эмоций, ощущении оторванности от других и уменьшении активности в значимых видах деятельности;
224
— возникновением и развитием психосоматических симптомов (нарушение сна, расстройства памяти).
Специфических детских особенностей ПТСР нет, но есть возрастная специфика, проявляющаяся в том, что на разных возрастных этапах на первый план выходят те или иные симптомы.
В табл. 4 приводится примерный перечень стрессовых реакций и посттравматических расстройств у детей [58].
Мы рассмотрим т р и в и д а т р а в м а т и ч е с к и х с о б ы т и й , к о т о р ы е н а и б о л е е ч а с т о в с т р е ч а ю т с я в п р а к т и к е ш к о л ь н о г о к о н с у л ь т а н т а : потеря близкого
человека (смерть, развод); насилие; потеря дома и родины в результате миграции.
![]() Потеря близкого человека. Здесь объединяются смерть и
потеря родителя в результате развода, поскольку уход одного из родителей из
дома всегда является потерей, даже если ребенок продолжает общаться с ушедшим
родителем. Мы расскажем о «нормальном течении горя» и далее о патологическом
процессе, чтобы различать виды помощи, которые необходимо оказывать в том или
ином случае.
Потеря близкого человека. Здесь объединяются смерть и
потеря родителя в результате развода, поскольку уход одного из родителей из
дома всегда является потерей, даже если ребенок продолжает общаться с ушедшим
родителем. Мы расскажем о «нормальном течении горя» и далее о патологическом
процессе, чтобы различать виды помощи, которые необходимо оказывать в том или
ином случае.
При естественном процессе переживания травматического стресса осуществляется процесс естественного самоисцеления, который проходит несколько э т а п о в и л и ф а з [91].
Э т а п 1 — шок и оцепенение, неверие в произошедшее. Это состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких недель, в среднем десять дней. Оцепенение — наиболее заметная черта этого состояния. Как ни странно, человек на этой фазе чувствует себя вполне хорошо. Он не страдает, снижается чувствительность к боли и даже «проходят» беспокоившие заболевания. Человек настолько ничего не чувствует, что даже рад был бы почувствовать
хоть что-нибудь. Его бесчувственность расценивается окружающими как недостаточность любви и эгоизм. От горюющего требуют бурного выражения эмоций, если же человек не может заплакать, то его упрекают и винят. Между тем именно такое «бесчувствие» свидетельствует о тяжести и глубине переживаний. И чем дольше длится этот «светлый» промежуток, тем дольше и тяжелее будут последствия.
Для этой фазы характерна утрата аппетита, нередко возникающая мышечная слабость, малоподвижность, иногда сменяющаяся минутами суетливой активности.
В сознании человека появляется ощущение нереальности происходящего, душевное онемение, бесчувственность, оглушенность, и тогда, в последующем, нередко возникают пробелы в воспоми
наниях об этом периоде.
Шок переносит в тот период, когда близкий человек был еще жив. Настоящее сопровождается так называемыми дереализаци-
Дошкольный и младший Младший школьный и ранний Подростковый возраст и ранний
Изменения
школьный возраст (4 — 7 лет) подростковый возраст (8—11 лет) юношеский возраст (12—17 лет)
Физиологи Нарушения сна — частые про Нарушения сна. Боли в живо Нарушения сна. Головные ческие сыпания, кошмары и т.д. Эну те. Тошнота. Рвота. Расстрой боли. Тремор. Тики
рез, экопрез. Боли в животе ства стула. Частое мочеиспускание
![]() Эмоцио Генерализованный страх. На Озабоченность
своей ответст Стыд и чувство вины. Страх нальные рушения
речи — отказ от речи, венностью и/или виной. оказаться
ненормальным. «немые вопросы» и др. Трево Специфические страхи,
запу Жажда мстить и построение ги, связанные с непониманием скаемые
воспоминаниями планов мести. Острое чувство смерти, фантазии о
«лечении или пребыванием в одиноче одиночества от смерти»;
ожидания, что стве. Страх быть подавленумершие могут вернуться, на ным
собственным переживапасть. Агрессивность нием. Страх и чувство
изме
Эмоцио Генерализованный страх. На Озабоченность
своей ответст Стыд и чувство вины. Страх нальные рушения
речи — отказ от речи, венностью и/или виной. оказаться
ненормальным. «немые вопросы» и др. Трево Специфические страхи,
запу Жажда мстить и построение ги, связанные с непониманием скаемые
воспоминаниями планов мести. Острое чувство смерти, фантазии о
«лечении или пребыванием в одиноче одиночества от смерти»;
ожидания, что стве. Страх быть подавленумершие могут вернуться, на ным
собственным переживапасть. Агрессивность нием. Страх и чувство
изме
ненности, вызванное собственными реакциями горя, страх призраков, привидений и т. п.
Когнитив Познавательные трудности. Нарушения концентрации Нарушения концентрации ные Приписывание воспоминани внимания. Нарушения памя внимания, рассеянность. На
ям о травме мистических ти. Трудности при обучении рушения памяти. Осмыслесвойств. Трудности осознава ние своих страхов, чувства
ния причин своего беспокой уязвимости и других эмоцио
ства нальных реакций
Таблица 4
![]()
онными и деперсонализаиионными ощущениями («это происходит не со мной», «как будто это происходит в кино»). В случае когда родитель внезапно покинул дом, ребенок отказывается верить в то, что тот ушел окончательно. Он продолжает ждать и верить,
ждет у двери, бросается к телефону на каждый звонок, не слышит и не понимает слова, когда ему говорят, что папа (или мама) больше не будет жить с ними. Главное на первом этапе — это признание самого факта потери.
Внешне на этой фазе человек выглядит, в общем, как всегда.
![]() Ведет себя как обычно,
выполняет свои обязанности — учится, работает, помогает по хозяйству. (Это,
кстати, дает основание окружающим восхищаться его «мужеством» и «силой воли»,
что столь же безосновательно, как и обвинять его в «бесчувствии»). Конечно,
если внимательно присмотреться, то можно заметить некоторые особенности. Так,
движения его несколько механические (как будто бы робот), лицо амимично,
неподвижно. Речь невыразительная, малоинтонированная. Немножко запаздывает с
реакцией: отвечает не сразу, а чуть-чуть помедлив. Двигается и говорит немного
замедленно. Сильных чувств не проявляет вовсе, временами может даже улыбаться и
т. п.
Ведет себя как обычно,
выполняет свои обязанности — учится, работает, помогает по хозяйству. (Это,
кстати, дает основание окружающим восхищаться его «мужеством» и «силой воли»,
что столь же безосновательно, как и обвинять его в «бесчувствии»). Конечно,
если внимательно присмотреться, то можно заметить некоторые особенности. Так,
движения его несколько механические (как будто бы робот), лицо амимично,
неподвижно. Речь невыразительная, малоинтонированная. Немножко запаздывает с
реакцией: отвечает не сразу, а чуть-чуть помедлив. Двигается и говорит немного
замедленно. Сильных чувств не проявляет вовсе, временами может даже улыбаться и
т. п.
Несмотря на все внешнее обманчивое благополучие, объективно человек находится в довольно тяжелом состоянии. И одна из опасностей состоит в том, что в любую минуту оно может смениться так называемым острым реактивным состоянием, когда человек вдруг начинает биться головой о стену, выбрасываться из окна,
т. е. становится «буйным».
Окружающие, чья бдительность усыплена, не всегда могут оказаться готовы к этому.
Помощь ребенку на первом этапе состоит в следующем.
1. Необходимо поставить всех учителей в известность о произошедших изменениях в жизни ребенка. Попросить их быть особенно внимательными к изменениям состояния этого ребенка.
2. Следует подойти к ребенку и сказать, что вы знаете о том, что у него произошла потеря, и всегда готовы помочь ему, если он этого захочет.
3. Нужно найти возможность войти в контакт с наиболее адекватным родственником ребенка. Например, если умерла бабушка (мама мамы), то таким человеком может быть отец или другая бабушка. Если из семьи ушел отец, то можно поговорить с бабушкой, так как мать, скорее всего, находится в таком же шоковом со
стоянии.
4. Необходимо дать рекомендации родственникам и учителям о том, как следует обращаться с ребенком на этой стадии:
— бесполезно утешать и разговаривать с ребенком, пока он находится в шоке;
— нельзя оставлять ребенка без присмотра одного;
— лучше, чтобы ребенок побыл это время дома и не ходил в школу;
— как можно чаще касаться ребенка; если ребенок заплакал в результате поглаживаний, то это хорошо — это означает, что шок прошел.
5. Следует постараться вызвать любые сильные чувства, чтобы вывести из оцепенения. Годятся любые чувства, даже злость и ярость.
Э т а п 2 — страдание и дезорганизация. Продолжается 6 — 8 недель, в среднем 40 дней. Сохраняются и могут даже усиливаться различные телесные реакции — затрудненное укороченное дыхание, мышечная слабость, астения, утрата энергии, ощущение тяжести любого действия, чувство пустоты в желудке, стеснение в груди, ком в горле, повышенная чувствительность к запахам, снижение или чрезвычайное усиление аппетита, сексуальные дисфункции, нарушения сна.
![]() Это
период наибольших страданий, острой душевной боли. Появляется множество
тяжелых, иногда странных и пугающих мыслей и чувств — ощущения пустоты и
бессмысленности, отчаяние, чувство брошенности, одиночества, злость, вина,
страх и тревога, беспомощность. Типичны необыкновенная поглощенность образом
умершего и его идеализация, особенно к концу фазы, подчеркивание необычайных
достоинств, избегание воспоминаний о его плохих чертах и поступках. В случаях
развода ушедший родитель приобретает черты идеального родителя. Он становится
«хорошим», а оставшийся — «плохим». Горе накладывает отпечаток и на отношения с
окружающими. Здесь может наблюдаться утрата теплоты, раздражительность, желание
уединиться. В семьях после развода учащаются взаимные упреки и обвинения,
ребенок может обвинять мать в том, что отец ушел, а мать может попрекать
ребенка его плохим поведением, которое якобы и привело к разводу.
Это
период наибольших страданий, острой душевной боли. Появляется множество
тяжелых, иногда странных и пугающих мыслей и чувств — ощущения пустоты и
бессмысленности, отчаяние, чувство брошенности, одиночества, злость, вина,
страх и тревога, беспомощность. Типичны необыкновенная поглощенность образом
умершего и его идеализация, особенно к концу фазы, подчеркивание необычайных
достоинств, избегание воспоминаний о его плохих чертах и поступках. В случаях
развода ушедший родитель приобретает черты идеального родителя. Он становится
«хорошим», а оставшийся — «плохим». Горе накладывает отпечаток и на отношения с
окружающими. Здесь может наблюдаться утрата теплоты, раздражительность, желание
уединиться. В семьях после развода учащаются взаимные упреки и обвинения,
ребенок может обвинять мать в том, что отец ушел, а мать может попрекать
ребенка его плохим поведением, которое якобы и привело к разводу.
Изменяется повседневная деятельность. Человеку трудно бывает сконцентрироваться на том, что он делает, трудно довести дело до конца, а сложно организованная деятельность может на какое-то время стать и вовсе недоступной. Работа по переживанию горя становится ведущей деятельностью. Это самый тяже
лый период.
Основным переживанием выступает чувство вины. Возникают так называемые патогенные цепочки, когда человек, вспоминая событие, усматривает разнообразные намеки, которые были ему
даны («раз я знал, я мог предотвратить событие»). Чувство вины — чрезвычайно непродуктивное чувство. Человек, испытывающий чувство вины, ничего не будет делать, чтобы облегчить свое состояние. Наоборот, чем ему хуже, тем больше удовлетворяется чув
229
ство вины. Если речь идет о ребенке, взрослым нужно быть особенно внимательными к его состояниям, что даст возможность точно определить тот момент, когда может понадобиться помощь профессионала. В эмоциональной сфере такой ребенок ощущает подавленность, страх. Актуализируется, в частности, страх смерти. Ребенку начинает казаться, что все в жизни хрупко и в любой момент может закончиться, он начинает бояться за жизнь близких.
Очень характерны для данной фазы сильные нарушения памяти на текущие события. Это бывает выражено настолько сильно, что ребенок не может учиться в школе. Поэтому очень важно вовремя оказать ребенку необходимую психологическую помощь.
Окружающие замечают, что даже внешне человек, переживающий горе, очень сильно меняется. Амимичности как не бывало. Лицо становится очень выразительным, на нем застывает маска страдания. Походка меняется, человек горбится, даже волосы становятся тусклыми. Появляется масса проблем со здоровьем. Все время что-то болит. На этой фазе появляется эмоциональная лабильность — очень легко вызываются чувства, в любой момент человек готов заплакать.
Помощь на втором этапе состоит в следующем.
1. Если на первом этапе следует постоянно быть вместе с горюющим, то здесь можно и нужно дать человеку, если он того хочет, побыть одному.
2.
![]() Если
человек пожелает поговорить, то нужно всегда быть в его распоряжении, выслушать
его (даже если рассказ повторяется в сотый раз) и поддержать. Так, женщина
после развода может бесконечно рассказывать историю совместной жизни, раз за
разом вспоминая одни и те же случаи, или маниакально анализировать все мелочи и
нюансы расставания, выискивая доказательства своей вины и вины мужа. Необходимо
очень спокойно и с пониманием относиться к этим рассказам. В этом и может
состоять помощь психолога, когда в рассказы вначале немного, потом все больше и
больше вплетаются изменения, отражающие позитивную сторону потери. В случае с
разводом или уходом одного из супругов (чаще мужа), можно найти массу
положительных моментов: например, жена стала свободна и может наконец-то
заняться своей карьерой, что было невозможно при совместной жизни. Или этот
разрыв положил конец невыносимой атмосфере дома, что отрицательно сказывалось
на детях. Здесь также подходят рассказы о таких же женщинах, которые пережили
кризис расставания («точно как у вас») и все у них стало хорошо, даже лучше
прежнего. Клиент сам подскажет, какие положительные выводы он может вынести.
За
Если
человек пожелает поговорить, то нужно всегда быть в его распоряжении, выслушать
его (даже если рассказ повторяется в сотый раз) и поддержать. Так, женщина
после развода может бесконечно рассказывать историю совместной жизни, раз за
разом вспоминая одни и те же случаи, или маниакально анализировать все мелочи и
нюансы расставания, выискивая доказательства своей вины и вины мужа. Необходимо
очень спокойно и с пониманием относиться к этим рассказам. В этом и может
состоять помощь психолога, когда в рассказы вначале немного, потом все больше и
больше вплетаются изменения, отражающие позитивную сторону потери. В случае с
разводом или уходом одного из супругов (чаще мужа), можно найти массу
положительных моментов: например, жена стала свободна и может наконец-то
заняться своей карьерой, что было невозможно при совместной жизни. Или этот
разрыв положил конец невыносимой атмосфере дома, что отрицательно сказывалось
на детях. Здесь также подходят рассказы о таких же женщинах, которые пережили
кризис расставания («точно как у вас») и все у них стало хорошо, даже лучше
прежнего. Клиент сам подскажет, какие положительные выводы он может вынести.
За
дача не убеждать, а чуть усилить и развить то, что клиент мельком или вскользь упомянул.
![]() Еще
один способ — это расширять восприятие мира. При горе вся жизнь сворачивается в
маленький комок боли, который крутится вокруг одного единственного события.
Постепенно, расширяя границы мира, который окружает человека, вплетая его жизнь
в жизнь многих и многих людей, в космическое пространство, снижается
масштабность события, даже если это смерть близкого и горячо любимого человека.
На этом этапе — этапе проживания горя — хорошо работают техники символдрамы,
где рекомендуется вызывать положительные картины в воображении, а также
реализуется возможность посмотреть на ситуацию из космического пространства.
Еще
один способ — это расширять восприятие мира. При горе вся жизнь сворачивается в
маленький комок боли, который крутится вокруг одного единственного события.
Постепенно, расширяя границы мира, который окружает человека, вплетая его жизнь
в жизнь многих и многих людей, в космическое пространство, снижается
масштабность события, даже если это смерть близкого и горячо любимого человека.
На этом этапе — этапе проживания горя — хорошо работают техники символдрамы,
где рекомендуется вызывать положительные картины в воображении, а также
реализуется возможность посмотреть на ситуацию из космического пространства.
3. Не нужно утешать человека, когда он плачет. Наоборот, надо дать ему разрешение на плач, объяснив, что плач является необходимым для «работы» горя, что оплакивание потери всегда было включено в культурные традиции многих народов, и только нынешнее общество считает это проявлением слабости, таким обра
зом блокируя нормальную работу горя. Ребенку также следует объяснить, что плакать не стыдно, а, наоборот, очень полезно. Особенно трудно плакать мальчикам-подросткам, которые, стремясь соответствовать неким стандартам, предписывающим мужчинам не проявлять слабости ни при каких обстоятельствах, крепятся и не плачут и не могут пережить потерю до конца.
4. Следует формировать чувство реальной вины. Особенно это полезно, когда мать целиком и полностью уходит в свои переживания по поводу потери мужа или своей матери. Чувство вины за то, что она забросила детей, которым также плохо, что она думает только о себе, позволяет вернуть ее в реальность и перестать казнить себя за совершенные ошибки и несовершенные дела.
5. Нужно начать понемногу приобщать человека к общественно полезной деятельности: отправить в школу или на работу, начать загружать домашней работой. Это очень полезно, ибо дает возможность отвлечься от основной проблемы. Естественно, режим должен быть щадящим, так как человек еще ослаблен.
6. Несмотря на то что человек находится в тяжелом состоянии, не нужно постоянно демонстрировать ему свое сочувствие и относиться к нему, как к тяжело больному. Наоборот, излишнее сочувствие может раздражать, а поблажки и послабления могут выработать позицию вечно страдающего человека. Дети очень быстро находят массу выгод в ситуациях потерь. Понимая тяжесть
утраты, взрослый, тем не менее, продолжает предъявлять свои требования к ребенку, тем самым показывая, что жизнь продолжается и все идет своим чередом.
П р и м е р . К психологу-консультанту по рекомендации учительницы пришла девочка-подросток, у которой недавно умерла бабушка. Девочка боялась оставаться дома одна, так как бабушка
231
умерла в то время, когда девочка была одна дома. Девочке все время казалось, что в соседней комнате лежит мертвая бабушка. Была проведена работа — воображаемый разговор с умершей бабушкой,
после чего в игровом пространстве девочка вошла в комнату и убе
дилась, что бабушки там нет. Страх ушел, но через несколько дней девочка подбежала к психологу и заговорщическим тоном попросила взять ее с урока на консультацию, а то у нее контрольная. На что психолог попросил девочку прийти после урока.
Э т а п 3 — остаточные толчки и реорганизация. Этот этап наступает приблизительно через 40 дней после события и продолжается примерно год.
![]() На
этой фазе жизнь входит в свою колею, восстанавливаются сон, аппетит,
повседневная деятельность, умерший перестает быть главным сосредоточением
жизни. Переживание горя теперь не ведущая деятельность, оно протекает в виде
отдельных приступов. Такие остаточные приступы горя могут быть столь же
острыми, как и в предыдущей фазе, а на фоне нормального существования
субъективно воспринимаются как еще более острые. Поводом для них чаще всего
служат какие-то даты, традиционные события. Эта фаза длится примерно год. За
этот период утрата постепенно входит в жизнь: человеку приходится решать
множество новых задач, и эти практические задачи переплетаются с самим
переживанием.
На
этой фазе жизнь входит в свою колею, восстанавливаются сон, аппетит,
повседневная деятельность, умерший перестает быть главным сосредоточением
жизни. Переживание горя теперь не ведущая деятельность, оно протекает в виде
отдельных приступов. Такие остаточные приступы горя могут быть столь же
острыми, как и в предыдущей фазе, а на фоне нормального существования
субъективно воспринимаются как еще более острые. Поводом для них чаще всего
служат какие-то даты, традиционные события. Эта фаза длится примерно год. За
этот период утрата постепенно входит в жизнь: человеку приходится решать
множество новых задач, и эти практические задачи переплетаются с самим
переживанием.
В начале этой фазы основная задача состоит в том, чтобы наладить жизнь без человека, который ушел. По сути — это переструктурирование жизни. Если женщина осталась одна с детьми, то многие дела, которые раньше делал муж, ей приходится теперь делать самой. Ко многим вещам люди оказываются не приспособлены или не привыкли их делать. И многому нужно учиться. Прежде всего это касается социальной жизни, но важны и такие моменты: от кого теперь получать поддержку; как выстраивать взаимоотношения с друзьями, если дружили парой, и т. п.
Помощь на третьем этапе заключается в поддержке и переосмысливании жизни без ушедшего человека. Для ребенка важно, как он будет выстраивать отношения с родными. В случае смерти близкого человека он вынужден взять на себя некоторые обязанности, например помощь по дому. При разводе много хлопот до
ставляет определение расписания встреч с родителем, проведение праздников и выходных и т.д.
Главное, чтобы родители не решали свои проблемы за счет ребенка, чтобы ребенок не становился разменной монетой, когда встречи регламентируются местью или количеством выдаваемых
денег. Поэтому на протяжении года необходимо поддерживать контакт с родителями ребенка, защищая его интересы в случае его использования.
Э т а п 4 — завершение. Смысл и задача «работы» горя на этом этапе состоят в том, чтобы образ умершего занял свое постоянное место в жизни. Признаком этой фазы является то, что человек, вспоминая об умершем, переживает уже не горе, а печаль — совершенно иное чувство. И эта печаль уже остается навсегда в сер
дце человека, потерявшего близкого. В случае развода на этой фазе жизнь семьи становится стабильной уже в ином составе.
![]() Помощь
на завершающей стадии заключается в том, чтобы найти умершему место в душе и
окончательно попрощаться с ним. Например, можно нарисовать место, где умерший
будет теперь жить. Или найти место в душе (теле), где будет храниться память о
нем, или устроить окончательный разговор с прощанием, где будет получено
разрешение жить дальше без умершего. При разводах — это окончательное
освобождение от прежних отношений, некое подведение итогов. Можно подвести
черту под важным этапом жизни с этим человеком и повернуться лицом к новой
жизни и новым отношениям.
Помощь
на завершающей стадии заключается в том, чтобы найти умершему место в душе и
окончательно попрощаться с ним. Например, можно нарисовать место, где умерший
будет теперь жить. Или найти место в душе (теле), где будет храниться память о
нем, или устроить окончательный разговор с прощанием, где будет получено
разрешение жить дальше без умершего. При разводах — это окончательное
освобождение от прежних отношений, некое подведение итогов. Можно подвести
черту под важным этапом жизни с этим человеком и повернуться лицом к новой
жизни и новым отношениям.
Патологическое горе. Нормальная «работа» горя может стать патологическим процессом, если человек «застревает» на одной из фаз. Как правило, на второй. Это приводит к тяжелейшим последствиям, когда человек обречен бесконечно долго переживать острую фазу горя — самую тяжелую, самую болезненную.
Е. М. Черепанова выделяет следующие п р и ч и н ы возникновения п а т о л о г и ч е с к о г о г о р я [91]:
1) конфликты или ссоры с близким человеком перед его смертью;
2) невыполненные обещания;
3) определенные обстоятельства смерти близкого.
Норвежский психолог Алле Дыгеров предложил классифицировать ситуации в зависимости от риска возникновения патологического горя у детей. Он различает горе и травму. Горе — нормальный процесс, а травма — процесс образования синдрома посттравматических нарушений. На с. 234 перечислены возможные обстоятельства, вызвавшие горе и сопутствующие ему. Чем больше на схеме характеристики ситуации смещаются вправо, тем боль
ше риск возникновения патологического горя [91].
Из схемы видно, что легче всего переносится ожидаемая утрата, когда ребенок при смерти не присутствует. Гораздо более травматичными являются случаи, когда ребенок сталкивается с насиль
ственной смертью. К самым травматогенным относятся ситуации, когда ребенок был вовлечен в тот несчастный случай, катастрофу или войну, которые унесли жизнь его близких, но сам он выжил. Работа горя значительно осложняется в таком случае виной выжившего.
Детское восприятие того, что произошло, также сильно зависит от возраста и психологической зрелости. Более маленькие дети
233
Ожидаемая утрата; ребенок подготовлен.
Ожидаемая утрата; ребенок не подготовлен.
Неожиданная утрата — внезапная смерть, болезнь; ребенок не присутствует.
Неожиданная утрата — несчастный случай, катастрофа, война; ребенок не присутствует.
Неожиданная утрата — убийство, самоубийство; ребенок не присутствует.
Неожиданная утрата — внезапная смерть, болезнь; ребенок — очевидец.
Неожиданная утрата — убийство, самоубийство;
ребенок — очевидец.
Неожиданная утрата — несчастный случай, катастрофа, война;
ребенок — выживший.
Травма
Схема возникновения риска паталогического горя [см. 91].
иногда вообще могут не понимать смысла происшедшего. Но половые различия в реакциях на то, что произошло, очевидны. Девочки легче могут говорить о своих мыслях, впечатлениях и реакциях, чем мальчики, что в значительной мере способствует их бо
лее быстрому исцелению;
4) «Непохороненные мертвецы» — без вести пропавшие, те, чьи тела не были найдены, те, о смерти которых не сообщили близким, и т.п.
Дело в том, что, пока событие не произошло, работа горя в полной мере начаться не может. Эта ситуация предельно тяжела. Си
![]() туация неопределенности
страшна сама по себе. Любая, пусть даже самая страшная, определенность — лучше.
Надежда здесь играет отрицательную роль. Собственно, она-то и не дает
возможности начать процесс переживания горя. Пока жива надежда, человек
туация неопределенности
страшна сама по себе. Любая, пусть даже самая страшная, определенность — лучше.
Надежда здесь играет отрицательную роль. Собственно, она-то и не дает
возможности начать процесс переживания горя. Пока жива надежда, человек
обречен вечно за нее цепляться. Поэтому можно помочь человеку, отнимая у него надежду. Как ни странно это звучит.
Отсюда вытекает одна из самых абсолютных рекомендаций, касающаяся психологии горя, — всегда и во всех случаях надо сообщать о смерти близкого [91].
То же самое касается и ситуаций развода. Нет сложнее и мучительнее жизни в подвешенном состоянии, когда супруг (супруга) ушел и не ушел. Довольно часто муж (или жена), который ушел из
дома к другому человеку, не говорит ясно о том, что уход окончателен, появляется дома, иногда ночует, живет на два дома, что-то обещает. Такие ситуации могут длиться месяцами, а иногда и годами. Никакие новые отношения не могут развиваться, поскольку незавершенные предыдущие отношения никогда не позволят
развиться новым. Работы горя не было, расставание не было оплакано и отношения не завершились.
![]() Ребенку
очень тяжело находиться с оставшимся родителем, который ждет возобновления
отношений. В это время у родителя могут появляться временные партнеры, родитель
может начать манипулятивную борьбу за возвращение супруга, включая в борьбу и
ребенка. Еще хуже, когда ушедший родитель напрочь забывает о своем ребенке, как
будто его и не было. Ребенок надеется хотя бы на то, что родитель позвонит,
скучает и никак не может смириться с тем, что его бросили. В таком случае
психологическая помощь очень сильно затруднена, ребенок все равно будет ждать и
надеяться. Единственный способ — разыскать с помощью род
Ребенку
очень тяжело находиться с оставшимся родителем, который ждет возобновления
отношений. В это время у родителя могут появляться временные партнеры, родитель
может начать манипулятивную борьбу за возвращение супруга, включая в борьбу и
ребенка. Еще хуже, когда ушедший родитель напрочь забывает о своем ребенке, как
будто его и не было. Ребенок надеется хотя бы на то, что родитель позвонит,
скучает и никак не может смириться с тем, что его бросили. В таком случае
психологическая помощь очень сильно затруднена, ребенок все равно будет ждать и
надеяться. Единственный способ — разыскать с помощью род
ственников и даже милиции исчезнувшего родителя и объяснить ему о вреде подобного поведения для психики ребенка.
5) Низкая самооценка ребенка, отсутствие веры в собственные силы и несформированность навыков решения жизненных про
блем.
При низкой самооценке любое травмирующее событие воспринимается как уничтожение Я. Человек начинает думать о том, что это именно с ним такое могло случиться, что почему-то с другими
людьми этого не происходит. Особенно ярко это проявляется в случаях насилия (сексуального в том числе) и при разводах. Самое первое, что страдает — это самооценка.
Мы уже говорили о том, что степень травматизации зависит от того, насколько длительными было травмирующее событие и от того, насколько своевременно ребенок получил помощь. Еще раз хотелось бы отметить, что травма сама по себе не проходит. Если ребенку вовремя не оказать помощь, то травма уходит глубоко внутрь, вытесняется, но не проживается. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что поведение ребенка не всегда указывает на наличие переживаний. Часто ребенок ведет себя как обычно, даже может весело играть, но это не означает, что ему «все равно».
Насилие над ребенком. Поговорим о насилии, которое не всегда поддается идентификации именно как насилие. Мы привык
ли считать насилием физические побои, но часто не признаем насилием пренебрежение потребностями ребенка или систематические унижения и оскорбления ребенка.
235
Насилием принято считать жестокое обращение с ребенком, которое наносит вред физическому или психическому развитию ребенка, угрожает его развитию или жизни. Различают четыре общих типа жестокого обращения с детьми: 1) физическое насилие; 2) сексуальное насилие; 3) пренебрежение потребностями ребенка; 4) эмоциональное насилие.
Физическое насилие — нанесение ребенку физических травм и телесных повреждений, применение жестоких физических наказаний. К физическому насилию относят принуждение к употреблению наркотических веществ, алкоголя, медицинских препаратов и токсичных веществ.
![]() К
физическому насилию относят и такой его редко распознаваемый подвид, как
синдром Munchausen by proxy, который заключается в том, что человек, обязанный
заботиться о ребенке, выдумывает фиктивную болезнь или провоцирует заболевание,
вследствие чего ребенок подвергается неприятным и часто вредным медицинским
вмешательствам [20; 2].
К
физическому насилию относят и такой его редко распознаваемый подвид, как
синдром Munchausen by proxy, который заключается в том, что человек, обязанный
заботиться о ребенке, выдумывает фиктивную болезнь или провоцирует заболевание,
вследствие чего ребенок подвергается неприятным и часто вредным медицинским
вмешательствам [20; 2].
Если ребенок пришел в школу с синяками, то следует обратить на это самое пристальное внимание. Как правило, подобные случаи не однократны. На наличие систематических избиений указывают следующие признаки [см. 2]:
— необъяснимая отсрочка в обращении родителя и ребенка за помощью в медицинское учреждение;
— в сообщаемой истории имеются противоречия;
— история несовместима с физическими травмами;
— получение повторных подозрительных травм;
— родители переносят ответственность за травму на других лиц;
— родители объясняют, что ребенок сам виновен в полученных повреждениях;
— ребенок многократно помещался в различные учреждения для лечения травм;
— ребенок обвиняет родителей или опекуна в нанесении повреждений;
— родители в детстве подвергались насилию;
— родитель демонстрирует нереалистические и преждевременные ожидания по отношению к ребенку.
И. А. Алексеева и И. Г. Новосельский отмечают, что при встречах со специалистами родители таких детей не только не проявляли сочувствия к переживаниям и боли ребенка, озабоченности последствиями травмы, но и обвиняли своих детей, давали крайне нега
тивные, зачастую утрированные оценки их поведения: «воровка», «врун», «лгун», «слюнтяй» и т.д. Они трактовали помыслы детей как корыстные, в рассказах практически не звучало понимания ребенка, внимания к его потребностям, переживаниям, трудно
стям [2].
236
Важным фактором оценки серьезности случая является характер эмоционального реагирования ребенка. При реальном наси
лии дети испуганы, тревожны, боятся встречаться с родителями, ожидают наказания за раскрытие случившегося, часто опасаются, что после встречи с родителями их перестанут защищать (так как родители объяснят, за что они их наказали), ожидают негативного
отношения к себе.
Дети, которые наговаривают на родителей, в большей степени стараются подчеркнуть тяжесть своего положения, вызвать сочувствие к себе, сгущают краски. Однако в этих ситуациях эмоциональные реакции, как правило, не соответствуют рассказам, часто дети, описывая жуткие нападения на них, не испытывают страха перед родителями, увлекаются рассказом, получают удовольствие от внимания слушателей.
Сексуальным насилием в самом общем виде считается «вовлечение зависимых, незрелых детей и подростков в сексуальную активность, которую они не полностью осознают, на которую они не могут дать информированное согласие или которая нарушает
социальные (общественные) табу на семейные роли» [цит. по: 2]. К сексуальному насилию относятся не только собственно использование детей для удовлетворения сексуальных потребностей взрослого человека или в коммерческих целях, но также и подав
ление сексуальности путем ограничения нормального сексуального развития и естественного интереса к сексуальной стороне жизни, а также специальная эротизация детей.
Другими словами, часто встречающиеся в семьях запреты на исследование собственного тела у детей, ужас родителей и суровые наказания, когда подростка «ловят» на мастурбации, шуточки сексуального характера, которые отпускает отец или дядя в адрес взрослеющей дочери, эротически окрашенные игры с ребенком, вхождение в ванную комнату, когда подросток моется, роди
теля противоположного пола — все это является насилием и, к сожалению, очень распространено.
Последствия сексуального насилия крайне тяжелы и в основном касаются сфер самосознания (низкая самооценка, самоуважение и самопринятие) и сфер общения (проблемы в отношениях с противоположным полом).
![]() Сексуальное
насилие отягощается обычно тем, что ребенку не оказывается немедленная помощь,
хотя это совершенно необходимо. Кроме того, часто сексуальное насилие
совершается близкими людьми: отцом, братом, дедушкой, — что заставляет ребенка
разрываться между любовью и агрессией. Резко отрицательная реакция близких на
ситуацию — все это также формирует чувство вины у ребенка, который считает себя
виноватым в том, что произошло.
Сексуальное
насилие отягощается обычно тем, что ребенку не оказывается немедленная помощь,
хотя это совершенно необходимо. Кроме того, часто сексуальное насилие
совершается близкими людьми: отцом, братом, дедушкой, — что заставляет ребенка
разрываться между любовью и агрессией. Резко отрицательная реакция близких на
ситуацию — все это также формирует чувство вины у ребенка, который считает себя
виноватым в том, что произошло.
Чувство вины формируется и поддерживается следующими факторами [2J:
1) влияние социальных стереотипов и мифов, один из которых состоит в том, что жертва сама провоцирует насилие в свой адрес: «шла ночью», «накрасилась», «вызывающе одета», «выпила», «сама с ним заигрывала», «не хотела бы — никто ее не изнасиловал бы». Вероятно, миф о том, что насилие совершается в ответ на провокацию, носит защитный характер — тому, кто так думает, кажется, что «если не провоцировать, это не может произойти ни со мной, ни с моей семьей»;
2) недовольство своим поведением во время насилия (не оказала достаточного сопротивления);
3) часто встречающееся у детей и подростков любопытство, интерес к сексуальной сфере, исследование собственного тела;
4) личные отношения с насильником (большая часть сексуальных посягательств совершается знакомыми);
5) взрослый — авторитет для ребенка или подростка, он «всегда прав», и если при этом «произошло что-то постыдное», то виноватым в сознании ребенка оказывается он сам;
6) положительные физиологические ощущения, которые могут возникать во время сексуальных посягательств;
7) драматические реакции родителей («непоправимое горе», «случилось что-то стыдное, об этом никому нельзя рассказать»).
Самые тяжелые последствия возникают, когда насилие совершает родной человек (отец, отчим, который воспитывал с детства, брат или дедушка).
![]() Инцест
случается во всех слоях общества и во внешне благополучных семьях тоже.
Драматизм ситуации увеличивается тем, что мать «не замечает» насилия. Даже если
ребенок прямо говорит об этом, ему не верят. К чувству вины добавляется
ощущение предательства со стороны еще одного близкого человека, и ребенок
оказывается в полной изоляции. Надо сказать, что очень часто чувство вины и
стыда формируется самим насильником, который запугивает ребенка тем, что если
кто-то узнает, то рассердится на насильника и его посадят в тюрьму, все узнают
тайну их отношений, мама расстроится и т.д. Таким образом, перекладывается
ответственность на ребенка, который «волен» решать судьбу насильника и свою
собственную.
Инцест
случается во всех слоях общества и во внешне благополучных семьях тоже.
Драматизм ситуации увеличивается тем, что мать «не замечает» насилия. Даже если
ребенок прямо говорит об этом, ему не верят. К чувству вины добавляется
ощущение предательства со стороны еще одного близкого человека, и ребенок
оказывается в полной изоляции. Надо сказать, что очень часто чувство вины и
стыда формируется самим насильником, который запугивает ребенка тем, что если
кто-то узнает, то рассердится на насильника и его посадят в тюрьму, все узнают
тайну их отношений, мама расстроится и т.д. Таким образом, перекладывается
ответственность на ребенка, который «волен» решать судьбу насильника и свою
собственную.
И еще один момент, который напрямую связан со следующими двумя способами насилия над ребенком: пренебрежением потребностями ребенка и эмоциональным насилием. Ребенок уверен, что взрослый всегда прав, что тот не может ошибаться и делать плохие вещи, а если не прав, то в этом все равно виноват ребенок. Эта психология насилия лежит в основе нынешней системы воспитания и взращивалась она веками.
238
Пренебрежение потребностями ребенка определяется как неспособность родителей обеспечить развитие ребенка в следующих аспектах: здоровье, образование, эмоциональное развитие, питание, кров и безопасные условия проживания [2].
Под эмоциональным насилием понимается неспособность родителя или другого лица, заботящегося о ребенке, обеспечить подходящую для ребенка доброжелательную атмосферу; оно включает
действия, оказывающие неблагоприятное влияние на эмоциональное здоровье и развитие ребенка: ограничения его активности, оскорбления, осмеяния, угрозы и запугивания, дискриминацию, неприятие и другие нефизические формы враждебного обращения [2].
От физического насилия, включая и сексуальное, эти два вида отличает лишь способ, который взрослый использует, чтобы подчинить себе волю ребенка, уничтожить его как личность. Воспитанные в духе насилия, главным постулатом которого является утверждение, что дети всегда и во всем должны слушаться взрослых, сами психологи подчас с трудом идентифицируют насилие как насилие.
Например, можно ли назвать насилием такую сцену: ребенок совершил проступок, когда без спроса покинул двор и вышел на
![]() улицу; мать и отец в течение
двух часов терпеливо объясняли ребенку, что он поступил скверно, не предупредив
их о том, что уходит со двора, что мать беспокоилась и переживала, так как не
нашла его на условленном месте; ребенка попросили извиниться, однако его
простое извинение не было принято, так как родители посчитали, что оно идет не
от сердца, а выполнено формально; в течение еще получаса ребенку объясняли, что
он неблагодарный и не достоин таких славных родителей, которые только и делают,
что пекутся о его благополучии; только увидев слезы на лице ребенка,
измученного почти трехчасовой пыткой, и посчитав их признаком искреннего
раскаяния, родители ушли на кухню пить чай, а ребенок долго еще плакал,
чувствуя себя маленьким и гадким.
улицу; мать и отец в течение
двух часов терпеливо объясняли ребенку, что он поступил скверно, не предупредив
их о том, что уходит со двора, что мать беспокоилась и переживала, так как не
нашла его на условленном месте; ребенка попросили извиниться, однако его
простое извинение не было принято, так как родители посчитали, что оно идет не
от сердца, а выполнено формально; в течение еще получаса ребенку объясняли, что
он неблагодарный и не достоин таких славных родителей, которые только и делают,
что пекутся о его благополучии; только увидев слезы на лице ребенка,
измученного почти трехчасовой пыткой, и посчитав их признаком искреннего
раскаяния, родители ушли на кухню пить чай, а ребенок долго еще плакал,
чувствуя себя маленьким и гадким.
Или: можно ли назвать насилием, когда родители, естественно в самых благородных целях, залезают в ящики стола ребенка, наводят там порядок, а заодно и читают письма и дневники? Ребенка не обязательно бить, можно добиться полного послушания пу
тем систематического уничтожения воли и активности ребенка и подавления его эмоциональной сферы, запрещая чувствовать боль, обиду, злость и гнев. Алиса Миллер называет воспитание без фи
зических избиений «насилием в бархатных перчатках».
Так как же отличить насилие от помощи ребенку в ориентирах в мире?
Все, что зиждется на следующих принципах, будет насилием.
1. Взрослые выступают по отношению к детям не в роли слуг, а в роли господ.
2. Взрослые, подобно богам, судят, что справедливо, а что нет.
3. Взрослые часто гневаются (хотя их гнев порожден их же собственными внутренними проблемами, о чем они не знают).
4. Вину за свои проблемы взрослые возлагают на ребенка.
5. Взрослые полагают, что родителей всегда следует защищать.
6. Взрослые думают, что живая душа ребенка представляет для них опасность.
7. Взрослые стремятся как можно скорее «обезволить» ребенка.
8. Вообще, воспитатель полагает, что нужно как можно раньше начать «воспитывать» ребенка, чтобы он не заметил и не разгадал
намерения взрослого [50, с. 185— 186].
![]() Опираясь
на эти постулаты, детям прививают следующие у ст а н о в к и , которые прочно
входят в жизнь ребенка и порой остаются с ним на всю жизнь, заставляя в свою
очередь так же воспи
Опираясь
на эти постулаты, детям прививают следующие у ст а н о в к и , которые прочно
входят в жизнь ребенка и порой остаются с ним на всю жизнь, заставляя в свою
очередь так же воспи
тывать своего ребенка в духе насилия.
1. Неукоснительное исполнение обязанностей способно породить любовь.
2. Запретами можно убить ненависть.
3. Родители априори заслуживают уважения только потому, что они родители.
4. Дети априори не заслуживают ни малейшего уважения.
5. Послушание делает сильным.
6. Чрезмерное самоуважение вредно.
7. Заниженная самооценка способствует хорошим отношениям с людьми.
8. Ласковое обращение с ребенком («слепая любовь») оказывает на него пагубное воздействие.
9. Удовлетворение потребностей ребенка также плохо влияет на него.
10. Суровое обращение — наилучший способ сделать ребенка жизнестойким.
11. Неискренняя благодарность лучше искренней неблагодарности.
12. Главное — благопристойное поведение, а не подлинные ощущения.
13. Родители не перенесут причиненной им обиды, и Бог жестоко покарает за это ребенка.
14. Тело есть нечто грязное и омерзительное.
15. Бурное проявление чувств вредно.
16. Родители — совершенно невинные создания, напрочь лишенные каких-либо неконтролируемых инстинктов.
17. Родители всегда правы [50, с. 187— 188].
Вряд ли какой-то родитель скажет, что он специально уродует своего ребенка. Нет, он скажет, что делает все «из лучших побуж
240
дений», «во благо ребенка», «для того, чтобы ребенок вырос сильным и стойким ко всем жизненным невзгодам».
На самом деле в основе такого поведения родителей стоит стремление удовлетворить свои неосознанные потребности:
1) заставить других страдать за собственные унижения;
2) получить возможность на кого-то изливать отрицательные эмоции, вытесненные в детстве в подсознание;
3) иметь под рукой живое существо — объект для манипулирования;
4) не допустить прорыва вытесненного в подсознание в сознание, т.е. не позволить лишить себя иллюзии относительно собственного, якобы счастливого детства (это выражается опять-таки в неосознанном желании подтвердить правильность родительских принципов воспитания путем их применения на собственных детях);
5) уйти от страха неизвестности, которую несет с собой свобода;
6) убить живое начало в душе ребенка (в своей душе оно уже вытравлено);
7) отомстить за перенесенную душевную боль [50, с. 82].
![]() Алиса
Миллер в двух своих книгах «Драма одаренного ребенка» и «Вначале было
воспитание» подробно рассматривает механизмы передающегося из поколения в
поколение насилия. Психологам настоятельно рекомендуется изучить эти книги,
поскольку масштабы насилия над детьми велики. Для того чтобы понимать как
работать с родителями и почему часто они не понимают и не слышат рекомендаций
психолога, нужно разобраться в природе, в основах насилия, которое они
применяют по отношению к ребенку.
Алиса
Миллер в двух своих книгах «Драма одаренного ребенка» и «Вначале было
воспитание» подробно рассматривает механизмы передающегося из поколения в
поколение насилия. Психологам настоятельно рекомендуется изучить эти книги,
поскольку масштабы насилия над детьми велики. Для того чтобы понимать как
работать с родителями и почему часто они не понимают и не слышат рекомендаций
психолога, нужно разобраться в природе, в основах насилия, которое они
применяют по отношению к ребенку.
П р и м е р . Анжелику на прием к психологу привела мать, интеллигентная женщина с хорошими манерами. Основная жалоба была на сильные головные боли у девочки, которые сопровождались галлюцинациями. Мать очень боялась, что это признаки шизофрении, которой страдали ее племянники от двух родных бра
тьев.
Анжелике было 13 лет, это была очень худенькая, бледная девочка, нервная и очень эмоциональная. Она держалась очень скромно, старательно отвечала на вопросы, после каждого ответа вопросительно смотрела на мать. Сказала, что ее ничего не беспокоит, только головные боли. Мать была очень напугана, поэтому
она согласилась на работу с психологом.
Постепенно выяснилась следующая картина их жизни: мать жила вдвоем с дочерью, с мужем она развелась 10 лет назад. Отец присутствовал в жизни девочки, и очень активно. О нем она говорила с большим почтением и любовью. Он был большим начальником, имел другую семью и обязательно два раза в неделю посещал дочь. Мать была юристом, имела обширную частную практику и была на хорошем счету. Девочка — единственный ребенок и у отца, и у матери. Девочкой все время занимались, она заканчива
![]() ла музыкальную школу, ее
водили на концерты и в музеи, летом она отдыхала на море. Сама Анжелика
производила впечатление очень послушного ребенка, но с необъяснимыми, как
рассказала мать, выходками, которые время от времени выливались в то, что
девочка могла уйти из дома и пропасть на несколько часов. Потом она не могла
объяснить, где была, говорила, что гуляла, но мать ей не верила и думала, что та
связалась с дурной компанией и возможно принимает наркотики. Мать просила
психолога разузнать, где на самом деле девочка бывает. Время от времени
Анжелика прогуливала школу, и опять-таки никто не знал, где она пропадает, а
она говорила, что в Третьяковской галерее.
ла музыкальную школу, ее
водили на концерты и в музеи, летом она отдыхала на море. Сама Анжелика
производила впечатление очень послушного ребенка, но с необъяснимыми, как
рассказала мать, выходками, которые время от времени выливались в то, что
девочка могла уйти из дома и пропасть на несколько часов. Потом она не могла
объяснить, где была, говорила, что гуляла, но мать ей не верила и думала, что та
связалась с дурной компанией и возможно принимает наркотики. Мать просила
психолога разузнать, где на самом деле девочка бывает. Время от времени
Анжелика прогуливала школу, и опять-таки никто не знал, где она пропадает, а
она говорила, что в Третьяковской галерее.
Во время работы с психологом девочка очень старалась понравиться, с большой готовностью отвечала на вопросы, рисовала и все делала очень правильно. Свою радость она активно демонстрировала. Однако у психолога складывалось ощущение, что Анжелика не присутствует на занятиях — она как будто была в другом мире. Любимым занятием ее было чтение, она читала «запоем», с чем мать боролась: прятала книги, запрещала, нагружала делами и учебой, но ничего не помогало. Друзей у Анжелики не было, она не гуляла после школы, а шла домой или исчезала в неизвестном направлении.
Мать не скрывала своей системы воспитания и даже гордилась ею. Главным постулатом было то, что ребенка нужно приучать с
детства к лишениям и трудностям, чтобы закалить его характер. Она хотела, чтобы от девочки, «как от стенки грох», отскакивали все оскорбления и несправедливости. Для этого она планомерно приучала Анжелику противостоять оскорблениям, которые мать называла «горькой правдой». Эта «горькая правда» состояла в том, что девочка должна была очень хорошо понимать, что по сути своей она порочная и никчемная, что у нее нет никаких талантов и она всем в этой жизни, абсолютно всем обязана матери и отцу. У нее
дурные наклонности, и только неусыпное бдение родителей (матери) позволило ей пока еще хорошо учиться в школе. Отец вторил матери и ласково приговаривал, что Анжелика пока еще не человек и даже не полчеловека, а так, зародыш, поэтому она не должна думать, что знает, что хорошо, а что плохо для нее, она должна целиком и полностью подчиняться, так как родители желают ей добра. Любое отступление от правил каралось расследованием и последующим внушением о порочности любых самостоятельных порывов.
Результат такого воспитания был следующим: Анжелика была очень не уверена в себе, считала себя глупой и некрасивой, бо
242
лезненно боялась сделать вообще что-нибудь самостоятельно, очень боялась отца, боялась, что он ее бросит, считала, что ее родители самые лучшие в мире, была им благодарна, жила в ил
люзорном мире книг, совсем не ориентировалась в реальном мире, не умела контактировать со сверстниками — они ее пре
следовали и унижали. В довершение всего она стала страдать сильными головными болями. Анжелика нашла выход в болезни, причем такой, какой боялась ее мать, — она не могла больше выносить насилие. Это, к счастью, дало результаты: мать действительно испугалась и ослабила узду. Не рассказывая о пути выздоровления девочки, коротко опишем семьи матери и отца.
![]() Мать
была незаконнорожденной, третьей в семье. Два ее брата всегда презирали и
насмехались над ней. Ее отец жил на два дома и имел еще шестерых детей от
официальной жены. Мать Анжелики всегда чувствовала свою ущербность, они жили
очень бедно и все отдавали первой семье во искупление. В семье девочки
считались лишними и бестолковыми. Отец мог прийти домой, разложить на столе еду
и не спеша поглощать ее, а голодные дети стояли и смотрели, как он ест. Если
они пытались стащить кусочек, он бил их по рукам. Мать подъедала объедки и
кормила ими детей. В семье царил культ сурового, но справедливого отца, о
котором никто не смел даже подумать плохо.
Мать
была незаконнорожденной, третьей в семье. Два ее брата всегда презирали и
насмехались над ней. Ее отец жил на два дома и имел еще шестерых детей от
официальной жены. Мать Анжелики всегда чувствовала свою ущербность, они жили
очень бедно и все отдавали первой семье во искупление. В семье девочки
считались лишними и бестолковыми. Отец мог прийти домой, разложить на столе еду
и не спеша поглощать ее, а голодные дети стояли и смотрели, как он ест. Если
они пытались стащить кусочек, он бил их по рукам. Мать подъедала объедки и
кормила ими детей. В семье царил культ сурового, но справедливого отца, о
котором никто не смел даже подумать плохо.
Бабка Анжелики потеряла свою мать в возрасте двух лет и воспитывалась в чужой семье. Когда ей было 16 лет, тетка продала ее богатому начальнику — деду Анжелики, который был старше ее на 30 лет.
Отец Анжелики в возрасте двух лет потерял мать и воспитывался у чужих людей, которые заставляли его ухаживать за своими детьми. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и скитался по стране. Он сделал себя сам и очень гордился этим. Он мало успел получить материнской любви, а ненависть впитал в полной мере. Он искренне любил свою дочь, но не представлял себе воспитания без насилия.
Работа психолога, имеющего дело с насилием «в бархатных перчатках», трудна и малоэффективна, поскольку воспитывать нужно самих воспитателей. Только осознав, как именно воспитывали
его самого, и пожалев своего забитого и несчастного ребенка, «суровый и справедливый» воспитатель сможет наконец увидеть все в истинном свете.
Посттравматический стресс в результате миграции. За последние десятилетия в России появилось много семей, приехавших из бывших союзных республик. Среди них есть как вынужденно перемешенные лица (ВПЛ), которых переселили в результате этнополитических конфликтов, так и люди, покинувшие свои родные места из-за дискриминации и в поисках лучшей матери
243
альной жизни. Многие их них живут общинами в многонаселенных центрах компактного проживания. Другие размещены в частном секторе городов и сел у друзей или родственников. Кто-то ус
троился в крупных городах самостоятельно. Несмотря на годы, прошедшие после переселения из родных мест, люди до сих пор не оправились от тяжелых материальных и человеческих потерь. Во время вооруженных конфликтов многие потеряли родных и близких, дом, который строили всю жизнь, родину, которую всегда считали своей.
Мы имеем дело с двумя видами травм у детей и подростков (Сарджвеладзе, Беберашвили, Джавахишвили, Махашвили, Сарджвеладзе) [71].
П е р в ы й т и п — травма, полученная на основе непосредственного, личного опыта во время бомбежек, плена, потери близкого человека и т.д. Это травма детей — очевидцев травмирующего события.
В т о р о й т и п — травма, характерная для всей популяции ВПЛ. Это травма социального уровня, которая специфическим образом преломляется в подрастающем поколении.
П р и м е р первого типа травмы. Девочка 10 лет стала домашним тираном и постоянно контролировала свою мать и старшего брата во всем: она должна была знать, где в каждый конкретный момент находятся ее близкие. Оказалось, что в возрасте двух лет она была свидетелем того, как под бомбежкой к ним в убежище бежал ее старший брат. Она пережила страшное потрясение, когда мать кричала от страха, не в силах помочь сыну. Этот не изжитый страх преломился в невроз контроля за близкими.
![]() П
р и м е р второго типа травмы. Дезадаптация уже взрослой 18-летней девушки.
Живя в Москве почти 10 лет, она после вынужденного переезда из Ташкента не
смогла найти своего места в социуме и постоянно грезила прошлым счастливым
детством, в котором все было чудесно. Ее родители так и не нашли хорошей работы
и не смогли накопить себе на жилье, и жизнь этой девушки остановилась на тех ее
первых восьми годах, когда они жили в Узбекистане. Показательно, что будучи
русской, девушка ненавидела русских и русский образ жизни.
П
р и м е р второго типа травмы. Дезадаптация уже взрослой 18-летней девушки.
Живя в Москве почти 10 лет, она после вынужденного переезда из Ташкента не
смогла найти своего места в социуме и постоянно грезила прошлым счастливым
детством, в котором все было чудесно. Ее родители так и не нашли хорошей работы
и не смогли накопить себе на жилье, и жизнь этой девушки остановилась на тех ее
первых восьми годах, когда они жили в Узбекистане. Показательно, что будучи
русской, девушка ненавидела русских и русский образ жизни.
Школьный психолог в основном имеет дело с беженцами, которые живут в урбанистической среде. По сравнению с людьми, расселенными в специально организованных центрах, они нахо
дятся в лучшем материально-бытовом положении, у них больше возможностей пользоваться благами городской жизни и они меньше испытывают чувство оторванности и изолированности от общества. Но им гораздо труднее переработать тяжелую травму, преодолеть душевный кризис, так как они лишены поддержки «братьев по несчастью». У них сильнее выражен страх одиночества и потери собственной идентичности. Эта категория беженцев стоит перед жестким выбором: или они должны отказаться от привычных традиций и социальных норм и ассимилироваться с «чужой» культурой и ценностями, или же сохранить самобытность и найти
свою «нишу» для того, чтобы вновь утвердиться в обществе.
Нодар Сарджвеладзе и другие специалисты, работавшие в течение четырех лет с ВПЛ, отмечают, что разбросанные в городах беженцы острее испытывают проблемы адаптации. Чувствуя себя «белыми воронами», они вынуждены приспосабливаться к социальным требованиям «чужой» культуры.
Перечислим социально-психологические ф е н о м е н ы , п р е п я т с т в у ю щ и е включению беженцев в социум новой страны и культуры.
1. Изолированность и отверженность от общества. С одной стороны, пережившие невзгоды и лишения чувствуют свою исключительность, непохожесть на других, своеобразную гордость за свои уникальные переживания, с другой стороны, само общество усиливает эти тенденции. Согласно распространенному мнению, жертва должна вызывать сочувствие. В действительности же
отношение к жертве нередко разбавлено скрытой агрессией, основанной на вере в «справедливый мир» — человек в конечном итоге получает то, что заслужил: если ты потерял имущество — не надо быть ротозеем, если тебя изнасиловали — не надо ходить в короткой юбке, и т.д. Люди невольно сторонятся жертвы, как буд
то боятся «заразиться» от нее несчастьем. Некоторые родители, например, запрещают своим детям играть с травмированными
детьми, садиться с ними за одну парту. Центры расселения беженцев зачастую воспринимаются остальным обществом как резервация, что еще больше подчеркивает их изолированность.
2. Виктимность. Это чувство жертвенности, восприятия себя как жертвы. Жертвой становится пострадавший, который пользуется тем, что испытал несчастье. Восприятию себя как жертвы сопутствует проявление таких негативных свойств, как зависимость, безответственность, пассивность.
3.
![]() Общество
в роли спасителя. Упрочению позиции жертвы способствует общество,
выступающее в роли спасителя, избавителя. Часто сама жертва наделяет свое
социальное окружение функциями спасителя и требует от него помощи. Спасителем
становятся государственные структуры, непосредственное окружение пострадавшего,
гуманитарные организации, оказывающие помощь попавшим в беду людям.
Общество
в роли спасителя. Упрочению позиции жертвы способствует общество,
выступающее в роли спасителя, избавителя. Часто сама жертва наделяет свое
социальное окружение функциями спасителя и требует от него помощи. Спасителем
становятся государственные структуры, непосредственное окружение пострадавшего,
гуманитарные организации, оказывающие помощь попавшим в беду людям.
П р и м е р 1. В школу пришел мальчик 12 лет, беженец из Грузии. На уроках он совсем ничего не делал, просто сидел и смотрел в окно. По школе ходили слухи о том, что его семья претерпела страшные лишения. Все учителя и администрация выступали в
245
![]() роли спасителей и, жалея
мальчика, не требовали с него никаких заданий. За исключением одной
учительницы, которая обратилась к психологу с просьбой посмотреть, что на самом
деле происходит с подростком. Мальчик действительно переживал
посттравматический стресс, связанный с потерей дома, друзей и родных, как и его
родители, которые были заняты всецело идеей возвращения в Грузию, хотя
объективно это было невозможно, по крайней мере в ближайшие годы. Они, как и мальчик,
рассматривали свое пребывание в России как временное, поэтому на контакты с
учителями и психологом не шли. Благодаря совместным усилиям психолога и
учителей постепенно было преодолено отношение мальчика к себе и к нему со
стороны учителей как к жертве, с него стали
роли спасителей и, жалея
мальчика, не требовали с него никаких заданий. За исключением одной
учительницы, которая обратилась к психологу с просьбой посмотреть, что на самом
деле происходит с подростком. Мальчик действительно переживал
посттравматический стресс, связанный с потерей дома, друзей и родных, как и его
родители, которые были заняты всецело идеей возвращения в Грузию, хотя
объективно это было невозможно, по крайней мере в ближайшие годы. Они, как и мальчик,
рассматривали свое пребывание в России как временное, поэтому на контакты с
учителями и психологом не шли. Благодаря совместным усилиям психолога и
учителей постепенно было преодолено отношение мальчика к себе и к нему со
стороны учителей как к жертве, с него стали
требовать выполнение заданий и включили активно в жизнь шко
лы, что позволило ему через год найти себе друзей и адаптироваться в классе. Хотя его реабилитация затруднялась не пережитым посттравматическим синдромом его родителей, которые не хотели признавать изменения в их жизни свершившимся фактом.
П р и м е р 2. В центре реабилитации беженцев долгое время получала психологическую помощь мать пятерых детей, которая оказалась в Москве с мужем. Их жизнь не сложилась так, как им хотелось бы, муж оставил женщину с детьми и исчез. На момент обращения в службу она была тяжело больна, не имела прописки,
жилья и стабильного заработка. Жила с двумя детьми у родственников, которые держали ее из жалости. Троих детей она отправи
ла родителям. До тех пор пока служба оплачивала ее проживание, психологическую помощь, выплачивала субсидии на детей, женщина все больше и больше погружалась в болезнь и в свои тяжелые переживания. В какой-то момент было принято решение начать программу по прекращению субсидий для нее, что позволи
ло женщине постепенно отказаться от роли жертвы и перестать рассчитывать только на помощь благотворительных и государственных организаций.
4. Образ врага. Несправедливо угнетенный ищет виновного в своей тяжелой участи и невольно создает образ врага. И если раньше во время травмирующего инцидента черты врага приписывались только реальному противнику, теперь, когда противник далеко, происходит обобщение и перенос этого феномена уже на непосредственное социальное окружение.
5. «Проигравший в войне». Этот феномен особенно выражен среди мужчин. Осознание попранного достоинства в связи с тем, что они не смогли отразить действия врага и обеспечить безопасность семьи, вызывает болезненные чувства беспомощности и самоуничижения, а нереализованная агрессия создает почву для усиления реваншистских тенденций. Многие из них избегают полезной активности, все свое время проводят в бессмысленной суете, считая, что не должны тратить себя на «мелочи», но призваны «служить более высоким идеалам», например «победе над врагом и возвращению на родину». В действительности такая установка формирует пассивную жизненную позицию, сковывает социальную активность, что в свою очередь еще больше снижает их социальный статус [71].
Работа с детьми, пережившими травму. Если травма получена недавно, то оказание психологической помощи эффективно. Чем скорее ребенок получает помощь, тем успешнее и быстрее будут преодолены последствия травмы. Если травма произошла давно и была вытеснена, а в результате диагностики или консультирования было обнаружено посттравматическое расстройство, то доступ непосредственно к травме будет заблокирован. И тогда приходится работать с симптомами и общим укреплением Я ребенка. Это может быть связано с ранним сексуальным единичным насилием, когда оно было совершено любимым отцом, или, например, с насильственной смертью близкого человека на глазах у ребенка.
При работе с детьми могут быть использованы различные методы: рисунки, игры, фантазирование, поделки, сочинение рассказов, сказок, релаксация, медитация, драматургия и т.д. Выбор метода зависит от предпочтений консультанта. Эти методы с яркими примерами и приемами описаны в книге Вайолент Оклен
дер «Окна в мир ребенка». В ней содержится масса конкретных упражнений.
Перечислим о с н о в н ы е п р и н ц и п ы и з а м е ч а н и я , к о т о р ы е с л е д у е т у ч и т ы в а т ь п р и р а б о т е с д е т ь ми, п о л у ч и в ш и м и п с и х о л о г и ч е с к у ю т р а в м у .
1. Прежде чем работать с ПТС, нужно убедиться, что травмирующие факторы нейтрализованы. Например, если ребенок подвергается физическому или сексуальному насилию, то это насилие следует прекратить любыми доступными средствами с привлечением органов милиции, опеки, общественности и т.д.
2.
![]() Для
того чтобы облегчить специфические страхи детей, связанные с травмой,
необходимо дать им возможность задавать вопросы и честно на них отвечать [14].
Взрослые нередко боятся затрагивать темы, связанные со смертью, болезнью, терактами
и т.д., свидетелями или участниками которых были дети. Они считают, что это
будет лишний раз травмировать ребенка. На самом деле возможность говорить о
своих страхах и боли является способом проживания травмы. Нежелание взрослых
обсуждать события, приведшие к травме, связаны с их собственными страхами и их
собственной болью, также не нашедшими выхода. Вайолет Оклендер считает, что
если ребенок смог вынести реальные переживания, то он в состоянии вынести и
воспоминания о пережитом. При работе с ребенком могут быть использованы
различные способы десинсиби-
Для
того чтобы облегчить специфические страхи детей, связанные с травмой,
необходимо дать им возможность задавать вопросы и честно на них отвечать [14].
Взрослые нередко боятся затрагивать темы, связанные со смертью, болезнью, терактами
и т.д., свидетелями или участниками которых были дети. Они считают, что это
будет лишний раз травмировать ребенка. На самом деле возможность говорить о
своих страхах и боли является способом проживания травмы. Нежелание взрослых
обсуждать события, приведшие к травме, связаны с их собственными страхами и их
собственной болью, также не нашедшими выхода. Вайолет Оклендер считает, что
если ребенок смог вынести реальные переживания, то он в состоянии вынести и
воспоминания о пережитом. При работе с ребенком могут быть использованы
различные способы десинсиби-
247
лизации (десенситизации) — снижения эмоциональной восприимчивости по отношению к определенным ситуациям.
3. Психолог обеспечивает детям необходимую безопасность для выражения и исследования таящихся внутри чувств. Ребенок час
то не может справиться с тяжелыми переживаниями, и чувства блокируются, а дети, подвергающиеся систематическому насилию, повторяющимся травмам (например, в зоне военных действий), вообще не в контакте со своими чувствами — они заморожены, и выход эмоций, связанных с переживаниями, является началом выздоровления.
![]() Психолог-консультант
следует за ребенком, отражая словами все, что ребенок делает. Памела Вебб
отмечает, что только когда терапевт правильно сигнализирует ребенку, что
понимает, какое послание тот пытается передать в данную минуту, ребенок
почувствует, что его услышали. Когда послание ребенка, выраженное в словах,
рисунках или в игре, получено и принято, обсессивное разыгрывание
травматического события постепенно сходит на нет, и решение проблемы становится
возможным. Монотонная, повторяющаяся посттравматическая игра, возможно, начнет
сворачиваться [14].
Психолог-консультант
следует за ребенком, отражая словами все, что ребенок делает. Памела Вебб
отмечает, что только когда терапевт правильно сигнализирует ребенку, что
понимает, какое послание тот пытается передать в данную минуту, ребенок
почувствует, что его услышали. Когда послание ребенка, выраженное в словах,
рисунках или в игре, получено и принято, обсессивное разыгрывание
травматического события постепенно сходит на нет, и решение проблемы становится
возможным. Монотонная, повторяющаяся посттравматическая игра, возможно, начнет
сворачиваться [14].
4. Присутствие взрослого, который может выносить как описание страшных сцен, так и сильные чувства, позволяет ребенку укрепить свои силы, свое эго. Взрослый принимает чувства ребенка и не разрушается сам, что позволяет понять суть травматического опыта. Ребенок чувствует себя защищенным, и это укрепляет его силы, дает ему необходимую поддержку для преодоления травмы. Поэтому поведение психолога-консультанта должно быть очень спокойным, без ужасаний и всплесков эмоций. Это действительно тяжелое событие, как бы говорит он, но с этим можно справиться.
5. Игра и другие методы, связанные с творчеством, проводятся с ребенком в замедленном темпе, обнаруживая личностный аспект игры позднее. Это дает ребенку возможность начать работу над
тревожащими его проблемами. Создавая терапевтическую ситуацию в замедленном темпе и контролируя происходящее, психолог
дает возможность ребенку почувствовать, что его уважают и понимают; это помогает ему справляться с ощущением угрозы и про
двигаться к внутреннему выздоровлению.
Поэтому не нужно торопить ребенка. Он может воспроизводить ситуацию столько, сколько ему нужно. Психолог должен только внимательно следить за процессом, отслеживая любые минимальные изменения, появившиеся в пересказе событий, чтобы использовать их для изменения сценария в сторону удачного, не
травматичного разрешения.
6. Новое проигрывание. Новые способы выхода из травмирующего события позволяют ребенку почувствовать свою власть и контроль — в противовес чувству беспомощности. Ребенок при
думывает новый конец у истории, что позволяет ему вновь обрести почву под ногами.
Следует сказать, что при длительных психотравмирующих событиях ребенку очень сложно обрести чувство защищенности и контроля, так как его до сих пор никто не защищал. Поэтому, помимо работы непосредственно с ребенком, необходимо найти в его окружении родных и близких, которые смогут предоставить ему реальную поддержку и защиту.
![]() В
отличие от детей младшего школьного возраста подростки нередко обращаются к
психологу сами, чаще всего с вопросами, касающимися дружбы и любви. Реже по
вопросам взаимоотношений с родителями и учителями, другими взрослыми. Это
обусловлено бурным развитием межличностного познания и самопознания. Эти
процессы идут параллельно, будучи тесно взаимосвязанными. Познавая других
людей, подросток познает себя и на основе обратной связи строит представление о
себе, которое, в свою очередь, оказывает влияние на восприятие и понимание
других людей. Причем общение со сверстниками в подростковом возрасте
приобретает исключительно важную роль. Именно сверстник как равноправный
партнер по общению выступает для подростка в качестве реальной объективной
точки отсчета в процессе познания окружающих и самого себя [34]. Сравнение со
сверстниками
В
отличие от детей младшего школьного возраста подростки нередко обращаются к
психологу сами, чаще всего с вопросами, касающимися дружбы и любви. Реже по
вопросам взаимоотношений с родителями и учителями, другими взрослыми. Это
обусловлено бурным развитием межличностного познания и самопознания. Эти
процессы идут параллельно, будучи тесно взаимосвязанными. Познавая других
людей, подросток познает себя и на основе обратной связи строит представление о
себе, которое, в свою очередь, оказывает влияние на восприятие и понимание
других людей. Причем общение со сверстниками в подростковом возрасте
приобретает исключительно важную роль. Именно сверстник как равноправный
партнер по общению выступает для подростка в качестве реальной объективной
точки отсчета в процессе познания окружающих и самого себя [34]. Сравнение со
сверстниками
способствует развитию личности. И если значимый взрослый часто выступает как некий недостижимый образец, то сверстник — это мерка, которая позволяет подростку оценить себя на уровне реальных возможностей, увидеть их воплощенными в другом, на которого он может прямо равняться [22].
Развитию самосознания в подростковом возрасте посвящено множество трудов и нет ни одного общеобразовательного учреждения, где не проводилась бы практическая программа, направленная на познание подростками себя, повышение самооценки или развитие Я-концепции. Однако не всегда точное понимание смысла самосознания, его состава, функций и свойств приводит к тому, что эти программы не достигают поставленных целей. Трудность состоит также в том, что в психологической науке нет четкого разделения таких понятий, как «самосознание», «образ Я», «Я -концепция», «самооценка». Они часто подменяют друг друга, или, наоборот, одно и то же понятие означает разные явления.
Прежде всего нужно различать процесс самосознания или самопознания и его продукт. Процесс не имеет структуры, он может иметь свойства и/или характеристики, т.е. быть интенсивным, развернутым во времени и т.д. Мы же чаще всего имеем дело с продуктом самосознания, а именно с Я-концепцией, образом Я, с самоосознанием как результатом осознания себя, самооценкой как результатом оценки себя, своих действий и т.д. Самооценка также может означать процесс. Но тогда мы не можем ее измерить, мы можем только говорить о том, как это проходит, а не о результате, который благодаря этому процессу получается.
Если мы говорим о продукте, то здесь следует различать компоненты самосознания (или Я-концепции, или самооценки). Чаще всего выделяют три составляющие (или компонента): описательную (называемую «образом Я» или представлением о себе), являющуюся некой когнитивной структурой, характеризующейся определенным набором качеств, в большей или меньшей мере осознанных; эмоционально-ценностную (или эмоциональную), обозначающую отношение субъекта к самому себе; поведенческую, порождаемую образом Я и самоотношением [35 и др.]. Во многих теоретических и практических работах выделяют еще и мотивационный компонент, изучаемый как фактор, побуждающий самопознание.
Образ Я означает знание себя, знание своих личностных особенностей, черт характера, мотивов поведения, он означает точность соответствия представления о себе неким объективным кри
териям. Образ Я может быть адекватным или неадекватным, но никак не высоким или низким. Кроме того, эмоционально-ценностный компонент, который также называют самоотношением,
![]() самооценкой,
эмоционально-ценностным отношением, самоуважением, самопринятием, включает в
себя несколько аспектов. Обычно выделяют самоуважение и аутосимпатию (или
принятие себя). С. Р. Пантилеев выделяет еще и фактор самоуничижения, в который
входят такие характеристики, как самообвинение, наличие внутренних конфликтов,
несогласие с собой, чрезмерное самокопание [63]. За аспектом самоуважения стоит
оценка индивидом собственного Я по отношению к социально значимым
нормам, эталонам, критериям, которые предусматривают успешность в социально
значимых сферах деятельности, эффективность и компетентность. Аутосимпатия, или
самопринятие, означает принятие себя таким, какой он есть, без оценок и
сравнений. Это любовь к себе, характеризующаяся теплым, принимающим отношением
к себе. В случае эмоционально-ценностного отношения к себе как раз и можно
говорить об уровнях: высокий, средний, низкий, — но нельзя говорить об
адекватности.
самооценкой,
эмоционально-ценностным отношением, самоуважением, самопринятием, включает в
себя несколько аспектов. Обычно выделяют самоуважение и аутосимпатию (или
принятие себя). С. Р. Пантилеев выделяет еще и фактор самоуничижения, в который
входят такие характеристики, как самообвинение, наличие внутренних конфликтов,
несогласие с собой, чрезмерное самокопание [63]. За аспектом самоуважения стоит
оценка индивидом собственного Я по отношению к социально значимым
нормам, эталонам, критериям, которые предусматривают успешность в социально
значимых сферах деятельности, эффективность и компетентность. Аутосимпатия, или
самопринятие, означает принятие себя таким, какой он есть, без оценок и
сравнений. Это любовь к себе, характеризующаяся теплым, принимающим отношением
к себе. В случае эмоционально-ценностного отношения к себе как раз и можно
говорить об уровнях: высокий, средний, низкий, — но нельзя говорить об
адекватности.
Таким образом, развитие самосознания у подростков может проходить по нескольким направлениям.
Первое направление — это осознание себя как личности, своих особенностей, черт характера.
Задачи и техники:
— структурирование знаний о себе в мире людей и вещей. Например: карта внутреннего мира, шкаф желаний и потребностей,
сильные и слабые стороны, портрет незнакомца (себя) и т.д.;
— формирование отношения к различным аспектам окружающего мира. Например: я и другие, что может оказаться полезным
для меня, а что нет;
— смещение акцентов для анализа с внешненаблюдаемых аспектов (занятия спортом, внешность, социальное положение) к внутренним (ненаблюдаемые черты характера, личностные особенности). Например: что окружающие видят во мне, а что скры
то, как я могу показать и рассказать о том, какой я на самом деле, и т.д. Следует помнить, что для младших подростков характерно
описание себя как социального человека, т. е. обладающего какими-то вещами, имеющего статус, чем-то занимающимся, а для
![]() старших подростков более
характерно описание внутреннего мира. Если в старшем подростковом возрасте
ребенок описывает себя все еще при помощи внешних атрибутов, то это может
говорить о неразвитом самосознании или же о полном пренебрежении к себе как к
самоценной личности;
старших подростков более
характерно описание внутреннего мира. Если в старшем подростковом возрасте
ребенок описывает себя все еще при помощи внешних атрибутов, то это может
говорить о неразвитом самосознании или же о полном пренебрежении к себе как к
самоценной личности;
— осознание ролевого репертуара, его расширение. Например, я и мои роли, какой я с другими, какая маска мне наиболее близка, какая незнакома.
Второе направление — развитие самоуважения. Задачи и техники:
— координация уровня притязаний и реальных возможностей. Например: что хочет от меня мама, что папа, а что хочу я сам достичь в жизни; кто такой успешный человек в обществе, а кого я сам считаю успешным;
— развитие умения видеть собственные реальные достижения. Например: отмечать все конкретные маленькие достижения за неделю, уметь видеть собственные заслуги в любых ситуациях;
— работа с реакцией на критику. Например: разделение критики на конструктивную и неконструктивную, работа с манипуляцией, выработка алгоритма совладания с конструктивной и манипулятивной критикой;
— работа с внутренним критиком. Например: выделение внутреннего критика как отдельной фигуры, умение спорить с ним и не соглашаться с некоторыми требованиями, выработка собственных критериев оценки себя и собственных действий и достижений.
Третье направление — развитие аутосимпатии.
Задачи и техники:
— опыт безоценочного принятия значимым взрослым (психологом-консультантом) — это по сути вся работа консультанта с ребенком, где он не оценивает и не указывает, как надо и как правильно, а с огромным уважением и принятием относится к ребенку как к уникальной личности с уникальным, пусть детским, но неповторимым опытом в жизни;
— навык видеть в любом проявлении собственной личности особенность и уникальность. Например: разбор конкретных случаев общения со сверстниками и взрослыми с точки зрения интересных находок и неожиданных поворотов;
— навык рассматривать черты личности и паттерны поведения не с точки зрения «хороший/плохой», а с точки зрения полезности и не полезности для адаптации в социуме и внутренних ощущений комфорта; снижение полярности суждений, появление серого цвета в опенке окружающей действительности.
Четвертое направление — развитие мотивации к познанию себя.
Задачи и техники:
— стимулирование активности в познании себя. Например, упражнение «окно Джохари» (см. соответствующее задание для самостоятельной работы в конце главы).
При развитии мотивации к познанию себя следует учитывать некоторые важные моменты.
1. Не существует прямой взаимосвязи между адекватностью образа Я и интересом к самопознанию. То есть если подросток интересуется собой и обладает ярко выраженной мотивацией к самопознанию, это не означает, что он хорошо себя знает.
2. Подростки интересуются своей личностью, когда они в целом с симпатией относятся к себе или когда у них наблюдается ярко выраженная внутренняя конфликтность.
3. Адекватность образа Я тесно связана с высоким уровнем самоуважения. То есть те подростки, которые себя высоко оценивают по социальным показателям достижений или внутренним критериям собственной значимости, хорошо себя знают. Низкое самоуважение препятствует адекватному самовосприятию [75].
![]() Чаще
всего подростков, так же как и младших школьников, направляют к психологу из-за
ухудшения успеваемости или из- за плохого поведения, т, е. тогда, когда налицо
симптом. Реже — если учитель заметил изменения в эмоциональной сфере. Хотя
именно изменения в эмоциональной сфере, например возросшая возбудимость или,
наоборот, апатия, сигнализируют о серьезном неблагополучии. Поведение ребенка
всегда говорит о том, что ему плохо, а если он это не показывает, то проблема
может быть гораздо серьезнее: это означает, что у ребенка нет веры в то, что
ему помогут, он чувствует себя совсем одиноким в своем страдании.
Чаще
всего подростков, так же как и младших школьников, направляют к психологу из-за
ухудшения успеваемости или из- за плохого поведения, т, е. тогда, когда налицо
симптом. Реже — если учитель заметил изменения в эмоциональной сфере. Хотя
именно изменения в эмоциональной сфере, например возросшая возбудимость или,
наоборот, апатия, сигнализируют о серьезном неблагополучии. Поведение ребенка
всегда говорит о том, что ему плохо, а если он это не показывает, то проблема
может быть гораздо серьезнее: это означает, что у ребенка нет веры в то, что
ему помогут, он чувствует себя совсем одиноким в своем страдании.
Эта проблема неоднозначна, и, так же как и в других случаях, необходимо прежде всего понять подоплеку чувства одиночества, его остроту и глубину, т.е. степень субъективного ощущения подростка себя одиноким. Наряду с естественным стремлением к уединению и переживанию одиночества, присущим подростку, которое способствует развитию самосознания, и, соответственно, личности в целом [32; 35; 60; 69; 84 и др.], каждый шестой подросток испытывает обостренное чувство одиночества, соотносимое с де
прессивным состоянием [47].
Изучив в о з н и к н о в е н и е ч у в с т в а о д и н о ч е с т в а у подростков, С.В.Малышева обозначила ш е с т ь п р и ч и н этого явления.
Первая причина связана с осознанием себя как уникальной, неповторимой, ни на кого не похожей личности. Переживание уникальности может породить мысли о том, что никто, в принципе, не может понять другого человека, в силу чего все обречены на одиночество.
Вторая причина обусловлена отсутствием у подростка достаточного количества межличностных контактов со сверстниками и/или негативным опытом общения с ними.
Третья причина, приводящая к обострению одиночества в подростковом возрасте, связана с экзистенциальным подростковым кризисом «смысла жизни».
Четвертая причина — принудительное удержание подростков в каких-либо группах, например в детских домах. Это также может обострять одиночество.
Пятая причина — отвержение ребенка родителями в раннем возрасте, отсутствие внимания со стороны семьи в период станов
ления личности. Все это приводит к возникновению у подростка оценки себя как ненужного, изолированного, никчемного существа. Подростки с такой самооценкой глубоко переживают одиночество и нуждаются в психологической помощи.
Шестая причина — депрессия, не вылеченная в детском возрасте [47].
![]() Первая
и третья причины связаны с экзистенциальными факторами, которые являются
необходимым условием полноценного развития личности. Подросток познает
вселенную с ее непредсказуемостью, неустойчивостью, базовым одиночеством и
изолированностью, соприкасается со смертью и неустойчивостью бытия. Подросткам
свойственны мысли о смерти, стремление к уединению и острые переживания
конечности мира и бытия. В это время они могут увлекаться музыкальными
группами, пропагандирующими смерть, писать тяжелые мрачные стихи, рисовать образы,
в которых сквозит безнадежность, носить черную одежду, увлекаться готикой. Это
необходимая подготовка подростка к вступ
Первая
и третья причины связаны с экзистенциальными факторами, которые являются
необходимым условием полноценного развития личности. Подросток познает
вселенную с ее непредсказуемостью, неустойчивостью, базовым одиночеством и
изолированностью, соприкасается со смертью и неустойчивостью бытия. Подросткам
свойственны мысли о смерти, стремление к уединению и острые переживания
конечности мира и бытия. В это время они могут увлекаться музыкальными
группами, пропагандирующими смерть, писать тяжелые мрачные стихи, рисовать образы,
в которых сквозит безнадежность, носить черную одежду, увлекаться готикой. Это
необходимая подготовка подростка к вступ
лению во взрослый мир, непредсказуемый и неустойчивый. Это способ борьбы с тревогой как экзистенциальным переживанием. Подобное переживание одиночества присуще, скорее, старшим подросткам.
Возможность обсуждать эти вопросы позволяет подростку развиваться и снимает тревогу перед неизбежным окончанием шко
лы. Помощь психолога-консультанта в данном случае сводится к готовности обсуждать любые темы, связанные со смертью, неиз
лечимыми болезнями, одиночеством и т.д., не пугая и не стремясь разрушить попытку заглянуть в потусторонний мир.
Вторая и четвертая причины особенно ярко проявляются в младшем подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение. Наряду с проблемой низкой или неадекватной самооценки, мешающей подростку налаживать межличностные связи, нередко проблему усугубляет отсутствие необходимых навыков общения. Очень эффективны тренинги общения, где обучают простым и наглядным способам взаимодействия со сверстниками. В индивидуальных консультациях хороший эффект оказывают техники обмена ролями, когда подросток может почувствовать на себе, как воспринимается то или иное его поведение, а также попробовать новые способы, ранее им неиспользованные.
![]() Если
подросток испытывает состояние одиночества, обусловленное пятой и шестой
причинами, то о его проблемах можно даже и не догадываться. Они могут вести
себя вполне адекватно и ничем не выдавать своего тяжелейшего состояния. Именно
отверженные дети и дети с многолетней депрессией чаще всего предпринимают
суицидальные попытки, обычно заканчивающиеся смертью. Их решение выстрадано, а
способ выверен наверняка. Поэтому психолог-консультант рекомендует учителям
обращать внимание на изменение эмоционального состояния таких детей и сразу же
отправлять их на консультацию. Работа с такими детьми сложна из-за наличия у
них базового недоверия к людям и миру, эти дети обычно несут в себе ранние
психические травмы. Самое большое достижение при работе с такими подростками —
это установление доверительных отношений, которые выступают как новый, ранее
неизвестный опыт, и в данном случае являются не
Если
подросток испытывает состояние одиночества, обусловленное пятой и шестой
причинами, то о его проблемах можно даже и не догадываться. Они могут вести
себя вполне адекватно и ничем не выдавать своего тяжелейшего состояния. Именно
отверженные дети и дети с многолетней депрессией чаще всего предпринимают
суицидальные попытки, обычно заканчивающиеся смертью. Их решение выстрадано, а
способ выверен наверняка. Поэтому психолог-консультант рекомендует учителям
обращать внимание на изменение эмоционального состояния таких детей и сразу же
отправлять их на консультацию. Работа с такими детьми сложна из-за наличия у
них базового недоверия к людям и миру, эти дети обычно несут в себе ранние
психические травмы. Самое большое достижение при работе с такими подростками —
это установление доверительных отношений, которые выступают как новый, ранее
неизвестный опыт, и в данном случае являются не
средством, а результатом.
П р и м е р . К школьному психологу-консультанту обратилась учительница математики. В VI класс пришел новый мальчик, который насторожил ее странно апатичным состоянием. Он сидел на уроках с отсутствующим видом, на переменах не играл со сверстниками, как будто не замечал их. Иногда он оживлялся и толково отвечал на уроках или начинал играть с одноклассниками, но быстро «сдувался», опять уходил в себя. Казалось, что ему комфортно в его одиночестве. Учился он неравномерно, поражал учителя своими познаниями и развитием, легко решал сложные задачи, но уроки делал не всегда и не имел никакого интереса к учебе и общению. Единственное, что смогла узнать учительница о его
семье, это то, что Дима живет с бабушкой, что мама и старшая сестра живут отдельно, так как мать зарабатывает деньги. Год назад из семьи ушел отец мальчика, с сыном не общается.
На первой консультации ребенок демонстрировал такое же безразличие и апатию, какую описывала учительница. Ни на что не жаловался, равнодушно выполнял предложенные задания, вяло отвечал на вопросы. Так продолжалось и в последующие встречи. Он приходил, садился на стул, брал какую-нибудь игрушку и начинал ее вертеть и мять в руках. Попутно, однако, он кое-что рассказал о своей семье, но очень и очень немного. Из отрывочных фраз, которые он время от времени бросал как бы в воздух, уда
лось выяснить, что старшая сестра — от первого брака матери, ей уже 20 лет, и она работает, что как только отец ушел из семьи, Диму сразу же отправили к бабушке. У мамы с бабушкой очень плохие отношения, и они постоянно ругаются. Поэтому мама не приезжает к бабушке и, соответственно, к сыну. Иногда Диму берут на выходные к маме и сестре, где он старается все делать хорошо, чтобы мама его брала почаще.
Постепенно Дима стал говорить о своих чувствах, тоже очень мало. Он сказал, что очень скучает по отцу, что не понимает, почему тот ушел и почему не звонит. Дима даже не знает, где он. Дима рассказал, что ему очень тяжело у бабушки, в прошлом учительницы, которая многое требует от него и усиленно «развивает». Он признает, что бабушка очень много делает для него, но она постоянно ругает и оскорбляет маму, и Дима сильно переживает. Ему страшно хочется жить с мамой и старшей сестрой, он старается все делать, как они скажут, слушается во всем. Он надеется, что когда-нибудь они его все-таки возьмут к себе жить.
![]() Очень
и очень медленно Дима начал вести с психологом-консультантом диалог. Слушать и
отвечать на вопросы, высказывать свое мнение и даже не соглашаться с некоторыми
словами психолога. Казалось, на консультациях ничего заметного не происходило —
не делали никакие упражнения, не играли в игры, но что-то стало неуловимо
меняться в поведении мальчика — сначала в общении с психологом, а потом и с
окружающими взрослыми и сверстниками. У Димы появился друг, он стал более
открытым в общении, более ровно стал делать уроки. Мир вокруг тоже стал
меняться. Через какое-то время мать взяла мальчика к себе.
Очень
и очень медленно Дима начал вести с психологом-консультантом диалог. Слушать и
отвечать на вопросы, высказывать свое мнение и даже не соглашаться с некоторыми
словами психолога. Казалось, на консультациях ничего заметного не происходило —
не делали никакие упражнения, не играли в игры, но что-то стало неуловимо
меняться в поведении мальчика — сначала в общении с психологом, а потом и с
окружающими взрослыми и сверстниками. У Димы появился друг, он стал более
открытым в общении, более ровно стал делать уроки. Мир вокруг тоже стал
меняться. Через какое-то время мать взяла мальчика к себе.
В приведенном примере самым важным стал момент уважительного и внимательного отношения психолога к потребностям маль
чика, его желаниям. Психолог не старался переделать Диму или навязать ему свою систему ценностей, он просто общался с ре
бенком, принимая и его отказы, и его нежелание делать что-либо, и его молчание. И это оказалось главным позитивным итогом работы. Впервые с ребенком общались не как с вещью, а как с личностью. Он впервые почувствовал себя не разменной монетой в играх взрослых, а человеком, во всех отношениях интересным другому человеку.
![]() Конечно,
прежде чем установилось доверие, Дима несколько раз проверял психолога. На
нескольких встречах он долго и упорно молчал. Ждал раздражения или отвержения —
ведь он не выполнял того, чего от него, как ему казалось, ждали.
Психолог-консультант не выдал никакой негативной реакции, а неизменно сохранял
заинтересованное отношение. Еще одна проверка произошла, когда Дима заболел и
долгое время не посещал школу. Когда он пришел в школу, то не появился у
психолога. А психолог не отследил его появление. По прошествии некоторого
времени Дима «случайно» попался на глаза психологу. Реакция психолога —
концентрация внимания — его удовлетворила, и занятия возобновились. Была еще
одна проверка — на лояльность психолога семейной системе. Дима привел на
консультацию вначале свою бабушку, а потом и маму с сестрой. Для Димы главное
было — без
Конечно,
прежде чем установилось доверие, Дима несколько раз проверял психолога. На
нескольких встречах он долго и упорно молчал. Ждал раздражения или отвержения —
ведь он не выполнял того, чего от него, как ему казалось, ждали.
Психолог-консультант не выдал никакой негативной реакции, а неизменно сохранял
заинтересованное отношение. Еще одна проверка произошла, когда Дима заболел и
долгое время не посещал школу. Когда он пришел в школу, то не появился у
психолога. А психолог не отследил его появление. По прошествии некоторого
времени Дима «случайно» попался на глаза психологу. Реакция психолога —
концентрация внимания — его удовлетворила, и занятия возобновились. Была еще
одна проверка — на лояльность психолога семейной системе. Дима привел на
консультацию вначале свою бабушку, а потом и маму с сестрой. Для Димы главное
было — без
оценочное отношение психолога к его родным, и то, что психолог не принял ничью сторону в их войне.
Одинокие дети в депрессивном состоянии наиболее часто подвержены суицидальным настроениям. Именно из-за того, что они одиноки и имеют очень мало контактов с окружающими, об их намерении мало кто знает. Поэтому и существует миф о том, что человек совершает суицид без предупреждения. На самом деле
любой человек, и ребенок также, каким-то образом сообщает окружающим о своем намерении уйти из жизни: намеками, разговорами о смерти, жалобами на то, что его никто не понимает и незачем жить, и т.д. Он пытается найти помощь и поддержку у окружающих и, только не найдя ее, предпринимает попытку суицида.
Еще один миф гласит, что подросток может совершить суицид просто так, ни из-за чего. Даже если попытка носит демонстра
тивный характер и подросток лишь хочет «попугать» родителей или друзей, в основе лежит острое чувство одиночества.
Мы уже говорили о том, что изменения в эмоциональной сфере, такие как апатия, подавленность, слезы или, наоборот, сильное возбуждение, резкая смена эмоционального состояния, должны вызвать настороженность и внимательное отношение к состоянию подростка. Следует немедленно выяснить, какие события произошли в его жизни за последний год и особенно в последнее время. Такие очевидные события, как смерть близкого человека, развод родителей, переезд на новое место жительства (например, к бабушке), и не очевидные, такие как множество мелких неприятностей сразу, участившиеся ссоры с родителями, ссора с близким другом, расставание с любимым, сексуальное насилие или
домогательство, проступок, за которым может последовать наказание, двойка в дневнике при строгом родителе, смерть кумира, — могут привести подростка к мысли о самоубийстве. Причем зна
чимость события у подростка и у взрослого, как правило, не совпадает. То, что является пустяком для взрослого, может прино
сить страдания подростку.
Психолог, безусловно, должен ориентироваться на субъективную для подростка значимость события — для него не важна суть,
а важно его преломление в психике.
Иногда взрослые стараются избегать разговоров о смерти, о самоубийстве, думая, что разговоры об этом скорее подтолкнут подростка к самоубийству. Взрослым самим зачастую трудно обсуждать темы смерти из-за поднимающейся тревоги, и они ее замалчивают. Поэтому наиболее частой реакцией бывает примерно сле
![]() дующая: «Да брось ты,
что еще выдумал! Глупости какие! У тебя вся жизнь еще впереди! Мало ли какие
трудности у человека в жизни бывают! Вон дед, войну прошел, бабка голод
пережила и ничего, живут!» Для подростка же, как мы уже говорили, его
переживания уникальны: он не все! Он единственный и неповторимый. Для подростка
его жизнь не заканчивается со смертью. В его фантази
дующая: «Да брось ты,
что еще выдумал! Глупости какие! У тебя вся жизнь еще впереди! Мало ли какие
трудности у человека в жизни бывают! Вон дед, войну прошел, бабка голод
пережила и ничего, живут!» Для подростка же, как мы уже говорили, его
переживания уникальны: он не все! Он единственный и неповторимый. Для подростка
его жизнь не заканчивается со смертью. В его фантази
ях он пожинает плоды своего ухода в виде запоздалого раскаяния родных, близких и друзей. Мысль о конечности всего просто не приходит ему в голову. Так же как о бесполезности смерти для до
стижения своих целей, о ее ином эффекте, реальном эффекте.
При обсуждении с подростком способов ухода из жизни психолог выводит на первый план некрасивость смерти, ее физическое уродство — это моментально снимает налет романтики.
Итак, п о м о щ ь п с и х о л о г а п р и о б н а р у ж е н и и у г р о зы с у и ц и д а должна быть следующей.
1. Необходимо проявлять сочувствие ребенку, принимая его положение как тяжелое, не умалять серьезности его переживаний, а признавать, что ситуация действительно не простая.
2. Следует соглашаться со всеми обобщенными утверждениями ребенка, принимая его точку зрения на мир и окружающих
людей. Как правило, ребенок говорит о том, что мир (весь) ужасен и несправедлив, что люди (все) злы и жестоки, что никто и никогда (вообще) его не понимал и не понимает. Соглашаясь с утверждением ребенка, что мир несправедлив, нужно постепенно в этом утверждении «весь мир» заменять на «часть мира», «все люди» на «некоторые люди», «никто и никогда» на «кое-кто и иногда». То есть постепенно обобщения заменяются конкретными примерами и конкретными людьми.
3. Нужно признавать право ребенка обижаться и на взрослых, и на сверстников уже в тех конкретных ситуациях, о которых он
рассказал.
4.
![]() Следует
обязательно выделить положительные моменты в тех ситуациях и случаях, где он
проявил себя уникально (удивительным образом, поразительно верно, неожиданно
парадоксально). Например, ребенок рассказывает о том, что его обижает
одноклассник, бьет и не дает проходу, а он не может ответить, убегает и
прячется. Признавая тяжесть ситуации, сочувствуя ребенку, нужно выделить
положительный момент в его поведении. Можно сказать примерно следующее (текст
составляется на основе слов самого
Следует
обязательно выделить положительные моменты в тех ситуациях и случаях, где он
проявил себя уникально (удивительным образом, поразительно верно, неожиданно
парадоксально). Например, ребенок рассказывает о том, что его обижает
одноклассник, бьет и не дает проходу, а он не может ответить, убегает и
прячется. Признавая тяжесть ситуации, сочувствуя ребенку, нужно выделить
положительный момент в его поведении. Можно сказать примерно следующее (текст
составляется на основе слов самого
ребенка и деталей, прозвучавших во время беседы): «Смотри, насколько он (задира) нуждается в тебе — никак он не может от тебя отстать. Твое нежелание с ним общаться и его замечать просто бесит его».
5. Необходимо искать и подчеркивать исключения, т.е. те ситуации, когда люди вели себя иначе, когда он сам вел себя иначе, мир преподносил необычные подарки, люди встречались добрые и отзывчивые.
6. Необходимо искать людей (и указывать на них ребенку), которым ребенок нужен, которые без него пропадут, которым будет очень плохо и больно, если он умрет.
7. Следует обсуждать с ребенком способы совершения суицида, показывая некрасивость смерти во всех ее проявлениях, обсуждать неестественность смерти в молодом возрасте, ее бессмысленность для достижения цели.
8. Необходимо подчеркнуть уникальность опыта, который подросток приобрел в результате этого кризиса, определить депрессивное состояние в качестве точки роста, когда человек останавливается и переосмысливает себя, мир и других людей. Как возможность иначе построить взаимодействие с окружающими.
9. Нужно выделить наиболее травмирующую ситуацию из череды представленных ребенком и работать непосредственно с ней.
Перечисленные пункты можно использовать не все. Необязательно и четко соблюдать последовательность этих шагов. Главное здесь то, что обсуждение проблем, признание их серьезности для человека должно предшествовать позитивному переопределению. Работа психолога должна напоминать раскачивание маятника — вначале небольшое колебание в застывшем восприятии, потом все больше и больше включаются позитивные моменты.
В школе принято называть трудными подростками всех подростков, поведение которых выпадает из общепринятых норм. Учится плохо — трудный, прогуливает школу — трудный, дерется — трудный, спорит с учителем — тоже трудный. Трудный подросток, по мнению большинства взрослых, — это ребенок, с которым трудно взаимодействовать. Однако те, кто непосредственно имеет дело с
трудными подростками, убеждены, что это подросток, не с которым трудно, а которому трудно. Принимая употребление наркотиков, бродяжничество, антисоциальные поступки за проблему, подменяют следствие причиной. Начиная бороться с внешними проявлениями глубинной проблемы ребенка, упускают из виду социальные причины, приведшие к этому поведению.
![]() Поэтому
меры, принимаемые обычно к ребенку, ушедшему на улицу, крайне неэффективны.
Школа стремится побыстрее избавиться от такого подростка и вкупе с комиссией по
делам несовершеннолетних способствует еще большей социальной дезадаптации
такого ребенка. Между тем именно социальная дезадаптация является, по мнению В.
В. Москвичева, основной причиной ухода подростка на улицу, в наркотическое
опьянение или в экспериментирование с психоактивными веществами [54]. Согласно
данной точке зрения, основная потребность подростка в развитии и
самореализации, осуществляемая с помощью выполнения позитивной социальной роли,
не находит своего удовлетворения в семье и в образовательном учреждении.
Подросток вынужден искать другие способы реализации своей потребности в
развитии, искать их в других социальных группах, которыми чаще всего
оказываются уличные и преступные сообщества.
Поэтому
меры, принимаемые обычно к ребенку, ушедшему на улицу, крайне неэффективны.
Школа стремится побыстрее избавиться от такого подростка и вкупе с комиссией по
делам несовершеннолетних способствует еще большей социальной дезадаптации
такого ребенка. Между тем именно социальная дезадаптация является, по мнению В.
В. Москвичева, основной причиной ухода подростка на улицу, в наркотическое
опьянение или в экспериментирование с психоактивными веществами [54]. Согласно
данной точке зрения, основная потребность подростка в развитии и
самореализации, осуществляемая с помощью выполнения позитивной социальной роли,
не находит своего удовлетворения в семье и в образовательном учреждении.
Подросток вынужден искать другие способы реализации своей потребности в
развитии, искать их в других социальных группах, которыми чаще всего
оказываются уличные и преступные сообщества.
Социальная дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой, характеризующейся невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям [76].
Очень важно понимать, что социальная дезадаптация порождается нарушением взаимодействия двух сторон — несовершеннолетнего и среды. В. В. Москвичев отмечает, что на практике основное внимание уделяется лишь одной стороне — дезадаптированному несовершеннолетнему, и практически без внимания остается дезадаптирующая среда [54].
Корни социальной дезадаптации лежат в следующих факторах (в порядке приоритетности):
1) в дисфункциональности семей;
2) в личностных особенностях ребенка (характерологических особенностях, темпераменте, психических отклонениях и т.д.);
3) в школьной дезадаптации;
4) в воздействии асоциально ориентированной неформальной среды;
5) в причинах социально-демографического характера.
Как правило, в каждом случае встречается сочетание нескольких факторов. Поэтому задачу адаптации ребенка в социуме необходимо решать в тесном сотрудничестве с социальными работниками, комиссией по делам несовершеннолетних, школой, психологами, юристами и другими социальными институтами.
Воздействию асоциально ориентированной неформальной среды приписывают очень большое значение, хотя, как мы видим, этот фактор стоит далеко не в первых рядах, а на первом месте по значимости находится дисфункциональность семей. О главном и определяющем влиянии семьи на развитие ребенка мы говорили довольно много, поэтому остановимся на некоторых других факторах. Для нас наиболее интересной является роль школы в процессе социальной дезадаптации ребенка.
![]() Ранее
упоминалось о том, что школа по большей части не желает возиться с трудными подростками,
и наиболее частым решением является перевод ребенка в другое образовательное
учреждение, где он попадает в асоциально ориентированную среду, которая
усиливает его социальную дезадаптацию. Еще раз хочется подчеркнуть, что работа
с трудным подростком — это дело всех социальных институтов, с которыми
контактирует школа. И психолог здесь является необходимым, но не достаточным
звеном. Психолог должен иметь право голоса при принятии решения о переводе
ребенка в другую школу или другое образовательное учреждение, он должен иметь
возможность обсуждать проблему подростка с комиссией по
Ранее
упоминалось о том, что школа по большей части не желает возиться с трудными подростками,
и наиболее частым решением является перевод ребенка в другое образовательное
учреждение, где он попадает в асоциально ориентированную среду, которая
усиливает его социальную дезадаптацию. Еще раз хочется подчеркнуть, что работа
с трудным подростком — это дело всех социальных институтов, с которыми
контактирует школа. И психолог здесь является необходимым, но не достаточным
звеном. Психолог должен иметь право голоса при принятии решения о переводе
ребенка в другую школу или другое образовательное учреждение, он должен иметь
возможность обсуждать проблему подростка с комиссией по
делам несовершеннолетних, быть в тесном контакте с социальными педагогами и социальными работниками.
Социальная дезадаптация не обязательно принимает формы асоциального поведения. Психические заболевания подростков также являются частым проявлением социальной дезадаптации. Диагноз шизофрении обычно ставят детям именно в подростковом возрасте, когда их неадекватное поведение становится явным и неуправляемым.
Рассмотрим некую модель организации окружающей среды, которая способствует подобному развитию событий.
П р и м е р . B V класс гимназии пришел новый мальчик Стас.
До этого он учился дома целый год. Мама объяснила это тем, что Стасу трудно с остальными детьми, и поэтому было решено перевести его на домашнее обучение. Однако через какое-то время мальчик стал плохо себя вести с приглашенными учителями, и психолог посоветовал отдать его в школу. Гимназия, которую выбрала мама, была маленькая, в классах училось не более 6—7 человек, поэтому мама согласилась с психологом, и ее сын стал учиться в гимназии. Придя в класс, Стас сразу же обратил на себя внимание неадекватным поведением: он мог ни с того, ни с сего забраться на парту и начать выкрикивать оттуда стихи, подбегал к
другим детям и стучал их по голове, мог зарычать или громко захихикать на уроке. Его поведение не поддавалось никакому объяснению и наводило на мысль о психическом расстройстве. Однако смущало то, что на собеседовании, когда его принимали в школу, он вел себя вполне нормально.
![]() Через
три месяца после поступления мальчика в школу было решено перевести его на
индивидуальное обучение, предусмотренное организацией учебного процесса в этой
гимназии. Стас приходил в школу, но занимался отдельно от остальных по индивидуальному
плану с учителями один на один. Одновременно психолога-консультанта попросили
позаниматься с мальчиком, чтобы понять, насколько он адекватен, идет ли речь о
психическом заболевании и нужно ли рекомендовать родителям психиатрическое
обследование, и, главный вопрос, который должен был решиться, — оставлять ли
его в школе.
Через
три месяца после поступления мальчика в школу было решено перевести его на
индивидуальное обучение, предусмотренное организацией учебного процесса в этой
гимназии. Стас приходил в школу, но занимался отдельно от остальных по индивидуальному
плану с учителями один на один. Одновременно психолога-консультанта попросили
позаниматься с мальчиком, чтобы понять, насколько он адекватен, идет ли речь о
психическом заболевании и нужно ли рекомендовать родителям психиатрическое
обследование, и, главный вопрос, который должен был решиться, — оставлять ли
его в школе.
Не описывая весь путь работы с данным мальчиком, отметим лишь, что самая большая трудность оказалась в работе с мамой, которая в соответствии с контрактом время от времени приходила к психологу. Мама вообще не хотела отпускать мальчика от себя, страстно нуждалась в его любви и присутствии, была крайне эгоистична в этом своем желании. И только благодаря наличию у нее некой доли здравого смысла, а также негативной обратной связи
от окружающих, которую она начала получать по достижении Стасом подросткового возраста, мама начала задумываться о тяжелых последствиях для сына в случае, если он не сможет быть включенным в социум. Стас, в свою очередь, изнывал от отсутствия друзей, сверстников для общения, занятий вне дома, невозможности
реализовывать себя еще где-нибудь, помимо тесных объятий матери. Его смещенная агрессия, которую он на самом деле испытывал к матери, проявлялась в его редких играх со сверстниками, что еще более отдаляло Стаса от них.
В данном случае обучение ребенка по индивидуальному плану способствовало окончательной социальной депривации. Работа с психологом помогла Стасу несколько наладить отношения с другими детьми, работа с мамой привела к тому, что она стала позволять Стасу иногда играть с подростками из класса, и через год психологу удалось убедить мать и администрацию школы отменить индивидуальное обучение и позволить Стасу посещать занятия в классе.
Решение родителей об окончании школы экстерном также часто продиктовано не декларируемыми желаниями повысить ус
певаемость или окончить школу раньше для поступления в вуз, а боязнью родителей отпустить своего ребенка, их эгоистичным стремлением удержать его возле себя как можно дольше. Самый
лучший способ для этого — это социальная депривация, когда ребенок не может себя реализовать нигде, кроме родительского
дома.
Л и ч н о с т н ы е о с о б е н н о с т и р е б е н к а здесь выступают как фактор риска в связи с реакцией родителей на его поведение и окружающих, для которых послушный ребенок всегда предпочтительнее непоседливого, яркого и отстаивающего свою ин
дивидуальность.
Причины с о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е
р а связаны с составом семьи и количеством детей в ней. Даже при отсутствии в этих семьях алкогольной, химической или какой-либо другой зависимости и явной асоциальности, велика вероятность развития дисфункций. Особенно ярко это проявляется на примере матерей-одиночек, которые помимо естественных трудностей воспитания при отсутствии второго родителя, зачастую не защищены социально. Они испытывают материальные трудности, сталкиваются с дискриминацией на работе, испытывают сложности в налаживании социальных связей.
![]() Ранее
много говорилось о том, что при работе с учителями следует четко отделять
ситуации личного порядка от ситуаций, связанных с профессиональной
деятельностью. И в зависимости от этого решать те или иные задачи. Хотелось бы
обратить внимание еще на один важный момент, который следует обязательно
учитывать при работе с учителями. Постоянно оценивая труд учеников, учителя
сами становятся очень чувствительными к оценке. Вольно или невольно они также
измеряют свою работу по 5-балльной шкале, сравнивая свой труд с трудом коллег и
болезненно переживая любые свои неудачи. Учителям в большей степени присущи
перфекционистские тенденции. Поэтому они скорее расскажут на консультации о
тайнах семейной жизни, чем о неудачах (или, как им кажется,
Ранее
много говорилось о том, что при работе с учителями следует четко отделять
ситуации личного порядка от ситуаций, связанных с профессиональной
деятельностью. И в зависимости от этого решать те или иные задачи. Хотелось бы
обратить внимание еще на один важный момент, который следует обязательно
учитывать при работе с учителями. Постоянно оценивая труд учеников, учителя
сами становятся очень чувствительными к оценке. Вольно или невольно они также
измеряют свою работу по 5-балльной шкале, сравнивая свой труд с трудом коллег и
болезненно переживая любые свои неудачи. Учителям в большей степени присущи
перфекционистские тенденции. Поэтому они скорее расскажут на консультации о
тайнах семейной жизни, чем о неудачах (или, как им кажется,
неудачах) в работе. В связи с этим, прежде чем углубляться в личную ситуацию учителя, следует поинтересоваться, что же его заставило прийти к психологу именно в этот момент жизни. Ведь, как правило, тяжелые личные обстоятельства длятся годами, а учитель приходит к школьному консультанту для их разрешения в какой-то
момент. Часто можно обнаружить, что у данного учителя произошло нечто с учениками или с их родителями и он стремится таким
262
образом защититься тяжелыми личными обстоятельствами от возможных обвинений в свой адрес.
Для серьезного рабочего альянса с учителями следует соблюдать несколько простых правил:
1) относиться с огромным уважением к труду учителей;
2) признавать тяжесть и сложность их труда;
3) ни в коем случае не критиковать и не морализировать;
4) спрашивать совета в любых возможных случаях;5) признавать заслуги в каждом конкретном случае.
Работа с родителями строится по тем же принципам, что и с учителями. Используются такие же техники и приемы, многие из которых были описаны на страницах данного пособия. Хотелось
бы еще раз обратить внимание на два важных момента, на которых мы уже останавливались.
![]() Первый
момент касается системности проблемы, с которой имеет дело семья, т.е.
необходимо помнить о том, что все члены семьи одинаково заинтересованы в одно и
то же время как в устранении проблемы, так и в ее сохранении. Эта
парадоксальная ситуация и не дает возможности семье самостоятельно справиться с
ней. В семейных проблемах каждый член семьи одинаково страдает и одинаково
получает некую выгоду из проблемы. Поэтому здесь нет правых и виноватых (за
исключением откровенного насилия над ребенком).
Первый
момент касается системности проблемы, с которой имеет дело семья, т.е.
необходимо помнить о том, что все члены семьи одинаково заинтересованы в одно и
то же время как в устранении проблемы, так и в ее сохранении. Эта
парадоксальная ситуация и не дает возможности семье самостоятельно справиться с
ней. В семейных проблемах каждый член семьи одинаково страдает и одинаково
получает некую выгоду из проблемы. Поэтому здесь нет правых и виноватых (за
исключением откровенного насилия над ребенком).
Второй момент касается позиции психолога-консультанта, который не имеет никакого права кого-либо осуждать или тем паче отчитывать. Больше всего родители, так же как и учителя, боятся оценки. Самая страшная для родителя угроза — это признание его несостоятельности как родителя. Это обусловлено тем, что очень часто, особенно в дисфункциональных семьях, ребенок выполняет некую миссию, оправдывает существование родителей как личностей. Его неудачи воспринимаются как свои собственные, и от
того очень болезненно. Если психолог-консультант хотя бы косвенно даст понять родителю, что он его осуждает, контакт скорее всего не будет установлен. Поэтому уважение к усилиям родите
лей и признание заслуг должно предшествовать любому решению проблемы.
Мы много говорили о том, как достичь доверительных партнерских отношений, как выделить проблему и замотивировать клиента на ее решение. Здесь кратко остановимся на том, как искать решение. На самом деле, если человек действительно хочет избавиться от своих трудностей, то поиск решения — дело техники. Если же его страхи или же скрытые выгоды велики, то решение проблемы найдено не будет. И бесполезно предлагать разумные и действенные способы, вялый интерес — самое большее, на что может в таком случае рассчитывать консультант.
Предположим, однако, что человек замотивирован, страхи нейтрализованы, желание решить проблему перевешивает вторичные выгоды.
Здесь любые вопросы, направленные на поиск решения, могут быть полезны. Например:
— Что, на ваш взгляд, могло бы вам помочь?
— Каким способом этого можно достичь?
— Что для этого нужно?
— Какие еще способы есть?
— Как можно это выполнить конкретно? И т.д.
На самом деле у человека всегда есть решение, которое ему подходит. Человек всегда знает, что для него полезно и нужно в данный момент времени. Только это знание заблокировано страхами, системными взаимоотношениями, неверием в собственные
силы и т.д. Если мы поймем, что мешает и чего не хватает, то решение придет само собой. Фактически вся работа психолога-консультанта сводится к поддержке и помощи в высвобождении психических сил клиента. Поэтому уверенность консультанта в то, что клиент справится с проблемой, — один из мощнейших инструментов профессионала.
Это не означает, что консультант должен играть роль этакого бодрячка-оптимиста, который на все смотрит легко и обесценивает проблему. Это означает лишь то, что при понимании тяжести
ситуации или проблемы консультант уверен в возможности ее решения.
Далее будут вкратце описаны несколько техник, применяемых в системном подходе, которые помогают человеку освободиться
от ограничений и использовать свои возможности.
![]() Техника шкалирования. Очень простая в применении и
очень эффективная техника, которая помогает в тех случаях, когда проблема
кажется глобальной и к ней трудно подступиться. Клиенту предлагается отметить
на шкале (от 1 до 10 или от 0 до 100 %) тот уровень, на котором он сейчас находится
в решении проблемы. Например: «На сколько вы сейчас, в данный момент вашей
жизни, уверены в своих силах (готовы начать новое дело, развестись с мужем,
стать великим полководцем...)»? Далее вырабатываются все возможные пути
достижения цели. Шкалирование можно использовать по любым вопросам и на любые
темы, когда человек сильно сомневается в своих силах. Далее обязательно нужно
отметить достигнутое: «Смотрите, вы продвинулись на целых 2 %, вы уже многое
сделали для достижения цели! А как вам это удалось?»
Техника шкалирования. Очень простая в применении и
очень эффективная техника, которая помогает в тех случаях, когда проблема
кажется глобальной и к ней трудно подступиться. Клиенту предлагается отметить
на шкале (от 1 до 10 или от 0 до 100 %) тот уровень, на котором он сейчас находится
в решении проблемы. Например: «На сколько вы сейчас, в данный момент вашей
жизни, уверены в своих силах (готовы начать новое дело, развестись с мужем,
стать великим полководцем...)»? Далее вырабатываются все возможные пути
достижения цели. Шкалирование можно использовать по любым вопросам и на любые
темы, когда человек сильно сомневается в своих силах. Далее обязательно нужно
отметить достигнутое: «Смотрите, вы продвинулись на целых 2 %, вы уже многое
сделали для достижения цели! А как вам это удалось?»
264
Техника экстернализации проблемы. Суть этой техники состоит в том, чтобы отделить личную идентичность клиента от его проблемы, выделить проблему как некое существо, живущее сво
ей жизнью и каким-то образом (более или менее тесно) связанное с клиентом. Эта техника работает и со взрослыми, и с детьми. Например: это не взрослый — тревожный и мнительный, а это его
![]() тревога, которая мешает ему
(взрослому) посмотреть на мир по- другому. Это она (тревога) на самом деле не
пускает сына-подростка гулять со сверстниками и читает его переписку с любимой
девушкой. Поэтому нужно переделывать не самого человека, его личность, а
выбирать способы совладания с тревогой. Это могут быть уговоры, запугивания,
договор о сотрудничестве и т.д. Главное — каким-то образом, признавая за
тревогой право на суще
тревога, которая мешает ему
(взрослому) посмотреть на мир по- другому. Это она (тревога) на самом деле не
пускает сына-подростка гулять со сверстниками и читает его переписку с любимой
девушкой. Поэтому нужно переделывать не самого человека, его личность, а
выбирать способы совладания с тревогой. Это могут быть уговоры, запугивания,
договор о сотрудничестве и т.д. Главное — каким-то образом, признавая за
тревогой право на суще
ствование, нейтрализовать ее влияние в определенные моменты жизни.
Циркулярные вопросы. Это одна из основных техник системного подхода, которая используется для выявления круговой при
чинности в поведении членов семьи. Суть техники состоит в том, чтобы не спрашивать напрямую человека, как он поступает в том или ином случае, а дать ему возможность увидеть себя глазами других членов семьи.
Например, ребенка спрашивают: «Что делает твоя мама, когда ты отвлекаешься от уроков?» — «Она начинает сразу кричать». Если бы мы спросили маму прямо о том, что она делает, когда ребенок отвлекается, она скорее всего сказала бы, что вначале она спокойно делает ему замечание или же что ругает его. Когда же мать слышит, что ребенок однозначно оценивает ее реакцию как немед
ленный крик, то это важная обратная связь для нее, и становится, например, понятна реакция ребенка, когда он огрызается или плачет и т.д. «А что делает папа, когда мама начинает на тебя кричать?» — «Папа идет на кухню и моет посуду, а потом помогает маме...» И т.д.
Циркулярные вопросы с успехом используются и в индивидуальном консультировании. Здесь они являются аналогом техник обмена ролями и зеркала, используемых в психодраме и других игровых методах. Человек имеет возможность взглянуть на свое поведение глазами других людей. Например: «Как, по вашему мнению, чувствует себя ваш сын, когда вы на него кричите?» — «Он
расстраивается и плачет». «А как ведет себя ваш муж в эти момен
ты?» — «Он меня жалеет и идет мыть посуду»...
Эта техника сложна в исполнении, и нужно большое количество часов обучения под руководством супервизора для овладения ею.
Техника позитивной коннотации (положительное переформулирование). Эта техника была разработана в рамках Миланской модели семейной системной психотерапии и состоит в прин-
циииально положительной оценке поведения всех членов семьи. Это помогает избежать оценки и морализирования, и, кроме того, позволяет терапевту не становиться на сторону кого-либо из членов семьи. Ведь каждый из семейной системы старается в меру своих сил ее сохранить. Поэтому вклад каждого должен быть высоко и положительно оценен.
Техника положительной коннотации с успехом применяется не только при работе с семьями, но и в индивидуальном консультировании. В основе лежит та же самая идея: человек сознательно не будет причинять себе вреда и все его усилия направлены на то, чтобы делать правильно, лучше, полезнее и т.д., только способы, которые он выбирает, далеко не всегда оказываются эффективными. Наша задача оценить усилия и признать их ненапрасными.
![]() Например,
человеку, который не может заставить себя сделать первый шаг, а долго думает и
раскачивается, прежде чем начнет что-то делать, нужно сказать: «Вы, видимо,
очень ответственный человек, и прежде чем что-либо совершить, вы готовитесь
тщательно и продуманно. Это говорит о серьезности и основательности вашего
характера». Человеку, который все делает быстро и не думая, импульсивно следует
сказать: «В этом вашем стремлении постоянно двигаться вперед, невзирая на
опасности и возможные неудачи, кроется удивительная способность не бояться
неудач, рисковать и пробовать новое». И далее, после признания заслуг, можно
уже переходить к коррекции: «Однако иногда данная особенность, видимо, мешает,
так как некоторые вещи требуют продумывания перед осуществлением. Давайте мы
подумаем, как можно совместить вашу уникальную особенность и необходимость
предварительной подготовки»...
Например,
человеку, который не может заставить себя сделать первый шаг, а долго думает и
раскачивается, прежде чем начнет что-то делать, нужно сказать: «Вы, видимо,
очень ответственный человек, и прежде чем что-либо совершить, вы готовитесь
тщательно и продуманно. Это говорит о серьезности и основательности вашего
характера». Человеку, который все делает быстро и не думая, импульсивно следует
сказать: «В этом вашем стремлении постоянно двигаться вперед, невзирая на
опасности и возможные неудачи, кроется удивительная способность не бояться
неудач, рисковать и пробовать новое». И далее, после признания заслуг, можно
уже переходить к коррекции: «Однако иногда данная особенность, видимо, мешает,
так как некоторые вещи требуют продумывания перед осуществлением. Давайте мы
подумаем, как можно совместить вашу уникальную особенность и необходимость
предварительной подготовки»...
Мы описали некоторые техники системного подхода лишь вкратце, а большее внимание уделили собственно системному
видению, поскольку работающему в качестве школьного консультанта психологу именно системное видение поможет ориентироваться в перипетиях школьной жизни.
1. Что такое задержка психического развития и как отличить задержку от педагогической запущенности?
2. Какие основные варианты задержки психического развития различают, исходя из этиологического принципа? Опишите их основные проявления и характеристики.
3. Можно ли преодолеть задержку психического развития? Если да, то каким образом, если нет, то поясните — почему.
4. В чем заключаются так называемые естественные или возрастные страхи у детей 8— 11 лет?
5. Чем могут быть обусловлены личностные страхи у детей 8— 11 лет?
6. Перечислите этапы естественного проживания горя.
7. Какие факторы могут привести к возникновению патологического горя?
8. Какие самые травматичные ситуации для ребенка?
9. Всегда ли и во всех ли случаях следует сообщать ребенку о смерти близкого человека? Обоснуйте свой ответ.
10. Перечислите четыре общих типа жестокого обращения с детьми.
11. Какими факторами формируется и поддерживается чувство вины у жертв насилия?
12. Что такое пренебрежение потребностями ребенка и почему его причисляют к видам насилия?
13. Чем характеризуется травма, полученная в результате вынужденной миграции?
14. Каковы социально-психологические феномены, препятствующие включению беженцев в социум новой страны и культуры?
15. В чем состоит работа с детьми, пережившими травму?
16. В чем заключается помощь психолога при угрозе суицида?
17. Верно ли высказывание: «Ребенок может совершить суицид, просто так ни из-за чего»?
18. Какой подросток называется «трудным»?
19. Дайте определение понятия «социальная дезадаптация».
20. Перечислите факторы, способствующие возникновению социальной дезадаптации (в порядке их значимости).
21. В чем заключается школьная дезадаптация? Каковы ее основные черты?
22. Каковы возможные причины подросткового чувства одиночества?
23. Назовите компоненты самосознания, дайте определение каждому из них.
24. Укажите аспекты эмоционально-ценностного отношения к себе. В чем заключается самоуважение и чем оно отличается от аутосимпатии?
25. Какой подход предпочтителен при работе с учителями и родителями? О чем психологу-консультанту, работающему в школе, следует непременно помнить?
26. В чем заключается техника экстернализации проблемы? В каких случаях ее следует использовать?
27. Для чего применяется техника позитивной коннотации и в чем ее суть?
![]() ■ Проделайте работу по
уничтожению своего страха (актуального ил детского) в соответствии с
алгоритмом, представленным выше. Отметьте и запишите те трудности, с которыми
вы сталкивались при выполнении задания. Выпишите свои способы борьбы со страхом.
Проанализируйте, каким образом вы используете данную стратегию в жизни. В каких
еще случаях вы используете ту же стратегию, что и при борьбе со страхом.
■ Проделайте работу по
уничтожению своего страха (актуального ил детского) в соответствии с
алгоритмом, представленным выше. Отметьте и запишите те трудности, с которыми
вы сталкивались при выполнении задания. Выпишите свои способы борьбы со страхом.
Проанализируйте, каким образом вы используете данную стратегию в жизни. В каких
еще случаях вы используете ту же стратегию, что и при борьбе со страхом.
![]() ■ Перечитайте установки,
перечисленные Алис Миллер. Вооружитесь карандашом и, не задумываясь, поставьте
галочки возле каждого из пунктов, с которым вы внутренне согласны. Не обращайте
внимания на протестующий голос разума и восстающие чувства, забудьте все свои
психологические знания. Превратитесь в ребенка своих родителей и быстро
проставьте галочки. Посчитайте количество отметок в списке. (Если хотя бы один
пункт вызван внутреннее согласие — есть над чем поработать в
■ Перечитайте установки,
перечисленные Алис Миллер. Вооружитесь карандашом и, не задумываясь, поставьте
галочки возле каждого из пунктов, с которым вы внутренне согласны. Не обращайте
внимания на протестующий голос разума и восстающие чувства, забудьте все свои
психологические знания. Превратитесь в ребенка своих родителей и быстро
проставьте галочки. Посчитайте количество отметок в списке. (Если хотя бы один
пункт вызван внутреннее согласие — есть над чем поработать в
личной психотерапии.)
■ Перечислите письменно все стереотипы о жертвах насилия, которые вы когда-либо слышали от окружающих людей. Выберите из них те, которые наиболее эмоционально цепляют. Попробуйте дать аргументированное объяснение несостоятельности этих стереотипов. Отметьте те
трудности, с которыми вы столкнулись в процессе объяснения.
■ Выполните упражнение «Как хорошо я себя знаю». Метод экспертных оценок.
1. Напишите себе характеристику, посмотрите, как много вы указали в ней социальных и внешних аспектов и сколько внутренних особенно
стей черт характера, личностных качеств. Постарайтесь дать себе как можно больше личностных характеристик.
2. Попросите нескольких своих друзей написать характеристику на вас с описанием ваших черт характера и личностных черт.
3. Сравните характеристики. Было ли что-то неожиданное в этих характеристиках, что оказалось новым, с чем вы не согласны, над чем хоте
лось бы подумать?
■ Выполните упражнение «Окно Джохари» [48].
Перед вами находится окно, состоящее из четырех прямоугольников. Два левых означают область вашей личности, которая вам известна, а два правых — область, которая вам не известна. Они различаются степенью открытости для других людей: верхние два означают области, откры
тые для других людей, т.е. то, что они видят в вас вне зависимости от того, насколько вы осознаете наличие этих черт, а нижние два окна означают области, которые не представлены для других людей, которые вы по каким-то причинам или неосознанно скрываете от них. Таким образом, у вас есть четыре области, различающиеся, во-первых, по степени
осознанности вами их наличия и, во-вторых, демонстрируемых или скрываемых от других людей. Ниже «окна» представлены в равных пропорциях. Однако у каждого человека свое соотношение осознанного/неосознанного и открытого/закрытого. Обычно у человека больше приот
крыта одна часть и меньше другая.
Известное мне Неизвестное мне
1. Открытое для меня и для 3. Закрытое для меня, но от
других людей крытое для других
2. Открытое для меня, но за 4. Закрытое и недоступное ни крытое для других людей мне, ни другим людям
![]()
П РИЛОЖ ЕНИЕ 1
Приложение
к приказу Минобразования РФ от 22 октября 1999 г. № 636
1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельности службы практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации (далее — Служба).
2. Под Службой понимается организационная структура, в состав которой входят педагоги-психологи образовательных учреждений всех типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры), психо
лого-педагогические и медико-педагогические комиссии (ПМ ПК), научные учреждения, подразделения высших учебных заведений, учебнометодические кабинеты и центры органов управления образованием и другие учреждения, оказывающие психологическую помощь участникам образовательного процесса.
3. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся, воспитанников, их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся, воспитанников творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также определению психологических причин нарушения
личностного и социального развития и профилактики условий возникновения подобных нарушений.
4.
![]() В своей деятельности Служба
руководствуется международными актами в области защиты прав детей, Законом
Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих органов
управления образованием, настоящим Положением.
В своей деятельности Служба
руководствуется международными актами в области защиты прав детей, Законом
Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих органов
управления образованием, настоящим Положением.
5. Целями Службы являются:
— содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений всех типов в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитании-
ков и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и
развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (закон
ных представителей), педагогических работников и других участников
образовательного процесса;
— содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения
успеха в жизни;
— оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в определении своих возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
— содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосер
дия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
6. Задачи Службы:
— психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
— содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности;
— формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию;
— содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образовательных учреждениях;
— психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;
— профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся, воспитанников;
![]() — участие в комплексной
психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов
образовательных учреждений, образовательных программ и проектов,
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;
— участие в комплексной
психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов
образовательных учреждений, образовательных программ и проектов,
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;
— участие совместно с органами управления образованием и педагогическими коллективами образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования;
— содействие распространению и внедрению в практику образовательных учреждений достижений в области отечественной и зарубежной психологии;
— содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательных учреждений научно-методическими материалами и разработками в области психологии.
7. Первичная помощь участникам образовательного процесса в образовательных учреждениях всех типов оказывается педагогом-психологом (педагогами-психологами) или группой специалистов с его участием. Состав группы специалистов определяется целями и задами конкретного образовательного учреждения.
8. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в профессиональной деятельности педагогов- психологов образовательных учреждений всех типов оказывается учреж
дениями, предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании;
образовательными учреждениями для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, и психолого-педагогическими и медико-педагогическими комиссиями.
9. Научно-методическое обеспечение деятельности Службы осуществляется научными учреждениями, подразделениями высших учебных заведений, учебно-методическими кабинетами и центрами органов управления образованием, а также научными учреждениями Российской академии образования.
10. К основным направлениям деятельности Службы относятся:
психологическое просвещение — формирование у обучающихся,
![]() воспитанников и их родителей (законных
представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных
учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в
интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта; психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; психологическая
диагностика — углубленное психолого-педагоги
воспитанников и их родителей (законных
представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных
учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в
интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта; психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; психологическая
диагностика — углубленное психолого-педагоги
ческое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как
индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; психологическая коррекция — активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-
![]()
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Приложение к приказу Минобразования России и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. № 463/1268
— осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения в учреждениях;
— содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка;
— способствование гармонизации социальной сферы учреждения и осуществление превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации;
— определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся (воспитанников), и принятие мер по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной);
— оказание помощи обучающимся (воспитанникам), родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;
— проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения;
— составление психолого-педагогических заключений по материалам исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся (воспитанников);
— ведение документации по установленной форме и использованию ее по назначению;
— участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных половозрастных особенностей личности обучающихся (воспитанников),
содействие развитию у них готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения;
— осуществление психологической поддержки творчески одаренным обучающимся (воспитанникам), содействие их развитию и поиску; определение степени отклонений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии обучающихся (воспитанников), а также различного
вида нарушений социального развития и проведение их психолого-пе
дагогической коррекции;
— формирование психологической культуры обучающихся (воспитанников), педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания;
![]() — консультирование работников
образовательного учреждения по вопросам развития данного учреждения,
практического применения психологии, ориентированной на повышение
социально-психологической компетентности обучающихся (воспитанников),
педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих).
— консультирование работников
образовательного учреждения по вопросам развития данного учреждения,
практического применения психологии, ориентированной на повышение
социально-психологической компетентности обучающихся (воспитанников),
педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих).
![]()
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
1. Показывает ли это изображение определенную ситуацию? Если да, то какую?
2. Как долго взаимоотношения существуют таким образом, как вы здесь указываете (стабильность)?
3. Как изменились сейчас взаимоотношения по сравнению с тем, какими они были раньше (различия)?
4. Какова причина того, что взаимоотношения стали такими, как вы их показываете здесь?
5. Каков контакт глаз между фигурами или что означает направление их взгляда?
6. Почему вы заменили фигуру(ы) на окрашенную(ые)?
7. Какие персональные характеристики представлены цветами, которые вы выбрали?
8. До какой степени эти характеристики влияют на семейные взаимоотношения?
1. Отражает ли это изображение ситуацию, которая происходит в какой-то момент. Если да, то какова была эта ситуация?
2. Как часто эта ситуация происходит (частота) и как долго она длится?
3. Когда эта ситуация произошла впервые и когда она была в последний раз?
4. Что должно произойти, чтобы типичные взаимоотношения стали соответствовать тем, как вы их видите в идеале?
5. Насколько важным это было бы для вас и других членов семьи?
6. Каков контакт глаз между фигурами или что означает направление их взгляда?
7. Почему вы заменили фигуру(ы) на окрашенную(ые)?
8. Какие персональные характеристики представлены цветами, которые вы выбрали?
9. До какой степени эти характеристики влияют на семейные взаимоотношения?
1. Кто вовлечен в конфликт (тип конфликта)?
2. По какому поводу этот конфликт (ситуация)?
3. Как часто этот конфликт происходит (частота) и как долго он длится?
4. Когда эта ситуация произошла впервые и когда это случилось в последний раз?
![]()
![]()
1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М., 2001.
2. Алексеева И. А., Новосельский И. Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь. — М., 2005.
3. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. — М., 2005.
4. Андреева Г. М. Психология социального познания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2000.
5. Бейтсон Дж ., Джексон дон. Д ., Хейли Д ., Уикленд Д . X. К теории шизофрении / / Московский психотерапевтический журнал. — 1993. — № 1.
6. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем / / Системные исследования. Ежегодник. — М., 1973. — С. 20 — 36.
7. Берштейн А. Педагоги и психологи трудности диалога / / Первое сентября. — 2005. — № 39.
8. Браун Дж ., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. — СПб., 2001.
9. Бюдженталь Дж . Искусство психотерапевта. — СПб., 2001.
10. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия / / Основные направления современной психотерапии. — М., 2000.
11. Варга А.Я . Системная семейная психотерапия. — М., 2001.
12.
![]() Варга А .Я ., Будинайте Г.Л. Теоретические основы системной
семейной терапии / / Системная семейная терапия: Классика и современность /
сост. и науч. ред. А. В. Черников. — М., 2005.
Варга А .Я ., Будинайте Г.Л. Теоретические основы системной
семейной терапии / / Системная семейная терапия: Классика и современность /
сост. и науч. ред. А. В. Черников. — М., 2005.
13. Вацпавик П., Бивин Дж ., Джексон Д . Психология межличностных коммуникаций. — М., 2000.
14. Вебб П . Игровая терапия с детьми, пережившими травму / / Новые направления в игровой терапии. Проблемы, процессы и специальные популяции / под ред. Г.Лэндрет. — М., 2007.
15. Вебер Г. Кризисы любви: Системная психотерапия Берта Хеллингера. — М., 2002.
16. Гаврилова Т. П. Эмпатия и ее особенности у детей младшего и среднего школьного возраста: дис. ... канд. психол. наук. — М., 1977.
17. Гарфилд С. Практика краткосрочной психотерапии. — СПб., 2002.
18. Гриншпун И. Б ., Морозова Е.А. Психодрама/ / Основные направления современной психотерапии: учеб. пособие. — М., 2000.
19. Дафт Р. Организации: учебник для психологов и экономистов. — СПб.; М., 2001.
20. Детская и подростковая психотерапия/ под ред. Д. Лейна, Э. Миллера. — СПб., 2001.
21. Джордж Р.. Кристианы Т. Консультирование: теория и практика. - М., 2002.
22. Драгунова Т. В. Психологические особенности подростка // Возрастная и педагогическая психология. — М., 1973.
23. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования: учеб. пособие — М., 2003.
24. Елисеев О. П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. — Псков, 1994.
25. Жуков Ю. М. Позиция психолога-практика / / Социальная психология: хрестоматия. — М., 2003.
26. Занковский А. Н. Организационная психология: учеб. пособие для вузов по специальности «Организационная психология» — М., 2000.
27. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. Сер. «Психология ребенка». — СПб., 2000.
28. Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков. — Л ., 1988.
29. Зейг Дж . К., Мьюнион В. М. Психотерапия — что это? — М., 2000.
30. Карвасарский Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. — СПб., 2006.
31. Карвасарский Б. Д. Психотерапия: учебник для студ. мед. вузов. — М., 1985.
32. Кле М. Психология подростка (психосексуальное развитие). — М., 1991.
33. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. — М., 1992.
34. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах. — Минск, 1976.
35. Кон И. С. Многоликое одиночество//Знание — сила. — 1986. — № 12.
36. Коттлер Дж ., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. — СПб., 2001.
37. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.,
1999.
38. Красногорский Н. И. Труды по изучению высшей нервной деятельности человека и животных. — М., 1958. — Т. 3.
39. Краткая философская энциклопедия. — М., 1994.
40. Крысько В. Словарь-справочник по социальной психологии. — СПб., 2003.
41. Куртис X. Концепция терапевтического альянса: расширение границ //Ж урнал практической психологии и психоанализа. — 2001. — № 1 —
2.
42. Лебединский В. В. Нарушения психического развития. — М., 1985.
43. Лейтц Г. Психодрама: Теория и практика. — М., 1994.
44.
![]() Леонтьев Д. Феномен ответственности: между
недержанием и гиперконтролем / / Экзистенциальное измерение в консультировании
и психотерапии. — Вильнюс, 2005. — Т. 2.
Леонтьев Д. Феномен ответственности: между
недержанием и гиперконтролем / / Экзистенциальное измерение в консультировании
и психотерапии. — Вильнюс, 2005. — Т. 2.
45. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2001.
46. Маданес К. Стратегическая семейная терапия. — М., 1999.
47. Малышева С. В. «Образ Я» и представление о сверстнике у подростков, переживающих одиночество: дис.... канд. наук. — М., 2003.
48. Мелибруда Е. Я — Ты — Мы. Психологические возможности улучшения общения. — М., 1986.
49. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. — М., 1986.
50. Миллер А. Вначале было воспитание. — М., 2003.
51. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я. — М., 2006.
52. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. — М., 1998.
53. Морено Я. Психодрама. — М., 2001.
54. М осквичев В. В. Социальная работа с несовершеннолетними. Опыт организации социальной службы. — М., 2000.
55. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. — М., 1994.
56. Невис Э. Организационное консультирование. — СПб., 2002.
57. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. — СПб., 2002.
58. Новикова М. В. Психологическая помощь ребенку в кризисной ситуации. — М., 2006.
59. Нормативно-правовые основы деятельности педагога-психолога образовательного учреждения: метол, пособие. — М., 2007.
60. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. — М., 1995.
61. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. — М., 2000.
62. Палаццоли С. М., Босколо Л ., Чеккин Д ., Пратта Д . Парадокс и контрпарадокс. — М., 2002.
63. Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. — М., 1991.
64. Пезешкиан X. Позитивная психотерапия как транскультуральный подход в российской психотерапии. — СПб., 1998.
65. Пезешкиан Н., Пезешкиан X. Позитивная психотерапия — транскультуральный и междисциплинарный подход / / Обозрение психиатрии
и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. — 1993. — № 4.
66. Психологический словарь/ под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. — М., 1996.
67. Психотерапия — что это? Современные представления/ под ред. Дж. К.Зейга и В. М. Мыониона. — М., 2000.
68.
![]() Раевский С. О., Хегай Л. А. Методы аналитической психологии К. Г.
Юнга / / Основные направления современной психотерапии. — М., 2000.
Раевский С. О., Хегай Л. А. Методы аналитической психологии К. Г.
Юнга / / Основные направления современной психотерапии. — М., 2000.
69. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. — М., 1994.
70. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. — М., 2002.
71. Сарджвеладзе Н., Беберашвили 3., Дж авахишвили Д ., Махашвили Н.. Сарджвеладзе Н. Травма и психологическая помощь. — М., 2005.
72. Сатир В. Вы и ваша семья: Руководство по личностному росту. — М., 2007.
281
73. Сборник нормативных документов, регламентирующих деятельность педагога-психолога системы образования. — М., 2006.
74. Серебрякова К. А. Почему падает успеваемость? / / Вестник практической психологии образования. — 2006. — № 4 (9).
75. Серебрякова К. А. Условия формирования образа «Я» и представлений о сверстнике у подростков: дис.... канд. наук. — М., 2004.
76. Социальные работники за безопасность в семье: учеб. пособие / под ред. М. И. Либоракиной. — М., 1999.
77. Стамм Я. Я. Методическое пособие по проведению организационных системных расстановок. — М., 2006.
78. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика/ под ред. К. Бейкер, А.Я. Варги. — М., 2005.
79. Трубицына Л. В. Процесс травмы. — М., 2005.
80. Трунов Д . Г. «Синдром сгорания». Позитивный подход к проблеме / / Журнал практического психолога. — 1998. — № 8.
81. Уоллес В., Холл Д. Психологическая консультация. — СПб., 2003.
82. Управление персоналом: учебник для вузов/ под ред. Т. Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — М., 2001.
83. Фельдштейн Д. И. Психология современного подростка. — М., 1989.
84. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — 6-е изд. — М., 1991.
85. Франке-Грикш М. «Ты с нами!»: Системные взгляды и решения для учителей, учеников и родителей. — М., 2005.
86. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. — М., 1991.
87.
![]() Хамитова И. Ю. Диагностика семьи / / Системная
семейная терапия: Классика и современность/ сост. и науч. ред. А. В. Черников.
— М., 2005.
Хамитова И. Ю. Диагностика семьи / / Системная
семейная терапия: Классика и современность/ сост. и науч. ред. А. В. Черников.
— М., 2005.
88. Хейли Дж . Терапия испытанием. — М., 1998.
89. Цзен И. В., Пахомов Ю. В. Психологические игры в спорте. — М., 1985.
90. Черепанова Е. М. Психологический стресс: Помоги себе и ребенку: Книга для школьных психологов, родителей и учителей. — М., 1997.
91. Черников А. В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики. — М., 2005.
92. Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии. — М., 1997.
93. Ш липпе А., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию. — М., 2007.
94. Ш мелев А. Г. и др. Основы психодиагностики: учеб. пособие для студ. педвузов. — М., 1996.
95. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии: метод, пособие. — М., 1996.
96. Эриксон М., Хейли Дж . Стратегии семейной терапии. — М., 2007.
97. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — М., 1996.
98. Юнг К. Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика. — Киев, 1995.
![]()
Предисловие.................................................................................................................3
Глава 1. Основные положения психологического
консультирования.................................................................................. 6
1.1. Определение психологического консультирования. Отличия психологического консультирования от других видов
практической деятельности психолога........................................................ 6
1.2. Задачи психолога в общеобразовательном учреждении....................... 12
1.3. Виды психологического консультирования............................................ 14
1.4. Цели и задачи психологического консультирования............................. 15
1.5. Проблема ответственности в работе
психолога-консультанта................................................................................22
Глава 2. Позиция и роли психолога-консультанта. Функции
и принципы............................................................................................. 36
2.1. Определение понятий................................................................................... 36
2.2. Позиция, роли, функции и принципы психолога-консультанта
в отношениях с клиентом............................................................................. 39
![]() 2.3. Психолог в школьной системе.
Позиции и роли, функции и принципы психолога-консультанта в
организации...........................49
2.3. Психолог в школьной системе.
Позиции и роли, функции и принципы психолога-консультанта в
организации...........................49
2.4. Этика психолога-консультанта.................................................................... 60
Глава 3. Организация и проведение консультаций ...............................76
3.1. Организация консультативного процесса в школе: время, место,
продолжительность сессий.............................................................................76
3.2. Технология получения запроса на психолого-консультативную
работу.....................................................................................................................82
3.3. Формулирование цели психологической работы................................... 90
3.4. Этапы и/или задачи психолого-консультативной беседы................... 93
3.5. Межличностные отношения — важнейшая
психотерапевтическая задача........................................................................99
3.5.1. Особенности межличностных отношений
в консультативном процессе...............................................................99
3.5.2. Установление и поддержание первичного
контакта................................................................................................ 113
3.5.3. Техники установления и поддержания контакта..................... 117 3.6. Отношения, возникающие при более чем одной консультации
(собственно психотерапевтические отношения)................................121
4.1. Понятие системной диагностики.........................................................138
4.2. Определение проблемы и ее контекста..............................................145
4.3. Формулирование гипотез......................................................................155
4.4. Диагностика системы, в которой возникла проблема......................157
4.5. Диагностика семьи ................................................................................162
4.5.1. Структура семьи............................................................................162
4.5.2. Стадии жизненного цикла семьи ...............................................173
4.5.3. Динамические параметры диагностики семейной
системы..........................................................................................183
4.5.4. Исторические (генетические) параметры диагностики
семьи.............................................................................................186
![]() 4.6. Диагностика школы как
организации................................................ 187
4.6. Диагностика школы как
организации................................................ 187
5.1. Консультирование поличным вопросам............................................ 198
5.2. Консультирование по организационным вопросам....................... 208
в школе...............................................................................................216
6.1. Консультирование детей....................................................................... 216
6.1.1. Задержка психического развития...............................................216
6.1.2. Проблемы в семье...................................................................... 220
6.1.3. Посттравматический стресс и посттравматическое
расстройство............................................................................... 224
6.2. Консультирование подростков........................................................... 249
6.2.1. Развитие самосознания...............................................................249
6.2.2. Проблема одиночества в подростковом возрасте................. 253
6.2.3. Работа с трудными подростками............................................. 259
6.3. Некоторые аспекты работы с учителями и родителями................ 262
6.4. Техники, применяемые в системном подходе...................................264
Приложения...................................................................................................270
Литература.................................................................................................... 279
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.