
|
«Музыкальное мышление как способ мышления человека (ученика) при его соприкосновении с музыкой как видом искусства»
|
Актуальность. Концепция модернизации российского образования выдвигает новые критерии качества образования. Выпускник школы должен получить систему универсальных знаний, которые помогут ему успешно адаптироваться на рынке труда: обладать высокой креативностью мышления, позволяющей творчески подходить к решению проблем; быть зрелой личностью, способной критически оценивать окружающую действительность и поступающую извне информацию. В реализации этих задач я вижу большую значимость предметов художественно-эстетического цикла и в частности уроков музыки.
Проблема. Проблема развития мышления во время обучения занимает особое место в школьной практике. Чтобы творчески подходить к решению проблем, нужно развивать мышление. Школьник учится думать и думает, учась: там, где нужно найти ответ на вопрос, что-то понять, и начинается мышление. Среди факторов, активно влияющих на процесс обучения, ведущая роль принадлежит сформированным приёмам мыслительной деятельности, которые, в свою очередь, став активными способами учебной работы, помогают достигать новых уровней знаний. Если ученик умеет анализировать, выделять главное, это значит, что он сумеет выполнить задание конструктивного и творческого характера, подняться от репродукции к творчеству.
Общая цель. Развитие музыкального мышления учащихся.
Конкретные цели.
- Выявить приёмы мыслительной деятельности на уроках музыки, которые эффективно влияют на мыслительный процесс.
- Включить в тематическое планирование выбранные методы мышления с использованием их на уроке.
- Через приёмы мыслительной деятельности влиять на креативность мышления учащихся.
Цель как результат.
- Создать базу методов, активизирующих мыслительную деятельность на уроках музыки.
- Положительная динамика в развитии мыслительных процессов.
- Через различные виды заданий строить уроки музыки на прочном психологическом фундаменте.
Цель как условие.
- Наличие материальных условий, техническое обеспечение.
- Компетентность педагога.
- Заинтересованность учащихся.
- Межпредметные связи.
Концепция модернизации российского образования выдвигает новые критерии качества образования. Выпускник школы должен получить систему универсальных знаний, которые помогут ему успешно адаптироваться на рынке труда: обладать высокой креативностью мышления, позволяющей творчески подходить к решению проблем; быть зрелой личностью, способной критически оценивать окружающую действительность и поступающую извне информацию. В реализации этих задач я вижу большую значимость предметов художественно-эстетического цикла и в частности уроков музыки.
Чтобы творчески подходить к решению проблем, нужно развивать мышление. Проблема развития мышления во время обучения занимает особое место в школьной практике. Школьник учится думать и думает, учась: там, где нужно найти ответ на вопрос, что-то понять, и начинается мышление. Среди факторов, активно влияющих на процесс обучения, ведущая роль принадлежит сформированным приёмам мыслительной деятельности, которые, в свою очередь, став активными способами учебной работы, помогают достигать новых уровней знаний. Если ученик умеет анализировать, выделять главное, это значит, что он сумеет выполнить задание конструктивного и творческого характера, подняться от репродукции к творчеству. Развитие мышления – это изменение его содержания и форм, которые образуются в процессе познавательной деятельности ученика. В психологии обычно рассматривают три вида мышления:
- практически-действенное;
- наглядно-образное;
-словесно-логическое.
Любому педагогу-музыканту приходится иметь дело с двумя факторами – музыкой, как таковой, и личностью ученика, его особенностями, устремлениями, способностями. В любом музыкальном обучении важнейшими компонентами являются развитие музыкального мышления и предотвращение или коррекция ошибочных действий. Меня заинтересовал вопрос: «Что такое музыкальное мышление?», «Чем отличается музыкальное мышление от мышления вообще и что есть общего?» «Как музыкальное мышление влияет на человека при его соприкосновении с музыкой?». Естественно, всё это помогает строить уроки музыки на прочном психологическом фундаменте.
Любая мыслительная деятельность человека, связана ли она со строгой логикой научного мышления или поэтическими озарениями мышления художественно-образного, всегда уходит своими истоками в знания о предмете, основывается на системах представлений и понятий о том или ином материале. Вне знаний, помимо их нет и не может быть интеллектуальных проявлений. Ум человека, по словам К.Д. Ушинского, развивается только в «действенных, реальных знаниях». Этот тезис был впоследствии поднят на щит продолжателями и последователями Ушинского. Так, П.П. Блонским в статье «Память и мышление» был высказан афоризм: «Пустая голова не рассуждает: чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем более способна она рассуждать».
В различных областях деятельности человек стремится выявить «интеллектуальную составляющую» и усовершенствовать мыслительные процессы, которые лежат в её основе, способствуют её эффективности. Политическое мышление, экономическое мышление, математическое мышление – подобные словосочетания отражают веру в могущество интеллекта, помноженного на специфику сферы деятельности. В области музыкального искусства и музыкальной педагогики – это музыкальное мышление. Его значение для обучения детей (и не только) неоднократно подчёркивалось в научно-методической литературе.
Долгое время российское музыкальное воспитание вынужденно ориентировалось на идеологические каноны. Лишь в конце советского периода утвердилась концепция, опирающаяся не на идеологию, а на искусство. Высказанная Д.Б. Кабалевским мысль о том, что обучение музыке должно основываться на закономерностях самой музыки, была принята педагогической общественностью с большим воодушевлением.
Но этого мало. Развивать личность можно лишь опираясь на законы развития личности. Следовательно, необходимо единство, синтез законов искусства и психологии. Б.В. Асафьев, Л.В. Гродзенская, М.А. Румер, В.Н. Шацкая, другие музыканты-просветители учитывали психологические данные своего времени в методических и научных разработках. Наше время открыло несравнимо более широкие возможности для синтеза наук. В последние годы был опубликован целый ряд работ по музыкальной психологии (книги и учебные пособия В.П. Петрушина, А.В. Ражникова, Г.С. Тарасова, Г.М. Цыпина), в которых затрагиваются отдельные стороны музыкального мышления. Огромную ценность представляют работы, выполненные на стыке музыкальной психологии и музыкознания (В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, М.С. Старчеус). С другой стороны, и сама музыкальная педагогика накопила богатый материал, так или иначе связанный с проблемой музыкального мышления (работы Т.А. Барышевой, В.К. Белобородовой, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличаускаса).
На стыке музыкознания, психологии и педагогики и нужно искать ответ на интересующие нас вопросы:
- Что есть музыкальное мышление?
- Какова его внутренняя природа?
- Каковы особенности его развития?
- Что может сделать педагог для развития музыкального мышления своих учеников?
Словосочетанием «музыкальное мышление» музыканты пользовались давно, хотя терминологического статуса вплоть до последних десятилетий оно не имело. В нём отражалось «интуитивно верное убеждение в том, что музыка есть особый вид интеллектуальной деятельности, в чём-то очень близкий мышлению». Длительное непризнание терминологического статуса за данным понятием было обусловлено несовместимостью взглядов на природу музыкального искусства и природу музыкального мышления.
Музыка как искусство эмоциональное может только пострадать от рационально-логического вмешательства – таково было мнение целого ряда крупных музыкантов-теоретиков XIX века. Сейчас метод Пушкинского Сальери – алгеброй гармонию поверить – уже не считается преступлением перед искусством. Убедительное тому доказательство приводит музыковед М.Г. Арановский на примере творческой деятельности композитора: «Композитору постоянно приходится решать много задач, требующих от него не порывов вдохновения, а точного расчёта и знания своего ремесла: структура тем, фактурное развитие, голосоведение, инструментовка и многое другое…» Исполнительское и слушательское музыкальное мышление также протекает при постоянном синтезе эмоционального и рационального. Известный дирижёр Леопольд Стоковский говорит об этом так: «Понимание внутренней природы музыки – органичного единства и сложного, но безупречного порядка её математических основ – нисколько не уменьшит нашего эмоционального восприятия красоты и поэзии музыки».
С другой стороны, мышление долгое время ограничивали областью логических операций, отказывая ему в связях с эмоциональной стороной человеческой психики. В современной психологии мышление рассматривается не только как процесс неравнозначный логически правильному оперированию понятиями, но экспериментально подтверждается и глубокая взаимосвязь между интеллектуальными и эмоциональными его компонентами. В.В. Медушевский в своих последних работах писал: «Определяя музыкальное мышление, нельзя допустить сведения до элементарного уровня его высокой духовности».
Путь к дефиниции музыкального мышления многие исследователи видят в последовательном определении сущности мышления вообще, выявлении особенностей художественного мышления и на его основе – уточнении специфики музыкального мышления:
«Мышление (философ.) – вид деятельности. Процесс получения новой информации посредством сопоставления информации известной и новыми эмпирическими знаниями».
«Художественное мышление – процесс моделирования системы отношений субъекта к реальной действительности, осуществляющийся как корреляция между сформированными в сознании базовыми элементами и вновь поступающими чувственными данными».
«Музыкальное мышление можно определить как реализуемый в интонировании процесс моделирования системы отношений субъекта к реальной действительности» (Дыс Л.Б. «Музыкальное мышление как объект исследования»).
Итак, музыкальное мышление – это выраженный в интонируемом звуке процесс моделирования отношений человека к действительности. Даже таким неполным определением снимается противопоставление мышления и музыки.
А.Н. Сохор заостряет внимание на категории «деятельность»: «Как и всякая художественная деятельность, музыкальное мышление представляет собою единство трёх основных видов деятельности: отражения, созидания и общения». Важное дополнение находим и у И.Г. Ляшенко: «Деятельность музыкального мышления представляет собой процесс преобразования звуковой реальности в художественно-образную». То есть модель отношений человека к действительности, выражаясь в звуках, использует некую часть этой действительности – акустическую реальность в качестве звуковой материи для обозначения идеального художественного содержания. Признание за музыкальным мышлением функции общения, коммуникации, по мнению М.Г. Арановского, даёт повод рассматривать музыку как один из самых мощных информационных процессов, охватывающих в принципе всё общество.
Музыкальное мышление – реальная психическая деятельность, с помощью которой личность приобщается к высотам музыкального искусства, постигает смысл заключённых в нём духовных ценностей. Оно возникает в процессе и как результат активного, эстетически окрашенного взаимодействия со звуковой реальностью. Эстетически окрашенным может быть отношение ко всему окружающему миру (природа, быт). Однако для формирования Музыкального мышления первостепенную роль играет звуковая реальность, уже несущая в себе эстетическую организацию, - музыкальное искусство.
Искусство в целом – сложнейшая система. Конкретному человеку оно является через конкретные музыкальные произведения, и личность осваивает их с помощью конкретных, общественно выработанных способов практической музыкальной деятельности. Поэтому практика музыкальной деятельности тоже важна.
Два фактора – музыкальное произведение и практическая музыкальная деятельность – и определяют, в конечном счёте, основные черты музыкального мышления личности. Другие факторы, такие, как общественная музыкальная жизнь, музыкальное образование и т.д., конечно, влияют на облик музыкального мышления, однако для конкретной личности это влияние достаточно стабильно. Для педагогического процесса они являются внешними факторами, с которыми нужно считаться. Музыкальное произведение играет роль многоуровневой информационной структуры, а практическое музицирование выступает как конкретный механизм обработки этой информации. Информационное содержание произведения и является теми новыми данными, которые обрабатывает музыкальное мышление на основе прошлого опыта личности.
Поскольку содержание музыкального произведения не сводимо к чисто акустической «игре» звуковыми формами, а всегда является обобщённым выражением человеческих чувств и размышлений, постольку музыкальное мышление опирается не только на собственно музыкальный, но и весь психологический опыт личности. Образы окружающей действительности, пережитые коллизии самоопределения своего «Я», ценности и нормы поведения ближайшего социального окружения, освоенные способы общественной деятельности – все эти компоненты личностного опыта органично присутствуют в процессе музыкального мышления наряду с опытом музыкальным.
В результате сопоставления новых данных с имеющимся опытом возникает некое новообразование, которое в психологии и философии называется новым знанием. Оно обычно обладает той или иной степенью абстрактности, отвлечённости. Результатом музыкального мышления также может стать знание абстрактного характера, отражающее закономерности звуковой реальности. Но это не главное. Если иметь в виду сопоставление «духовной информации» музыкального произведения с личностным психологическим оттенком, то сама возможность абстрактного знания представляется проблематичной.
В самом деле, умозрительное знание о чувстве или идее знанием этого чувства, идеи не является. Знание чувства возникает лишь тогда, когда оно прожито, прочувствовано (можно много читать о любви, но так и не узнать её, не полюбив действительно). А выстраданная идея, прожитое чувство всегда конкретны, психологически предельно реальны. Исследователи утверждают, что и в других областях мышления, например в математике, шахматах, знание лишь тогда становится достоянием личности, когда процесс его получения «прожит», прочувствован эмоционально. Но речь идёт о процессе, а результат является всё равно отвлечённым, не имеющим конкретного отношения к духовному миру личности. В результате же музыкального мышления человек получает в конечном счёте знание о самом себе, своей душе. И в этом особая психологичность музыкального мышления.
Музыкальное мышление как процесс познания собственной души инициируется внешним для личности фактором – музыкальным произведением. Внешняя причина внутренних психологических переживаний оказывается каналом связи между внутренним миром личности и духовным опытом человечества. Во время звучания произведение как бы «погружается» в личность, и все психологические события разворачиваются именно там, во внутреннем мире человека. По окончании звучания эти происшедшие в нём самом события человек закономерно связывает с прозвучавшей музыкой.
Психологически реальное переживание не требует доказательства своей истинности, человек верит собственным душевным движениям. Такое же безоговорочное доверие переносится и на произведение, в котором «произошли» эти движения. Именно здесь кроется механизм восприятия музыки как откровения. Самое истинное, самое сокровенное привносится в человека словно извне. Душа раскрывается, принимая духовный опыт, принадлежащий другим людям, человечеству. Такова самая ценная форма общения через искусство. Другой важнейшей особенностью музыкального общения является «расплывчатость» адресата. Человек в этом общении постоянно «соскальзывает» с автора на человечество, на самого себя или на находящегося рядом другого человека.
Коммуникативный аспект музыкального мышления неразрывно связан с практической музыкальной деятельностью. Здесь интересуют нас в первую очередь те действия, которые выполняют дети на уроках музыки. Это все виды пения, игры на музыкальных инструментах, все виды движения под музыку: дирижирование, пластическое интонирование, танец и т.д.
Слушание музыки как вид деятельности выглядит в этом ряду более пассивной по сравнению с другими формами. Однако отсутствие внешних проявлений не является показателем внутренней пассивности. Напротив, работа мысли может потребовать такого сосредоточения энергии, которое почти полностью «останавливает» внешние проявления. Это тоже активная деятельность, только другого вида.
Разделение на композитора, исполнителя и слушателя является существенным фактором, и многие исследователи основывают на нём классификацию музыкального мышления, подразделяя мышление на композиторское, исполнительское и слушательское. При этом подразумевается, что композиторское мышление – наиболее творческий, продуктивный вид, а слушательское мышление выступает как более пассивный вид мышления – репродуктивный. Однако, как отмечает известный исследователь мышления А.В. Брушлинский, «всякое деление познания на репродуктивное и продуктивное неправомерно уже потому, что исключает какую бы то ни было возможность перейти от первого ко второму. Между ними образуется пропасть, которую нечем заполнить». Таким образом, резюмирует он: «Мышление всегда является творческим».
Во всех случаях будут разными исходные условия и конечная цель мыслительного процесса, но не сам его творческий характер. Более того, произведения искусства «могут быть восприняты только в том случае, если законы, по которым совершается музыкальное восприятие, соответствуют законам музыкального продуцирования. Иными словами, музыка может существовать только при условии, если в какой-то очень важной части музыкального творчества и музыкального восприятия будут совпадать» (Арановский М.Г.).
Б.В. Асафьев называл музыку искусством интонируемого смысла. Это значит, что понимание музыкального произведения есть вдумчивый поиск значения, смысла звучащих интонаций. Если дополнить эти слова высказыванием Л.С. Выготского о том, что смысл произведения искусства человек конструирует сам из своих воспоминаний, ассоциаций и т.д., то становится ясным, что работа слушателя не может быть нетворческой.
Приведённые доказательства позволяют сделать важный вывод о сущности музыкального мышления: музыкальное мышление имеет принципиально творческий характер, оно продуктивно даже в тех формах, которые постороннему наблюдателю кажутся пассивными. Основным критерием продуктивности музыкального мышления является познание художественного смысла, содержания, выраженного в акустических материальных формах.
Художественный смысл не просто сочетается с акустической формой музыкального произведения, но проявляется в каждой её детали. Разделение формы и содержания – это теоретическая абстракция. В реальном произведении художественный смысл оказывается проявленным именно через форму. И лишь благодаря пристальному вниманию к форме возможно постижение смысла, содержания. Иначе музыкальное мышление превращается в необоснованное фантазирование, никак не связанное с конкретным музыкальным произведением.
Личность в практической деятельности через музыкальное произведение общается с духовным опытом человека. Проникновение в диалектику связей формы и содержания музыкального произведения порождает новый художественный смысл, личностно значимый для данного человека.
Психология мышления – достаточно развитая отрасль общей психологии, накопившая богатый теоретический и экспериментальный материал.
Говоря о специфике музыкального мышления, в первую очередь необходимо отметить, что мышление – это процесс, который разворачивается во времени. Очевидной особенностью музыкального мышления является то, что материал, который оно обрабатывает, имеет также процессуальную природу. Процесс мышления и процесс развёртывания музыкального произведения накладываются друг на друга, образуя сложную «двойную» динамику.
Процесс мышления проходит определённые стадии и этапы. В общей психологии принято выделять такие этапы, как акт принятия мыслительной задачи, исследование элементов, выдвижение гипотезы, проверка найденного решения.
Первый этап – начало мышления – акт принятия мыслительной задачи. А.В. Брушлинский указывает на строгую обусловленность этого момента: «…мышление всегда вызывается какими-то потребностями, побуждениями, мотивами, познавательными или чисто практическими интересами и т.д.». Удовлетворение этих интересов или потребностей и является конечной целью, итогом мыслительного процесса. И если итогом музыкального мышления является познание художественного смысла, то акт приятия музыкальной задачи можно трактовать, как желание понять смысл данного произведения.
На следующем этапе человек изучает элементы той задачи или ситуации, которая стала предметом размышления. Рассматриваются как свойства отдельных элементов, так и наиболее очевидные связи между ними. Исследование не имеет чёткой направленности: от основных элементов к второстепенным, затем к их отношениям или наоборот. Оно может быть и планомерным, и хаотичным, возможен и целостный охват всех наиболее существенных элементов и отношений.
В музыкальном мышлении этот этап предстаёт в виде исследования-вслушивания в комплекс элементов музыкального языка, задействованных в данном произведении. Для этого необходимо не только тонкое дифференцированное слышание, но и немалые теоретические знания. В этом смысле элементарную теорию музыки можно считать залогом успешного протекания данного этапа.
Наиболее важным результатом исследования, как правило, является вывод о недостаточности полученной информации. И тогда человек обращается к имеющимся знаниям, своему прошлому опыту. Интересно, что при этом он вспоминает не всё, что хранится в памяти, а только то, что может так или иначе содействовать решению. В каждом конкретном мыслительном процессе удельный вес используемых знаний различен. Это зависит и от задачи, и от личности человека, и от той внешней ситуации, в которой она решается. При этом напомним, по теории Л.С. Выготского: смысл произведения искусства человек конструирует сам из ассоциаций и аналогий своего опыта. Таким образом, прошлый опыт в музыкальном мышлении используется двояко: с одной стороны, актуализируются знания из области теории музыки, с другой – всплывают образы ранее пережитых психологических ситуаций. До конкретного процесса музыкального мышления они «хранятся» порознь. Одновременная актуализация двух разных сторон прошлого опыта во время восприятия новой музыкальной информации приводит к проявлению смысловых значений отдельных элементов. В результате с развитием музыкального мышления определённые звуковые сочетания получают достаточно стабильные значения в понимании данного человека. Это и есть постепенное формирование интонационно-смыслового словаря личности. Сложившиеся значения затем используются в качестве готовых смысловых единиц либо служат образцом, отправной точкой для образования смысловых вариантов и новых значений.
Важная особенность музыкального произведения как специфической задачи заключается в том, что полное определение значения каждого элемента не является непременным условием постижения смысла всего музыкального текста. Элементы настолько спаяны друг с другом, что непонимание одного интуитивно заполняется, домысливается за счёт понимания других, «соседних» элементов.
Следующий этап – появление гипотезы – исследователи математического и ситуативного мышления считают самым загадочным, необъяснимым. Гипотеза возникает в результате инсайта – озарения, внезапно вспыхнувшей догадки. Долгое время он считался неожиданным, ничем не подготовленным актом вдохновения. Однако последние исследования физиологических показателей, таких, как пульс, дыхание, глазодвигательная активность и др., показывают, что ему предшествует период внутреннего созревания, проходящий на неосознаваемом уровне.
В музыкальном мышлении инсайтом можно считать постижение смысла всего музыкального произведения. Ощущения радостного подъёма, вдохновения, необыкновенной ясности, сопровождающие осознание смысла звучащей музыки, знакомы каждому музыкально развитому человеку. По сравнению с мгновенным математическим или ситуативным инсайтом. Инсайт музыкальный – продолжительнее. Процессуальность развёртывания музыкального текста как бы «растягивает» его на время звучания всего произведения или целого построения. Возможно, поэтому музыка считается одним из тех видов деятельности, которые особенно развивают его. За время «растянутого» инсайта к чувственному переживанию успевает подключиться сознание и зафиксировать глубину одного из самых возвышенных состояний человеческой психики. В редких случаях инсайт возможен при первом же знакомстве с музыкальным произведением, однако, как правило, он возникает после многократного обращения к одной и той же музыке. Его появление связано с необходимостью видеть целое, а не сумму элементов.
Большое значение видению целого придавали гештальтпсихологии. Ведущий представитель этого направления М. Вертгеймер в своих исследованиях обнаружил, что «последовательность этапов мышления… была обусловлена видением… всей ситуации в целом. …В ходе такого процесса мы исходим не от отдельных элементов с тем, чтобы затем перейти к их совокупности, движемся не «снизу вверх», а «сверху вниз», начиная с постижения сущности структурного нарушения и переходя к осуществлению конкретных шагов».
Видение целостной структуры противоположно поэтапному движению от элементов и их свойств к рассмотрению отношений. Привычка к последовательному мышлению возникает вследствие ситуаций последовательного сложения, невозможности произнести одновременно два предложения, необходимости в описании переходить последовательно от одной вещи к другой и т.д. Она мешает целостному взгляду.
В процессе общения человека с музыкальным произведением, с этой точки зрения, можно отметить несколько важных моментов:
1. Невозможность одновременно сделать два действия, произнести или написать два предложения, благодаря чему вырабатывается привычка мыслить последовательно, для музыки не существует. Одновременность разного здесь естественна. Следовательно, с помощью музыки можно развивать такие важные качества мышления, как нелинейность и одновременная многоплановость.
2. Целостный взгляд на музыкальное произведение возможен лишь тогда, когда отзвучал последний звук. До этого слух неизбежно выхватывает отдельные элементы музыкальной ткани, которые немедленно получают первоначальную, хотя и смутную трактовку.
3. Анализ отдельных элементов без определения их места в структуре целого в музыкальном мышлении невозможен, так как за элементами музыкального языка нет жёстко закреплённого внеконтекстуального значения. Смысл каждого элемента может быть определён только через весь контекст и общий смысл всего произведения.
Таким образом, если в других видах мышления возможно движение от элементов к целой структуре или движение от сущности структуры к элементам, то в музыкальном мышлении процесс имеет принципиально двойственное обобщающее направление: значение элементов познаётся только через целое, однако и структурное видение целого возможно только через понимание элементов.
Помимо основных этапов мышления, в общей психологии принято выделять операции. Операцию можно считать элементарной единицей мыслительного процесса, так как она предполагает выполнение одного законченного действия. Вслед за традиционной логикой психология мышления выделяет следующие основные операции: определение, обобщение, сравнение и различение, анализ, абстрагирование, группировка и классификация, суждение, умозаключение.
Большинство из них присутствуют в процессе музыкального мышления в более или менее специфическом качестве. Особая текучесть и необратимость музыкального текста обусловливает необходимость постоянного структурирования звукового потока. Операции группировки, сравнения и различения можно назвать «постоянно действующими», развёрнутыми на всё время звучания произведения. Музыкальное познание обязательно предполагает сравнение звучащего в данный момент с предыдущим звучанием, причём этот механизм действует на всех уровнях музыкального синтаксиса:
1)сравнение звуков по высоте и длительности даёт представление о ладовой и ритмической организации интонаций и мотивов;
2) сравнение мотивов и фраз позволяет воспринимать масштабно-тематические структуры;
3) сравнение частей и разделов приводит к осмыслению формы и типа развития;
4) сравнение данного произведения с другими выявляет жанровые и стилистические особенности.
Уже со второго уровня синтаксиса сравнение и различение требует подключения операции группировки. Сопоставить две фразы можно лишь тогда, когда ясны границы каждой из них, если отдельные звуки объединены, сгруппированы по фразам.
В.Б. Брайнин считает группировку по фразам основополагающим для музыкального мышления действием. По его мнению, точка окончания музыкальной фразы проливает свет на то, что было до этого внутри неё. Чем ближе конец фразы, тем с большей вероятностью предугадывается дальнейшее движение. Это связано с тем, что в завершающих интонациях чаще встречаются штампы; с другой стороны, начало музыкального движения в общих чертах предопределяет тип окончания. В разработанной Брайниным методике по развитию музыкального мышления на уроках сольфеджио большое внимание уделяется развитию именно этой особенности – предслышать конец музыкальной фразы с обязательным мыслительным охватом всего отзвучавшего музыкального высказывания.
Группировка по фразам – это, безусловно, не единственная ситуация, требующая данной мыслительной операции. Фразы группируются в разделы и части формы; части, в свою очередь, объединяются в целое произведение. На первый взгляд здесь просто увеличивается объём музыкального материала, подлежащего группировке и сравнению. Однако на практике обнаруживается другое. Группировка по фразам даётся детям достаточно легко благодаря элементарному слуховому опыту и связанному с ним ладовому чувству. Без каких-либо особых инструкций они с лёгкостью отмечают конец музыкальных фраз условным знаком (хлопком в ладоши, поднятием руки). Сделать то же самое в конце части или раздела большинство детей затрудняется. Даже по окончании произведения вопрос «Сколько в нём было крупных разделов или частей?» вызывает противоречивые ответы.
Это происходит потому, что для группировки по фразам достаточно интуитивного ощущения, а для группировки по частям – нет. Если предложить детям ориентироваться, например, на такой признак, как сохранение или изменение настроения, то ответы сразу становятся более точными и осмысленными. (Любопытная деталь – само настроение музыки и его изменения ощущаются человеком на чувственном уровне. Однако если не подключается музыкальное мышление, то по окончании звучания он не в состоянии охарактеризовать даже самые значительные изменения. Прозвучавшая только что музыка словно «стирается» из памяти и психологического опыта.) Следовательно, успешная группировка по частям возможна только при ориентировке на осмысленный признак.
Группировка музыкального потока в целое произведение оказывается не только самой сложной, но и самой трудно контролируемой. Зафиксировать конец музыкальной фразы или раздела невозможно без понимания их внутренней логики, осознания завершения группировки. Зафиксировать конец музыкального произведения можно просто услышав, что звучание прекратилось. Приём «выдачи инструментального средства» - группировочного признака – здесь не может применяться прямолинейно, так как группировка целого произведения возможна только на основе понимания его художественной идеи, а не по формальным признакам. Таким образом, в музыкальном мышлении группировка постоянно совершается на различных уровнях: интуитивном, формально-логическом, художественно-целостном.
Ещё более специфичными в музыкальном мышлении являются операции суждения и умозаключение.
Суждение наделяет некий объект определённым качеством. Однако суждение типа «эта музыка весёлая» лишь косвенно связаны с музыкальным мышлением. Данное высказывание – это вербальное выражение пережитого эмоционального состояния. Результаты музыкального мышления были осознаны, свёрнуты и облечены в коммуникативную речевую форму ещё одним, следующим мыслительным актом, для которого музыка была не сущностью, но отправным пунктом. Здесь действовали закономерности обычного, а не музыкального мышления.
Вне конкретного человеческого восприятия музыка вообще немыслима в эмоционально-нравственных категориях, поэтому само восприятия её как радостной или трагической уже есть наделение звучания определённым качеством. Следовательно, эмоциональное переживание музыки – это и есть музыкальное суждение.
Безусловно, наряду со столь специфическими в музыкальном мышлении присутствуют и более традиционные формы суждений, связанные с акустическими параметрами звучания, музыкально-теоретическими сведениями, ситуацией восприятия и т.д. Но и они словесному выражению не тождественны и зачастую с большим трудом поддаются вербализации.
Умозаключение возникает в результате сопоставления нескольких суждений. Если принять предложенную выше трактовку музыкального суждения, то из сопоставления отдельных эмоциональных переживаний вырастает переживание логики развёртывания художественного образа. Если подключить и другие вышеперечисленные виды суждений, то в это понятие оказываются включёнными причинно-следственные связи в ладогармонической и масштабно-тематической областях и вообще всё, что связано с использованием «музыкальных грамматик» (термин В.В. Медушевского).
Таким образом, мы видим, что этапы и операции развёртывания мыслительного процесса, выделяемые общей психологией мышления, могут быть выделены и в музыкальном мышлении с учётом специфики художественного содержания музыкального произведения.
Кроме временных составляющих – этапов и операций, мышление обладает определённым «вертикальным» составом. В нём одновременно участвуют несколько уровней психики, несколько её пластов. Сознательный и бессознательный уровни являются важнейшими составляющими этой «вертикали».
Здесь я приведу в пример целостную модель музыкального мышления с учётом его структурных и динамических особенностей, разработанную учителем музыки школы №1732 г. Москвы Н.В. Сусловой.
|
М
У
З
Ы
К
А |
Воздействие |
Личность |
||
|
Музыкальная
речь |
В
О
С
П
Р
И
Я
Т
И
Е |
М – ХС Парадоксальный смысл, т.е. с Мышление – возможными внутренними художественный противоречиями, однако при смысл этом предельно ясный и целостный (трудно описуем в словах, близок к медитавной трансценденции). |
М
Ы
Ш
Л
Е
Н
И
Е |
|
|
Музыкальный
язык |
М – МК Аристотелева логика: непро- Мышление – тиворечивость, последователь- музыкальная ность, дискретность, анализ и коммуникация чёткая однозначная фиксация элементов. |
|||
|
Активные
практические действия |
М – МД Точность и целесообразность Мышление – исполнительских движений музыкальные при пении, игре, дирижиро- действия вании. Наибольшая внешняя выраженность и контролируе- мость. |
|||
|
Переживания
и образность |
ПО – П Свёрнутые образы ранее по- прошлый опыт – лученных знаний, музыкально память -эстетических переживаний, личностно-значимых жиз- ненных ситуаций, сценарии, стереотипы, эталоны поведе- ния. |
|||
|
Эмоциональ-
ность |
Т Бессознательные двигатель- Телесность ные реакции всех уровней, вплоть до изменений физио- логических ритмов и гумо- ральной регуляции. |
|||
В схеме учитывается резонанс двух систем: музыки и музыкального мышления личности. Внутренняя структура самой музыки, безусловно, имеет огромное значение в таком резонансе.
Во внутренней структуре личности параллельно обозначены музыкальное мышление и музыкальное восприятие. Они близки и взаимосвязаны, но не тождественны друг другу. Нельзя их считать и последовательными во времени: восприятие, а затем на его основе – мышление. Они различаются как экстравертивный и интравертивный процессы: восприятие нацелено на внутреннюю, личностно-значимую переработку и порождение смысла. Процесс восприятия продолжается, пока продолжается звучание. Музыкальное мышление может подключиться сразу же, а может позднее (в случае недостаточной его развитости). Как только это происходит, мышление начинает влиять на структурированность и направленность восприятия, но восприятие продолжает «поставлять материал» для мыслительных операций.
Различная яркость стрелок в схеме, отображающих воздействие музыки на различные уровни музыкального мышления, соответствует степени осознанности. Однако необходимо помнить, что реальное музыкальное мышление всегда сложнее, противоречивее графической схемы. Процесс может сочетать различные уровни, перетекать из одного в другой, концентрироваться на отдельных этапах или проявляться отрывочными фрагментами.
Уровни музыкального мышления взаимодействуют, связаны друг с другом. Музыкальное мышление – процесс не только многоуровневый, но и динамический. Стадии развёртывания музыкально-мыслительного процесса в обобщённом виде отражены в следующей схеме:
Процесс музыкального мышления
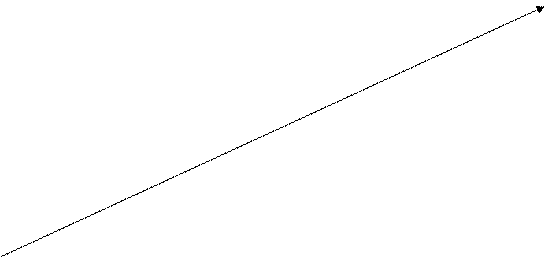 сознание
сознание
Целостное___ анализ элемен- инсайт, синтез медитативное пережи-
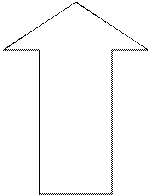 восприятие
тов, установле- в новую вание смысла, вклю-
восприятие
тов, установле- в новую вание смысла, вклю-
ление связей целостность чение его в структуру
личности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т телесность |
Бессознательное
Стрелками обозначены наиболее существенные связи, которые могут быть установлены между уровнями музыкального мышления. В реальном процессе мышления некоторые из них могут отсутствовать или, наоборот, могут возникнуть связи, не указанные в схеме. Но в любом случае, по мере развёртывания музыкально-мыслительного процесса происходит постепенное нарастание количества, глубины и структурированности связей, с общей тенденцией от бессознательной ориентации на всё более сознательную.
Обобщим вышесказанное:
- Осознаваемые активные действия (дирижирование, игра на музыкальных инструментах и т.п.) вызывает целый ряд других, сопутствующих им неосознаваемых двигательных реакций; в свою очередь, неосознаваемые телесные реакции влияют на качество выполнения движений осознаваемых. Возникает связь: М–МД – телесность.
- Воскрешаемый личный опыт обязательным компонентом также имеет неосознаваемые двигательные реакции, которые возникают как эмоциональный фон заново переживаемых образов. Их возникновение, в свою очередь, стимулирует переживание, как бы «подогревая» его соответствующим эмоциональным фоном. Возникает связь: ПО-П – телесность – ПО-П.
- Анализ элементов музыкального языка опирается на прошлый музыкальный опыт, хранящиеся в свёрнутом виде знания. В свою очередь, личностно-значимые эталоны ограничивают круг элементов, могущих стать предметом анализа. Так возникает связь: ПО-П – М-МК.
- Элементы музыкального языка, преломляясь через бессознательные образы личностного опыта и обретая эмоциональную окраску, приобретают личностно-значимый смысл. Это отношение выражено сквозной связью:
М-МК - - - М-ХС.
- Осознание элементов музыкального языка, их значение внутримузыкального текста делает более точными и целесообразными движения, связанные с практическим музицированием. Такова связь:
М-МК – М-МД.
В момент инсайта элементы музыкального языка сплавляются в цельнозначимое образование, порождая смысл, опосредованный всеми другими уровнями – связь веерного типа от М-МК – М-ХС.
Медитативное переживание смысла раскрывает границы уровней, приводя к слиянию всех качеств и связей в единый поток катарсического перерождения. В этот момент личность, в идеале, выходит на новый виток развития благодаря включению нового смысла в собственную структуру.
Таким образом, в структуре музыкального мышления находят отражение практически все аспекты музыкальной деятельности. Эта схема позволяет учителю через музыкальное мышление действительно гармонично развивать личность ученика, учитывая и сознательные и бессознательные процессы, опираясь и на культурную традицию, и на личный прошлый опыт. Единство музыкального движения, теоретического осмысления и эмоционального погружения в музыкальный опыт дают уникальную возможность с помощью чётких заданий, адресованных к различным уровням музыкального мышления, выйти на самое главное в обучении искусству – постижение художественного смысла музыки.
Приведу примеры заданий, которые активизируют мыслительную деятельность на уроках музыки.
1. Сравнить: скрипка – балалайка, установив
а) общие признаки (музыкальные инструменты, струнные)
б) различие (балалайка – струнный щипковый, скрипка – струнно-смычковый; у каждого инструмента – свой тембр; внешние признаки – форма, расположение по отношению к корпусу исполнителя во время игры)
арфа – гусли
ложки – барабан и т.д.
песня – пьеса
песня – романс
концерт – симфония
опера – балет и т.д.
В звучащем варианте:
«Вальс» Штрауса – «Вальс» Шопена
Прелюдии Баха – Прелюдии Шопена
«Рондо» Моцарта – «Лакримоза» Моцарта и т.д.
2. «Лишнее слово»
а) симфония, песня, пьеса, соната;
б) гопак, вальс, марш, полька;
в) флейта, гобой, скрипка, кларнет;
г) Гайдн, Глинка, Моцарт, Бетховен и т.д.
3. Соотнести: с именем композитора
а) портрет;
б) фрагмент его биографии;
в) фрагмент истории создания произведения;
г) фрагмент литературного произведения, положенного в основу музыкального.
4. Какие музыкальные произведения, звучащие на уроках, напоминают эти иллюстрации?
5. Продолжить ряд:
а) органист, трубач… (профессии музыкантов-исполнителей);
б) Моцарт, Шуберт, Чайковский… (фамилии композиторов, без деления на отечественных и зарубежных) и т.д.
5. Составить логическую пару слов:
а) дирижёр – оркестр (руководитель);
б) гармонь балалайка (русские народные инструменты) и т.д.
6. Сгруппировать:
Мануалы, контрабас, трубач, флейта, кафедра, кларнет, хор, барабан, домра, фасад, трубы, органист, оркестр, ложки, песня, соната (признаки определяет учитель, а в дальнейшем сами ученики).
7. Доказать:
а) песня = полифоническое произведения (при каких условиях может существовать это утверждение? … если песня будет многоголосной, значит не сольной, а в хоровом варианте звучания);
б) песня = пьеса (привести пример).
8. Допишите слово:
Бар - баритон;
Фа - фагот;
Ро - рояль и т.д.
9. Звучащая викторина: определить по фрагменту
а) тип оркестра;
б) тип хора;
в) инструмент;
г) солирующий инструмент;
д) жанр – назвать произведение и автора.
10. Различные головоломки, ребусы, шарады, софизмы.
11. Примеры домашнего задания.
а) 5 класс. МУЗЫКА - прекрасная богиня, которой вы объясняетесь в любви. Напишите и оформите письмо любви, которое пошлёте богине МУЗЫКЕ. Представьте её в рисунке.
б) 6 класс. В поисках прекрасного: представьте, что ваша душа – это цветок, который расцветает, если его поливают красотой. Опишите источники красоты, питающие вашу душу. Нарисуйте цветок своей души, расцветавший под влиянием красоты. Подберите необходимую музыку.
12. Примеры вопросов, которые заостряют внимание ребёнка к своему внутреннему миру, к его осознаваемым и неосознаваемым чувствам, мыслям, впечатлениям, подающимся в его душе под воздействием музыки:
- Помните ли вы свои впечатления, полученные от этой музыки на прошлом уроке?
- Что важнее в песне – музыка или слова?
- А в человеке что важнее – ум или сердце?
- Каким ты себя чувствовал, когда звучала эта музыка?
- Где бы она могла звучать в жизни, с кем бы ты хотел её слушать?
- Что переживал композитор, когда писал эту музыку? Какие чувства он хотел передать?
- Звучала ли у вас в душе эта музыка? Когда?
- Какие события в своей жизни вы могли бы связать с этой музыкой?
Здесь хотелось бы сказать о важности и необходимости детского творчества на уроке музыки, о котором говорится в большинстве работ, посвящённых проблемам музыкальной педагогики. Среди положительного арсенала творческих форм деятельности музыканты-педагоги указывают такие качества, как активность, радость, самовыражение. Творчество – это действительно самовыражение, т.е. самостоятельное выражение чего-то своего: настроения, образа, мысли. Если в творческих заданиях стимулировать выражение учеником собственного содержания, ребёнок будет поставлен в ситуацию коммуникативного выбора. Ему придётся подыскивать музыкально-языковые средства для адекватного выражения содержания. Проверкой адекватности выбранных средств послужит реакция одноклассников, которые поймут или не поймут, что хотел сказать «композитор». Как только необходимость и сложность выражения музыкальных мыслей, понятного другим людям, будет осознана, станет ясна и целесообразность структурирования музыкального произведения-высказывания, изучения закономерностей его строения. В этом случае формы, масштабно-тематические структуры, ладогармоническая функциональность станут на уроке музыки не самоцелью, а способами организации музыкального материала, помогут яснее выразить музыкальную мысль и, соответственно, яснее её понять.
Определив сущность, структуру музыкального мышления и обозначив необходимые предпосылки его развития, можно поставить более конкретные, практические вопросы, например: как определить степень развития музыкального мышления и как контролировать его формирование во время обучения?
Ответить на эти вопросы нелегко, ведь мышление – это внутренний процесс, и осознание, рефлексия, понимание, смысл и т.п. явления для внешнего наблюдения почти недоступны. Их регистрирует сам человек, что косвенно выражается в физиологических показателях; психологических показателях – в первую очередь в поведении; в результатах специально организованных творческих заданий: образцах литературного, музыкального и живописного творчества.
Физиологические показатели требуют сложной аппаратуры для проведения точных измерений. Учитель не обладает необходимой для этого техникой. С другой стороны, её применение может нарушить естественную атмосферу музыкальных занятий. Поэтому сосредоточимся на других показателях и более доступных способах наблюдения.
Психологические показатели поведения – вербальная активность, мимические и пантомимические проявления – могут быть предметом как непосредственного наблюдения на уроке, так и анализа видеозаписей. Взгляды, жесты, позы имеют значение и сами по себе (во время организационных моментов урока, обсуждений, пауз), и в составе различных форм музыкальной деятельности (как составляющая при пении, слушании музыки, музыкальном движении и т.д.). Важно также учитывать произвольность или непроизвольность этой активности.
В мимике и пантомимике достаточно ярко проявляются внутренние психические состояния человека. Внешнее проявление имеют и многие этапы мыслительного процесса. Акт приятия задачи часто сопровождается характерным «пусковым» жестом («эх, была не была»), принятием позы готовности. Этап дискретного анализа элементов часто сопровождается разграничительным движением ладонью, указательным пальцем и т.п.
Внешнее проявление инсайта психологи назвали АГА-реакцией. Посторонний наблюдатель может судить о внезапном озарении по следующим внешним признакам:
- взгляд из сосредоточенного, направленного в одну точку, превращается в живой, подвижный, ищущий глаза собеседника;
- поза из неподвижно-напряжённой становится более свободной, раскрепощённой, с более частыми сменами положений корпуса;
- руки: в момент, предшествующий инсайту, часто подрагивает кисть, «барабанят» по столу пальцы, бывает выставлен указательный палец или рука прикасается к лицу. В момент наступления инсайта все эти движения прекращаются обычно резким движением, утверждающим жестом (хлопок по коленям, столу, сжатием руки в кулак, поднятием вверх указательного пальца и т.д.);
- мимика в предшествующий инсайту момент часто бывает напряжённой: сдвинуты брови, прищурены глаза, закушена губа. О наступлении инсайта свидетельствует «сброшенное» мимическое напряжение: складки расправляются, появляется улыбка.
Вербальная активность является не основным, а побочным продуктом музыкальной деятельности, одним из способов внешнего выражения внутреннего психического состояния. Она часто проявляется одновременно с пантомимическими и мимическими показателями. Попытки вербализации могут служить показателем происходящего или произошедшего осознания.
При анализе вербальной активности необходимо учитывать содержание высказываний, их метафоричность, близость общепринятому смыслу (при трактовке образа, идеи музыкального произведения), экстра- и паралингвистическую активность (наличие повторов, пауз, междометий), семантико-синтаксический состав.
Для интерпретации вербальных проявлений можно ориентироваться на следующие значения этих показателей:
- обилие пауз, междометий, повторов характеризует трудности вербализации. Однако если этому предшествует яркое, непроизвольное желание ответить, предваряемое внешними признаками АГА-реакции, то можно трактовать подобные экстра- и паралингвистические показатели как трудность вербального перевыражения значения, смысла, понятого невербальным способом. В противном случае эту трудность можно расценивать как принципиальное непонимание музыкального смысла;
- артистическое богатство тембра голоса, наличие эмоциональных акцентов в высказываниях является знаком приближения к пониманию художественного смысла. Оттенок же рассудочности и нарочито «правильного» построения фраз – признак мышления скорее в словесно-логической, нежели музыкальной области (дети пытаются соблюсти внешние формы «хорошей» учебной работы, не понимая сути);
- наличие в высказываниях имён существительных, обозначающих предметы вещного мира, можно расценивать как актуализацию опыта жизненно-бытовых ситуаций;
- наличие символических понятий, таких, как «солнце», «цветок» «весна», «туча» и т.п., указывают на возможное подключение бессознательных архетипических образов;
-наличие обобщённых понятий – показатель абстрактности мышления;
- глаголы отражают восприятие динамики музыкального текста, осознание его внутреннего развития;
- метафоричность высказываний, наличие прилагательных – свидетельство образности мышления;
- личные местоимения первого лица («я», «мой») отражают возможность привнесения элементов личностного смысла в описываемое явление. Личные местоимения второго лица («ты», «твой») служат косвенным показателем пребывания в рефлексивной позиции.
При анализе литературного творчества учащихся некоторые перечисленные выше показатели не могут быть учтены. Это прежде всего экстра- и паралингвизм, тембральные характеристики голоса, сочетание с мимикой и жестами. Остальные позиции вполне применимы. Дополнительно возникают и собственно литературные характеристики: глубина и ёмкость образов, композиционная стройность высказывания, ритм, колорит и т.д.
В Живописных работах имеет значение предметность, символичность, абстрактность образов. Выбор той или иной цветовой гаммы можно интерпретировать по законам символики теста психологических состояний Люшера. Данная символика доказана экспериментально и предполагает использование следующих цветов для выражения соответствующих эмоционально-психических потребностей:
- синий (цвет неба, воды) – потребность в удовлетворении и привязанности;
- зелёный (цвет листвы, травы) – потребность в самоутверждении;
- красный (огонь, коррида) – потребность действовать и добиваться успеха;
- жёлтый (солнце, тепло) – потребность смотреть вперёд и надеяться;
- чёрный (траур) – отрицание ярких красок жизни, самого бытия.
Музыкальное движение. Чуть выше были рассмотрены психологические показатели поведения, связанные с двигательной сферой, такие, как поза, мимика, жесты, в их естественном виде. Музыкальное движение есть не что иное, как искусственные жесты, поза, мимика. Естественные проявления и искусственная организация выступают в них во взаимодействии. Это, конечно, усложняет задачу интерпретации, но, с другой стороны, даёт богатый материал для анализа психических процессов, происходящих при взаимодействии личности и искусства.
«Двигательная картина» ребёнка, участвующего в такой деятельности, может быть весьма противоречивой. Например, руки двигаются в такт, а поза, взгляд, выражение лица абсолютно не соответствуют звучащей музыке, и наоборот. Поэтому во всех формах музыкальной деятельности, связанных с движением, - в дирижировании, пластическом интонировании, двигательном моделировании, частично игре на музыкальных инструментах – двигательный состав можно условно разделить по признакам формальной и художественной адекватности. Индивидуальные особенности рефлексивного восприятия собственных движений и ориентировки во время этой деятельности можно разделить на четыре группы:
1) ориентировка «на товарищей» - ребёнок пытается либо скопировать то,
что делают другие, либо использует музыкальную деятельность для более важного для него в этот момент общения с друзьями;
2) ориентировка «на учителя» - ребёнок смотрит на учителя, пытаясь точно
скопировать его движения, либо неосознанно «считывать» пантомимическую и мимическую информацию, которая идёт от учителя (одобрение–неодобрение, подсказки, намёки и т.п.);
3) ориентировка «на себя» - ребёнок смотрит на собственные руки, следит,
насколько их движения соответствуют желаемому облику;
4) ориентировка «внутри себя» - ребёнок смотрит «в никуда», взгляд либо рассеян, либо остановлен в одной точке, что говорит о сосредоточенности на собственном внутреннем состоянии.
|
Ориентировка |
Неадекватно (Н) |
Формально адекватно (ФА) |
Образно адекватно (ОА) |
|
«на товарищей» (Т) |
|
|
|
|
«на учителя» (У) |
|
|
|
|
«на себя» (С) |
|
|
|
|
«внутри себя» (В) |
|
|
|
Соответствие музыкальных движений ребёнка той или иной клетке таблицы позволяет судить не только о степени сформированности уровня М-МД музыкального мышления. Формальная адекватность возможна только на основе связи уровней М-МД и М-МК, так как предполагает соответствие движений конкретным музыкально-языковым характеристикам (темпо-ритмическим, динамическим, звуковысотным параметрам). Образная адекватность движений во многом зависит от уровня ПО-П. Следуя логике нашей модели, можно предположить, что у детей, движения которых и образно, и формально адекватны музыке, уровни ПО-П, М-МД и М-МК действуют взаимосвязано. Это, в свою очередь, свидетельствует о достаточно полной структурной сформированности музыкального мышления в целом.
Конкретный тип ориентировки позволяет выявить степень развития рефлексии. Ориентировка «внутри себя» - это рефлексия собственных психических состояний, мыслительных процессов, образов. Ориентировка «на себя» - это рефлексия собственного способа действия. О слабой рефлексии и преимущественному способу действий по образцу свидетельствует ориентация «на учителя» и «на товарищей». Разделение на данные типы наглядно демонстрирует и наиболее значимые каналы, через которые может развиваться музыкальное мышление детей.
Все рассмотренные выше приёмы и методы диагностики содержания и уровня развития музыкального мышления школьников основаны на «переживании» содержания, смысла, понятого в музыке, на другие языки – вербальный язык, живописный язык, язык пластики, мимики и жеста. Так, недостаточная развитость вербального языка затрудняет диагностику, а неосознанность и неконтролируемость языка мимики и жестов, наоборот, способствует лёгкости определения основных психических состояний.
Особое место занимают методы диагностики музыкального мышления в тех видах деятельности, где не существует такого перевыражения, а используется только музыкальный язык. Это различные виды пения – исполнение песен по нотам и на слух, вокальные импровизации, а также игра на детских музыкальных инструментах. Наиболее существенным показателем здесь является конкретный звуковой результат. При этом необходимо учитывать следующие моменты:
1) при выучивании песни «по слуху» возможно копирование мелодии без
глубокого понимания её смысла;
2) в пении по нотам дополнительные сложности возникают с использованием нотной грамоты, что затрудняет связь реального звучания с художественным смыслом;
3) в вокальных и инструментальных импровизациях дети могут не ставить
перед собой задачу выражения художественного смысла и заниматься формальным звукотворчеством.
Система интерпретации звуковых результатов музыкальной деятельности должна учитывать эти сложности.
Повторение по слуховому образцу, так же как и музыкальное движение, может быть неадекватным, формально адекватным (точная метроритмика и звуковысотность) и образно адекватным (исполнение музыки в соответствующем характере и настроении). Формальные ошибки по традиции приписываются недостаточности музыкально-слухового опыта, трудностям координации при неразвитом голосовом аппарате, слабой музыкальной памяти. Однако все перечисленные компоненты являются составляющими музыкально-мыслительного процесса. Поэтому конкретный тип неточностей при воспроизведении музыкальной фразы может дать существенную информацию об индивидуальных характеристиках музыкального мышления.
Пение и игра по нотам обладают важной особенностью по сравнению с исполнением «на слух». Привнесение настроения, характера здесь возможно только по самостоятельной инициативе, а не в результате подражания только что услышанному образцу. Самостоятельно найденные приёмы, содержательный замысел, попытка выразить некую идею, смысл являются показателем достаточно высокого уровня развития музыкального мышления.
Вокальная и инструментальная импровизации демонстрируют развёрнутость музыкального мыслительного процесса, индивидуальные особенности протекания различных операций; анализа, группировки, обобщения и т.д., степень участия прошлого музыкального опыта, объём и тип подключаемой памяти и пр. Специальные условия импровизационных заданий, такие, как определённая тональность или объём, позволяют задать нормы языка, структуры, иногда характера музыки. Выполнение или невыполнение поставленных условий можно трактовать как адекватность или неадекватность восприятия и мышления, что позволяет судить о способе, скорости и точности ориентировки в заданных музыкальных нормах.
Таковы основные критерии, направления, способы педагогического изучения музыкального мышления детей.
Из предыдущего повествования ясно, что путь к развитию полноценного музыкального мышления лежит через активизацию всех его уровней, установление рефлексивных связей между ними и всё более глубокое осознание самим учащимся происходящих процессов.
Расширение музыкального фона всей жизни ребёнка и незаметное для него структурирование музыкального опыта на подсознательном уровне создаёт необходимый фундамент для последующей работы. Качественно новый музыкальный фон может и должен появиться не только на уроке, но и у всего времени, которое дети проводят не только в школе, а также у домашнего, личного времени ребёнка. Однако реальное развитие музыкального мышления происходит в первую очередь на уроке. Поэтому ключевой проблемой является грамотное драматургическое построение урока.
Настоящий урок музыки – это целостность, которая рождается на пересечении педагогической науки и искусства с одной стороны, и музыкальной науки и искусства – с другой стороны.
Многообразие видов деятельности на уроке соответствует многообразию форм бытования музыкального искусства, способствует переключению внимания и благодаря этому – поддержанию высокой работоспособности в течение урока. Переключение обычно понимается как переход от пения к слушанию, от изучения нотной грамоты к движению, т.е. как смены внешних форм музыкальной деятельности. Однако внимание, утомляемость, работоспособность – это внутренние, психические феномены. Следовательно, ключ к содержательному многообразию видов деятельности лежит в обращении к разным уровням и этапам музыкально-мыслительного процесса.
Например, при исполнении песни педагог может поставить перед детьми различные, по сути, задачи:
- почувствовать внутреннюю пульсацию музыки, попытаться к ней подстроиться и брать дыхание в соответствии с ней;
- попытаться выразить образ, общее настроение песни в своём исполнении;
- сознательно следить за певческим звукообразованием: артикуляцией, атакой и т.д.;
- выделить смыслонесущие элементы музыкального языка, подчеркнуть в исполнении структурированность музыкального текста, «готовить звуком» кульминации. Цезуры, границы разделов и т.д.;
- осветить всё исполнение смыслом, исполнить произведение с вдохновением.
Драматургия урока в традиционном понимании направлена в первую очередь на раскрытие основной темы, определённого нового для учеников понятия, произведения, стиля и т.п. Я хотела бы поставить совершенно другой акцент: основная цель драматургии – в стимулировании появления психических новообразований личности на основе музыкального материала урока.
Если рассматривать драматургию урока как искусство последовательного соединения фрагментов урока в единое целое, в урок-действо, то у каждого фрагмента появляются три координаты:
- «местонахождение» (в начале, середине, конце урока);
- временная протяжённость (в минутах или секундах);
- «эмоционально-смысловой накал» (например, репетиционная, вдохновенная атмосфера в классе).
Хорошо продуманное построение занятия позволяет избежать утомления. Взаимосвязь работоспособности школьников с драматургическим построением урока была освещена в диссертационном исследовании Г.К. Лебедевой. Приведу примеры схем работоспособности, которые наиболее часто встречаются на уроке:
![]()
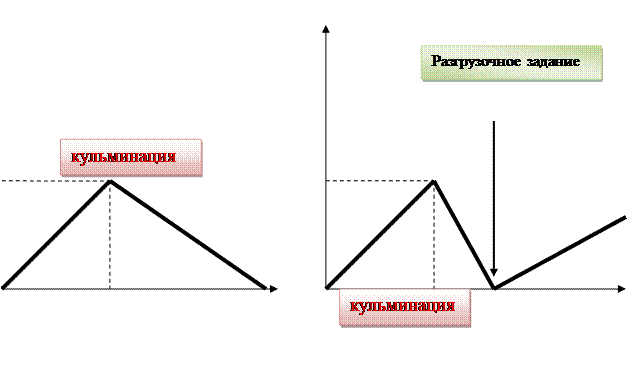
Отталкиваясь от этих схем о построении драматургии урока в форме музыкальных произведений (урок в форме сонатного аллегро, урок в трёхчастной форме и т.д.), можно расширить применение данного метода по двум направлениям:
1. Как в любом крупном произведении внутри каждого раздела есть своё развитие, своя кульминация, так и в уроке можно выстраивать не только сочетание различных фрагментов друг с другом, но и внутреннее развитие каждого фрагмента. В рамках одного фрагмента наиболее оптимальным является движение к точке золотого сечения с последующим более спокойным завершением работы.
2. Руководствоваться в схеме драматургического строения урока той или иной музыкальной формой целесообразно тогда, когда наиболее важным моментом урока является обращение к музыкальному произведению, написанного именно в этой форме. Необходимо, чтобы это соответствие ученики обязательно осознали, прочувствовали внутреннюю связь музыкальной формы и формы строения урока.
Одного указания на то, что сегодняшний урок проходит, например, в форме рондо, недостаточно. Необходимо обратить внимание ребят на то значение, которое приобретает повторяющийся фрагмент в их собственном сознании, в сознании людей, участвующих в ситуации повторения чего-либо; на то значение, которое приобретают в сравнении с повторяющимся разделом остальные моменты урока, т.е. установить осознанную связь между явлениями искусства и явлениями жизни, моделируя по законам искусства «кусочек» непосредственной жизни детей. Музыкальная форма – один из важнейших элементов музыкального языка – с помощью такого приёма приобретает содержательную трактовку, личностное значение для каждого ребёнка, участвующего в этой ситуации.
Во время урока возможно моделирование и других элементов музыкального языка. В частности, во многих произведениях используется эффект постепенного нарастания и затем мгновенного его сброса за счёт темповых, динамических, фактурных средств. Подобный же эффект легко создать в ходе обсуждения, взаимного общения на уроке. Тоном высказывания, темпом речи, конкретным содержанием реплик педагог может постепенно добиться возникновения в классе напряжённой психологической атмосферы. Затем внезапно надо «снять» накалённость обстановки. Если это удастся и в классе проявится сначала напряжённость, а затем успокоение и расслабление, то следующим шагом необходимо вывести ребят за рамки разыгранного спектакля и обратить их внимание на то, что они сейчас чувствовали. Затем опыт их собственного переживания необходимо перенести на музыкальное произведение, основанное на том же эффекте.
Если в изучаемом произведении большую роль играет мотивная пара «вопрос - ответ», то можно общаться с учениками в течение нескольких минут в таком стиле и с тем же временным ритмом. Общая схема для подобных занятий будет следующей: погружение детей в процессе общения в определённое настроение, создание определённой эмоциональной цепочки на неосознаваемом им уровне; затем – рефлексия произошедших «эмоциональных» событий и, наконец, восприятие аналогичной цепочки в музыкальном произведении. Этапы этой схемы необязательно строить именно в такой последовательности. Однако направление от бессознательного к осознанию даёт наибольший эффект для развития музыкального мышления.
Содержание отдельных фрагментов урока заключается в работе над конкретными музыкальными произведениями. Не все они требуют глубокого изучения. Пьесы и песни методически-прикладного характера выполняют служебную функцию и являются материалом для построения урока. Однако существуют и шедевры музыкального искусства, которые нельзя рассматривать только как рабочий материал. Их высокая духовность – не средство, а цель. Поэтому изучение таких произведений выходит за рамки отдельного урока и должно быть рассмотрено специально.
Изучение произведения в течение нескольких уроков оказывается более эффективным, чем в течение одного урока. Урок – это время активного формирования новых психических аспектов, определяющих музыкальную деятельность ученика. Период между уроками уравновешивает вновь возникшие качества со сложившимися ранее. Такое изучение произведения позволяет постепенно, удобными для психики «дозами» ассимилировать новые смысловые элементы в общую структуру личности.
Если главная цель драматургии урока – наиболее полно включить ребёнка в музыкальную деятельность, то главная цель изучения произведения – добиться включения художественного смысла произведения в смысловые структуры личности. Оптимальным началом такого погружения можно считать уровень ПО-П как наиболее связанный с личным психологическим опытом. Дальнейшее распределение задач по уровням может быть различным, но окончательной целью является выход на уровень М-ХС – глубокое лично значимое переживание смысла всего произведения. Таким образом, выстраивается полный круг развития личности до нового состояния, обогащённого художественным смыслом музыкального произведения.
Для первого обращения к произведению наиболее подходящим необходимо признать нерасчленённое восприятие с задачей синкретичного погружения в образ. Синкретичность первого восприятия может выражаться в том, что дети не только слышат образ в звуке, но и дополняют его зрительными, живописными образами, находят адекватное вербальное выражение музыкального образа. Главная сложность заключается при этом в такой формулировке задания, которая не позволяла бы сворачивать синкретичность восприятия в пользу какой-нибудь одной, конкретной образности, удерживалась бы в «размытой» предметности. Например, абстрактная живопись помогает решить эту задачу, а живопись сюжетно-предметная по мере создания рисунка обычно начинает диктовать свои законы, и музыкальный образ отступает на второй план.
Не менее яркими могут быть упражнения на пластическое выражение образа: «Представьте, что ваши руки – это цветы, а музыка – это солнце, к которому они тянутся. Цветы всегда очень чутко реагируют на прикосновение каждого солнечного луча. Попробуйте не пропустить ни одного такого прикосновения».
Живописно-двигательные образы необходимо постепенно переводить во внутренний план действий, рисуя или двигаясь только мысленно. Перемещаясь во внутренний план, образы обретают большую целостность, очищаются от случайных внешних элементов.
Если целостное восприятие произведения состоялось, то следующим этапом работы над произведением может быть задача, направленная на тот или иной уровень музыкального мышления (кроме М-ХС).
Активизации уровня телесности могут способствовать различные по протяжённости и сложности задания:
- услышать резонанс отдельного звука в различных частях собственного тела;
- дышать вместе с «дыханием» музыки;
-настроить свой сердечный пульс на частоту музыкальной пульсации;
- двигаться «внутренним пением» за звучащей мелодией и т.д.
Для активизации уровня М-МК прекрасно подходят всевозможные знаковые системы вторичного порядка – нотная грамота, схемы строения произведений, ручная сольмизация, терминология. Однако здесь скрывается и опасность. Дело в том, что произведения, написанные в разные эпохи, в разных стилях и странах, народные и композиторские, базируются на разных системах музыкального языка. В практике же музыкального воспитания обращение и к классике, и к фольклору, и к джазу идёт с позиций усреднённого музыкально-языкового суррогата.
В частности, в музыкально-педагогической литературе часто встречаются рекомендации по использованию народных попевок, закличек, простых песенных мелодий в качестве элементарного материала для освоения нотной грамоты, для отработки точного пения интервально-мелодических интонаций и т.п. Но точность, дискретность, графическая фиксация элементов несвойственны народной музыке, это признаки профессионального музыкального языка. Поэтому необходимо «пропускать» произведение не через абстрактные музыкально-языковые стереотипы, а через адекватную ему языковую систему.
Для джаза адекватной ситуацией может быть, например, подстукивание ритма, импровизация; для фольклора – «проигрывание» целого обряда с характерными словами, жестами, движениями, костюмами и прочей атрибутикой. И лишь для профессиональной европейской классической музыки – работа с нотной записью. Таким образом, вместе с музыкальными произведениями различных стилей параллельно должны осваиваться и различные системы музыкального языка.
Ноты незаменимы, когда нужна точность интонации, ритмическое соответствие различных партий, когда объём музыкального материала превышает возможности слуховой памяти. Однако всегда надо стараться удержать приоритет реального музыкального звука над служебным характером нотной записи. В нотной записи должен предстать самый важный в смысловом отношении интонационный оборот, «свёртывающий на себя» семантическое поле всей фразы или даже целого произведения, и, уже отталкиваясь от этого оборота, можно выходить на более широкие связи, показывая, как к нему стремятся одни и как из него рождаются другие интонационные обороты.
Можно исполнить по нотам только этот оборот и интонационную близость других фрагментов воспринять чисто зрительно, не исполняя по нотам, а наблюдая за графикой нотного текста. Схожесть ритмических рисунков, одинаковое направление движения мелодии хорошо видны на глаз. «Увиденные» связи при исполнении будут скорее памятками, чем точным руководством к исполнительскому действию. Вместо механизмов слепого воспроизведения включаются механизмы структурного видения связей. Это есть не что иное, как развитие системного мышления на основе изучаемого произведения.
Для активизации уровня М-ХС, прежде чем ставить задачу перед детьми, учитель должен сам, в собственном восприятии произведения, найти это состояние вдохновенного слияния с художественным смыслом музыки. Духовный мир педагога становится лабораторией, где он нащупывает путь, по которому потом поведёт учеников. А конкретным «пусковым механизмом» может стать и полная необыкновенного подтекста история его создания, и гениальная главная интонация, тонкий колорит или насыщенная драматургия образа – в каждом произведении будет свой «ключ», и в каждой ситуации он будет разным.
Подсознательное накопление музыкального и психологического опыта, драматургически грамотное построение урока, активизация всех уровней музыкального мышления в работе над конкретными произведениями позволяют достичь существенного развития музыкального мышления учеников. Это благотворно отражается и на общем развитии детей, и на результатах их музыкальной деятельности. Такие ребята одухотворённо исполняют музыку, глубоко и проникновенно слушают её, создают интересные творческие опусы. Это позволяет добиваться высоких стабильных результатов качества знаний при 100% успеваемости.
Никакой интеллектуальный прогресс человечества, даже если взять гигантский отрезок в его движении – от «работизации» до «роботизации», так и не остудил эмоциональной температуры музыки. Имея не одну, а множество духовно-жизненных основ, периодически меняя свой конкретный вид и формы выявления, музыка была и остаётся вернейшей и необходимейшей спутницей человека и человечества на протяжении всей истории их существования. Не умея должным образом зафиксировать себя в нотном тексте, чтобы остаться для будущих поколений в виде зримого памятника, она от человека к человеку передаёт из века в век свою духовную сущность, приподнимая человека над неотступными тяготами его бытия. К каким бы векам, эпохам, народам, расам мы ни обратились – живительное искусство музыки стоит или на первом месте, или в ряду самых дорогих человеку искусств.
Вот несколько свидетельств, извлечённых из тысячи подобных.
«Ведь вот русские люди поют песню с самого рождения. От колыбели, от пелёнок. Поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества, - писал Ф. Шаляпин. – Народ, который страдал в тёмных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния весёлые песни (…) А как хорошо пели! Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьёв, в лесах и за лучиной. Одержим был песней русский народ, и великая в нём бродила песенная хмель…» (Шаляпин Ф.И. «Маска и душа»).
«Музыка – это предельное проявление духа, утончённейшая стихия, из которой, как из невидимого ручья, черпают себе пищу потаённейшие грёзы души; она играет вокруг человека, хочет всего и ничего, она – орган более тонкий, чем речь, быть может, и чем мысли, дух уже не может пользоваться ею как средством, как органом, она – сама предмет, оттого она живёт и парит в своей собственной чудесной сфере», так немецкий писатель конца XVIII века В.Г. Вакенродер пророчески определил роль музыки в романтическом искусстве следующего столетия.
Ты – музыка, но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.
Зачем же любишь то, что так печально,
Встречаешь муку радостью такой?
Где тайная причина этой муки?
Не потому ли грустью ты объят,
Что стройно согласованные звуки
Упрёком одиночеству звучат?
Прислушайся, как дружественно струны
Вступают в строй и голос подают, -
Как будто мать, отец и отрок юный
В счастливом единении поют.
Нам говорит согласье струн в концерте,
Что одинокий путь подобен смерти.
Сонет №8 В. Шекспира
Каждое из приведённых высказываний о музыке программно для этого вида искусства. И даже столь немногочисленная «подборка», поскольку относится к весьма удалённым друг от друга культурам, обрисовывает колоссальный диапазон связей музыки с человеком, всеми вехами его жизни, ступенями мышления, ступенями эмоциональных ощущений: от рождения до смерти, от общественного протеста до потаённых переживаний, от реалии до грёзы, от страдания до ликования и т.д.
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.