
Неизвестный Сеславин - узник Смоленской крепости.
В журнале "Наше Наследие" в № 119 от 2016 г. опубликованы выдержки из дневниковых записей Ф.П. Леонтьевой (1794-1871) - «Неудавшееся похищение. Тайна старшего брата. Из записок «литераторки». В предисловии к этой публикации сотрудники журнала приводят довольно интересные сведения о самой Ф.П. Леонтьевой и её записках. Из предисловия нам становится известно, как обнаружили эти мемуарные записи и что в них описывается.

Федосья Петровна Леонтьева. [1859].
В рукописном отделе Государственного литературного музея в Москве среди бумаг писателя Константина Николаевича Леонтьева (фонд 196) хранятся четыре самодельные старинные тетради, аккуратно разлинованные карандашом и заполненные четким изящным почерком его матери, воспитанницы петербургского Екатерининского института Федосьи Леонтьевой, урожденной Карабановой (1794-1871). В этих скромных тетрадях и записаны ее воспоминания. Они написаны большей частью по-русски, но диалоги переданы по-французски и по-немецки. Записки делятся на пять больших частей, каждая из которых имеет свое название: «Воспоминание о милостях Ея Величества покойной Императрицы Марии Федоровны ко мне», «Процесс», «Записки. 1812 год», «Записки. 1813 год», «Марфочка». В воспоминаниях об императрице Марии Федоровне говорится об учебе сестер Карабановых - Федосьи, Марфы и Анны в Екатерининском институте и о последующих встречах мемуаристки с императрицей.
Остальные четыре раздела не публиковались. Первый из них - под названием «Процесс» - представляет собой биографическую повесть, в которой рассказывается о жизни семьи Карабановых с 1806 по 1811 год, когда отец Федосьи Петровны - Петр Матвеевич Карабанов судился с вяземским предводителем из-за неправильно наложенной на него «дистанции» - обязанности чинить почтовую дорогу, идущую из Калуги в Вязьму. В главах записок «1812 год» и «1813 год» говорится о жизни семейств Карабановых-Леонтьевых в этот период и о причастности их к событиям Отечественной войны. Несколько особняком стоит пятый фрагмент воспоминаний - «Марфочка», носящий самостоятельный характер. Это рассказ о трагической судьбе средней из сестер Карабановых - Марфы Петровны.
О самой Федосье Петровне Леонтьевой в интернете приводится не так уж и много сведений, мне удалось отыскать всего лишь одну книгу, где рассказывается о её интересной жизни. Если кому то будет интересно, то это книга - Ю.П. Иваск, Константин Леонтьев (1831-1891) Жизнь и творчество. В ней рассказывается о писателе Константине Леонтьеве, сыне Федосьи Петровны, о самой мемуаристке приводятся интересные сведения в нескольких главах, таких как «Мать», «Друзья матери», «Мать и сын» и других.
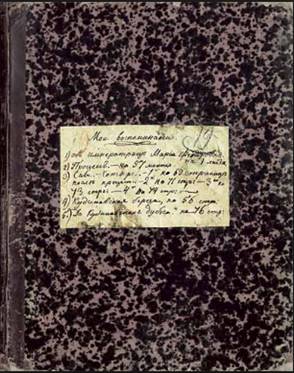
Ф.П. Леонтьева. Обложка рукописи мемуаров «Мои воспоминания». Конец 1860-х годов. ГЛМ.
Записки Ф.П. Леонтьевой насыщены различными достоверными свидетельствами и описаниями исторических событий начала ХIХ века. В журнальной публикации "Нашего Наследия" дается лишь некоторое представление об этом памятнике культуры на примере двух отрывков из главы «Процесс». «Во всяком семействе найдешь много сюжетов для повести, а иногда и для целого романа» - так однажды ответила Федосья Петровна Леонтьева своему сыну, начинающему писателю Константину Николаевичу Леонтьеву, когда он тщетно пытался придумать занимательную историю для своего произведения. У самой Федосьи Петровны с сюжетами проблем не было.
Федосья Петровна упоминает об этом примечательном разговоре в своих записках-воспоминаниях, которые она начала писать в 1850-х годах, будучи уже пожилой дамой, матерью семи взрослых детей. К сожалению, большая часть написанного погибла в 1867 году вместе с украденным чемоданом (да, и тогда такое случалось) во время ее переезда из имения Кудиново в Петербург.
Воспоминания Ф.П. Леонтьевой чрезвычайно занимательны. Они затрагивают широкий круг тем - от семейной хроники Карабановых до встреч с видными историческими лицами, такими как граф Никита Петрович Панин, поэты Дм. И. Хвостов, И.И. Дмитриев, П.М. Карабанов, императрица Мария Федоровна и ее придворные дамы, императоры Павел Петрович и Николай Павлович и другие. Но прежде всего в «Записках» раскрывается образ самой мемуаристки - женщины умной и хорошо образованной, знавшей и любившей литературу, даже писавшей стихи. Это была особа деятельная и решительная, сумевшая восстановить разоренное мужем имение, пристроить детей в престижные учебные заведения на казенный счет.
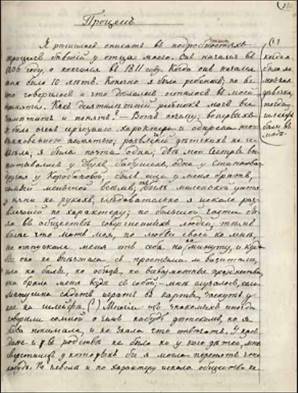
Ф.П. Леонтьева. Начало главы «Процесс» в рукописи мемуаров. Конец 1860-х годов. ГЛМ.
Наиболее интересны в записках Ф.П. Леонтьевой, однако, не сцены со знаменитыми людьми, а как раз те бытовые подробности, которые передают дух эпохи - первой половины XIX века.
Нас, ржевитян, особенно могут заинтересовать записки о странном происшествии, связанном с одним из помещиков Ржевского уезда Сеславиным. К сожалению, в воспоминаниях мемуаристка не указывает имя этого молодого человека, и сейчас можно только предположить, кто же это мог быть из пяти братьев Сеславиных. А дело случилось следующее.
Федосье Петровне в 1807 - ом году было 13 - ть лет и она со своей матушкой Александрой Епафродитовной в то время часто гостила у родственников в городе Смоленске. Они часто прогуливались по городу и в одну из таких прогулок встретились с красивым, хорошо одетым молодым человеком, находящимся под охраной солдата с обнажённым тесаком. На вопрос Александры Епафродитовны кто такой этот преступник они получили ответ: «Это Сеславин, который содержится в крепости». В связи с этим Федосья Петровна вспомнила и рассказала об одном происшествии, случившимся в Вязьме в самое Крещение в 1805 году. Суть происходившего была такова. Богатая Вяземская купчиха, вдова Авдотья Алексеевна Гайдукова нанимает для домашнего обучения своей тринадцатилетней дочери Екатерины гувернантку - француженку. Через некоторое время после этого её дочку Катерину Семёновну пытается увезти какой - то господин, но его ловят, а дочку возвращают домой к матери - вдове. Задержанного похитителя везут к Городничему и сажают в Вяземский острог. При допросе молодого похитителя выясняется, что он помещик Тверской губернии Ржевского уезда. На вопрос Городничего почему он увёз младшую Гайдукову, он честно ответил, что хотел выгодно жениться на богатой девице, но её мать была против, и поэтому он сговорился с гувернанткой, чтобы та помогла ему в решении этого вопроса. Пострадавшей Гайдуковой - старшей через Статс - Секретаря было подано прошение Царю в Петербург. После чего Вяземский Городничий получил от Смоленского Губернатора приказ: препроводить господина Сеславина в Смоленск, где он будет содержаться в крепости до тех пор, пока девица Гайдукова не выйдет замуж. Младшая Гайдукова Катерина вышла замуж только в двадцать лет, и Сеславин был тотчас выпущен на свободу, просидев в крепости около 7 - и лет.
В записках Ф.П. Леонтьевой в главе «Процесс» есть её воспоминание - «Неудавшееся похищение» об этом заинтересовавшем меня случае, где она подробно описывает это происшествие:
«…Зима кончилась, настала весна, но пути еще не было, экипажи из деревни еще не приезжали; мы часто гуляли по городу <Смоленску>, особенно я любила ходить по крепостной стене, она была такая широкая, что кабриолет в одну лошадь мог бы беспрепятственно по ней проехать. (Эта прогулка состоялась в 1807 г.) Наконец и за городом кое-где просохло, можно было делать небольшие прогулки, мы большею частию ходили в Днепровские ворота, через Днепр по мосту и по высохшей тропинке в поле. Однажды мы по обыкновению собрались гулять часов в пять, <когда> к матушке приехала знакомая дама и с удовольствием пристала к нам для прогулки. Уже мы несколько прошли по тропинке, матушка и дама шли впереди, мы, дети, сзади, за нами лакей поодаль. Вдруг мимо нас скорыми шагами прошел молодой человек, хорошо одетый и красивый собой, он отвернулся от нас, когда шел мимо; это бы ничего, но вслед за ним шел солдат в мундире и с обнаженным тесаком. Это очень удивило старших, и матушка, позвав брата, приказала ему догнать солдата и спросить у него тихонько, кто такой этот господин. Брат побежал, спросил, прибежал назад и сказал: «Это Сеславин, который содержится в крепости!». «А! так вот он!» - возразила матушка.
Я вспомнила, что года полтора тому назад у нас в Вязьме случилось происшествие, наделавшее тогда много шума, но подробностей не знала. Знакомая, гулявшая с нами, увидевши, что матушка знает Сеславина, просила ее рассказать об нем, что ей известно; и вот, что я услышала. Это матушка рассказывала:
«Тому около двух лет, в самое Крещение я послала приказчика в Вязьму за некоторыми закупками и велела заехать к моей знакомой Гайдуковой, мы с ней были большие приятельницы; она - богатая Вяземская купчиха, вдова, у нее - одна дочь, стало быть богатая невеста. Гайдукова воспитывала свою дочь на дворянский лад, наняла Гувернантку-француженку, не понимая сама ни французского языка, ни каких <других> наук; дочери было не более 13 лет. Приказчик возвратился позднее, нежели должно быть, и я стала спрашивать о причине. Он отвечал мне: “Меня задержали у Авдотьи Алексеевны!”
- Зачем задержали?
- Да она больна!
- Что с ней?
- С ней случилось было большое несчастие, у нее увез было кто-то Катерину Семеновну.
- Ах! что ты это говоришь? Как же это было?
- Не могу вам, сударыня, рассказать в точности, но слышал, что увез было какой-то господин, но его поймали, и Катерину Семеновну привезли домой; Авдотья Алексеевна лежит в постели и Катерину Семеновну не отпускает от себя прочь!
Я велела тотчас запрячь кибитку и, взявши с собой свою старшую дочь (они были приятельницы с Катинькой), поехала к Гайдуковой; зимой через болото Вязьма от нас была не более 5-ти верст. Я нашла Гайдукову точно в постели, лежала, закрывши глаза, и держала за руку дочь, сидевшую возле нее на стуле. Хотя я очень тихо вошла в спальню, но однако она услышала и, увидев меня, тотчас зарыдала. Я стала ее уговаривать, но она, обратясь к племяннице своей, девушке пожилых лет, которая у нее жила, сказала ей: “Пелагея Петровна, проводи Александру Епафродитовну в гостиную и расскажи ей, как всё было, а я между тем успокоюсь!” Я пошла с Пелагеей Петровной, и вот, что она мне рассказала: “Мы вышли из церкви после обедни и, прошед церковные ворота, шли все трое этой длинной монастырской оградой, где экипажи дожидались, мы шли таким порядком: впереди - Авдотья Алексеевна, за ней - Катя, а за Катей - я; мы добирались до наших саней. Вдруг подъезжает сзади нас тройка с седоком, этот господин одним мигом выскочил из саней, схватил Катю поперек, бросил ее в сани и ускакал; я только что могла закричать ужасно. Авдотья Алексеевна обернулась, Катиньки нет! она упала без чувств. Тут к ней бросились все, знакомые и незнакомые, подняли, положили в чьи-то сани, я села с ней, и нас повезли домой. Наши же сани, стоявшие впереди и к которым мы пробирались около прочих, <откуда> кучер и лакей, дожидавшиеся нас, увидели проделку этого господина и тотчас пустились за ним в погоню. Наши сани поравнялись с этим господином, лакей соскочил и бросился к Сеславину в сани, а этот, вынув из кармана горсть нюхательного табаку, бросил ему прямо в глаза; тот от боли и от ослепления не мог удержаться и упал на улицу. Наш кучер, хотя и видел все это, но оставил лакея и все скакал за Сеславиным, крича всем встречавшимся, чтобы остановили тройку; никто не мог помочь, все смотрели на тройку, скакавшую без памяти, на господина, державшего на коленях у себя женщину, зажавши ей рот, никто ничего не понимал, но к счастию нищие помогли. Вы знаете, Александра Епафродитовна, что тетушка очень милостива, во всякий праздник нищие собираются к ней на двор, и их оделяют хлебом и деньгами; так и нынче случилось, они разными кучками шли за подаянием, конечно, они узнали кучера, кричавшего о помощи, и большою толпою бросились на лошадей и под ноги им и тотчас остановили. Наш кучер соскочил и тащит Катиньку, та почти бездыханная, всё время зажавши рот была. С Сеславиным была бы нехорошая проделка, если бы дворяне, бывшие у обедни и видевшие всю эту сцену, не поскакали вслед за Сеславиным. Они прискакали несколько человек, высвободили Катиньку, посадили ее в наши сани, с ней сел один из них, и повезли ее домой. Прочие велели нищим разойтиться, взяли Сеславина и повезли его к Городничему, который посадил его в острог до решения вышнего начальства. Мы, привезя ее <Авдотью Алексеевну> домой, насилу могли привести в чувство. Когда опомнилась, еще хуже, потому что была как помешанная, беспрестанно озиралась, кликала Катиньку, никого не слушала и ничего не понимала, пока <не> привезли Катиньку; когда она уверилась вполне, что она ее видит, то зарыдала и много плакала. Слезы ее облегчили, и она совершенно опомнилась, только очень ослабела и всё лежит, закрывши глаза, держит Катиньку за руку”.
Выслушав этот рассказ, я пошла к Авдотье Алексеевне, она сидела в постели и улыбнулась мне, поблагодарив меня за то, что я поспешила ее навестить в горе. Я села на кресло подле кровати и смотрела на Катиньку, и заметила у нее на лице красные пятна от <шеи> ко рту, я спросила у нее, что это значит. Она отвечала, что этот господин зажал ей рот, чтобы она не кричала, и очень крепко держал, ей больно было, и сказала, что у нее и на груди пятна, почти синие. “А это от чего?” - спросила я. “А это от образа, он посадил меня к себе на колени, закрыл меня своей шубой, положил мне на грудь образ в окладе и, обвив меня рукой правой, прижал очень крепко образ к груди, мне от этого было очень больно”. Авдотья Алексеевна опять заплакала, я поскорее заговорила о другом, призвала свою дочь и сказала обеим девочкам: “Займитесь вашими маленькими делишками вот здесь на кровати, места довольно, кровать широкая”. Они занялись, а мы с племянницей говорили о посторонних предметах. После чая я собралась ехать, Авдотья Алексеевна уговорила меня остаться ночевать. На другой день она встала и чувствовала себя довольно хорошо после такой передряги, отобедав, я уехала домой. Мужа моего не было дома, тот же день он возвратился из Москвы и, узнав о происшествии, поехал на другой день к Гайдуковой, она просила совета, как поступить. Он присоветовал ей подать прошение Царю и написал ей черновое прошение. Она немедля и послала прошение к Статс-Секретарю в Петербург. Между тем, когда привели молодого похитителя к Городничему, никто его не знал, на вопрос, кто он таков, он отвечал, что он помещик Тверской губернии Ржевского уезда! Почему он увез Гайдукову?
- Я слышал, что она богатая девушка, хотел выгодно жениться, приехал сюда тайно, хлопотал о своем намерении, познакомился с Гувернанткой Г-жи Гайдуковой, начал через нее переписку с молодой девицей и, увидев из ее писем, что мать не согласна отдать ее за меня, решился с ее согласия увезти ее, да вот не удалось!
- Где письма девицы Гайдуковой?
Он достал из-за пазухи два или три письма и подал Городничему, сказав: “Вот они!” Письма были короткие, писанные по-французски, и подписаны Catherine Haidoukoff. Присутствовавшие тут дворяне читали их и говорили между собою, что согласие в письмах есть. Городничий просил дворян тут находившихся остаться в городе до завтра, чтоб быть свидетелями при допросе девицы. Городничий посадил Сеславина под арест. На другой день просил у Г- жи Гайдуковой позволения привести с собой свидетелей, та очень перепугалась, но нечего было делать, надобно было согласиться. В назначенный час приехали к Гайдуковой, объяснили в чем дело и призвали Катиньку. Начался допрос, ей показали письма и спрашивали:
- Вы писали эти письма?
- Я-с!
- И имя свое вы же подписали?
- Да-с!
- К кому вы писали эти письма?
- Ни к кому-с!
- Как ни к кому! Да ведь вы знаете, что в них писано?
- Нет-с, не знаю, я недавно учусь по-французски, знаю только читать и несколько писать; Гувернантка заставляла меня писать под диктовку, потом поправляла ошибки и велела мне их переписывать набело на хорошей бумаге и подписать мое имя, а письма прибирала к себе!
- Стало быть, вы не говорите по-французски?
- Нет-с! Я недавно стала учить вокабулы и разговоры!
Дело всё объяснилось.
Можно себе представить положение бедной Авдотьи Алексеевны в продолжении этих допросов. Городничий велел позвать Гувернантку, она не знала ничего, что тут происходило и, когда ей объяснили, в чем дело, она ужасно сконфузилась, и на вопрос “Какое имела она право играть так репутацией молодой девушки и бедной матери?” она не знала, что отвечать, и сказала, что это всё была шутка, и что она считала Г- на Сеславина родственником Г- жи Гайдуковой! При этом пошлом оправдании Городничий подошел к Авдотье Алексеевне и спросил у нее, желает ли она держать у себя Гувернантку.
- Сохрани Бог! я сейчас желаю от нее избавиться!
Городничий обратился к Гувернантке и сказал ей: “Извольте собрать сейчас все ваши вещи и приготовьтесь в дорогу, через час я вам пришлю экипаж, почтовых лошадей и проводника, который с моим донесением представит вас Г- ну Смоленскому Губернатору”. Обратясь к домашним служителям (которые в большом беспокойстве стояли в другой комнате у дверей и ждали решения), Городничий сказал им: “Пока я пришлю за мадамой, смотрите, чтобы она не ушла со двора, вы мне отвечаете за нее!” Единогласное и резкое: «Слушаем-с! Ваше Высокоблагородие!» Гувернантка была лет 40 и, как видно, опытная француженка в разных интриганских проделках, очень испугалась и поспешно скрылась.
Городничий и бывшие тут дворяне, прощаясь с Гайдуковой, просили ее не беспокоиться более, что всё уладится как нельзя лучше. Она благодарила всех за участие и объявила Городничему, что она уже послала прошение на Высочайшее имя. “Очень хорошо! - сказал Городничий. - Я донесу об этом Губернатору”. Гайдукова предложила Гувернантке горничную, чтоб проводить ее до Смоленска, и снабдила ее разным запасом на дорогу, расплатившись с ней очень аккуратно. Часа через два Гувернантка уехала, и всё в доме успокоилось.
Через несколько времени Городничий Вяземский получил от Смоленского Губернатора приказ: “Препроводить Г- на Сеславина в Смоленск, где он будет содержаться в крепости до тех пор, пока девица Гайдукова выйдет замуж!” Так и сделано, вот уже третий год этой истории, и он всё еще содержится!»
«Бедняжка!» - сказала та госпожа. «Который год Гайдуковой?» - спросила она у матушки. «15 лет, - отвечала матушка, - невеста богатая, можно надеяться, что женихи скоро найдутся!»
Матушкин рассказ кончился, но я доскажу от себя, что Гайдукова вышла замуж 20-и лет за Г- на Горожанского. Сеславин был тотчас выпущен, просидев в крепости около 7 лет.
Прогулка наша кончилась, мы подходили к городу, в стороне мы заметили Г- на Сеславина, лежащего на небольшом пригорке, солдат сидел поодаль с обнаженным палашом.
Гувернантку, говорят, проводили по-русски с честью за границу…»
На этом рассказ Леонтьевой заканчивается и мы так и не узнаем имя Сеславина. Интересно, кто всё - таки был этот арестант, помещик Ржевского уезда Сеславин? Как жаль, что мемуаристка не оставила нам его имени. Возможно, в Вяземском или Смоленском архиве остались какие то документы из этого дела, которые назовут нам имя этого искателя богатых невест. А пока можно только попытаться посмотреть по сохранившимся данным о Ржевских Сеславиных, кто подходит под описание этого крепостного сидельца. Если предположить, что на момент похищения ему было лет 20 - 25 - ть (у Леонтьевой это красивый, хорошо одетый молодой Человек), то он должен был родиться приблизительно в 1775 - 85 - году. Но дело осложняется тем, что в сохранившихся документах указаны не все даты рождения детей Сеславыных.
Ржевские Сеславины имели поместье Есемово на Сишке и жили дружной, большой семьёй, имея много детей. Бабушка - Марина Семёновна (17.. - 1783) скончалась 17 марта 1783 года в сельце Есемово «волею божею» и была погребена при церкви погоста Никольский на Сишке, и дедушка - Степан Петрович Сеславин (1721 - 17..) были старейшими в роду Сеславиных и их потомки наверняка были родителями интересующего нас Сеславина.
Их сын - Никита Степанович Сеславин (17.. - 1816), и его жена - Агапия Петровна (1755 - 1798), которая 27 августа 1798 года в свои сорок три года упокоится на местном кладбище при церкви Рождества Богородицы наверное, могли иметь в сыновьях Сеславина, упоминаемого в записках Леонтьевой.
Семья Сеславиных была большая - детей - одиннадцать человек.
Сыновья - Николай, Александр, Петр, Сергей, Федор. Из родословной росписи рода Сеславиных составленной в 1826 году (составлена со слов брата Александра Никитича - Николая), следует, что на этот момент А.Н. Сеславину было 42 года, его брату - Николаю - 43 года, а младшему - Фёдору - 36 лет.
Шесть дочерей были благополучно устроены: они имели государственную пожизненную пенсионную помощь как наследницы одного из уважаемых людей России. Нам известны имена пяти сестёр, как звали шестую сестру упоминания в известной мне литературе о Сеславиных нет. Сёстры - Елена, Ольга, Валентина и сестра Екатерина, монахиня Тверского Христорождественского монастыря, замужняя Евгения (в замужестве Тулубьева).
Нам известно, что старший сын Сеславиных - Пётр родился до 1777 года, за ним появился на свет сын Николай в 1777 году, затем - Александр в 1780 году, сын Фёдор - 1782 года рождения и младший сын Сергей - родился после 1782 года. Такая же путаница происходит и в датах рождения их шести дочерей. Но для меня важнее даты рождения их сыновей. Нас интересуют сыновья Никиты Степановича, поскольку один из них может быть тем самым Сеславиным, отсидевшим в Смоленской крепости семь лет за похищение девицы Катерины Гайдуковой. Пожалуй, самым подробным описанием жизни братьев Сеславиных на данный момент является труд Александра Вальковича - «Александр Никитич Сеславин, 1780-1858». Попробуем по нему проследить жизненный путь братьев Сеславиных с 1805 г. до 1812 года, в это время и происходили описываемые Леонтьевой события.
«Мало сохранилось исторических материалов об Александре Никитиче Сеславине. Мы даже не знаем ни дня, ни месяца его рождения. Известен только год - 1780-й. Правда, сам генерал неоднократно утверждал, что родился в 1785-м. Возможно, он искренне заблуждался, но не исключено, что умышленно вводил в заблуждение - лестно в тринадцать лет стать гвардейским офицером, а в 28 - генералом. Довольно заманчиво принять версию Сеславина, но в этом случае генерал оказался бы моложе младшего брата Федора, родившегося в 1782 году (факт достоверно установленный).»
Александра Никитича и Николая Никитича, хотя по году рождения они и подходят на роль неизвестного похитителя, мы подозревать в совершении этого поступка не будем - всё это время они находились на государевой службе. По труду Александра Вальковича можно проследить весь их ратный путь в течении 1805 - 1812 г.г., складывающийся из бесконечных военных походов и сражений. Интересно посмотреть на то, где в это время могли были их братья - Пётр, Сергей и Фёдор.
«1789 год - начало Великой французской революции, год падения Бастилии, год побед Суворова при Фокшанах и Рымнике, год начала пути Сеславина к славе.
В марте Александр вместе с братьями Петром и Николаем, сопровождаемые отцом и крепостным "дядькой", в кибитках прибыли в Петербург. Не без хлопот поручику Сеславину, не имевшему достаточных материальных средств, удалось определить старших сыновей на казенный кошт в Артиллерийский и Инженерный шляхетский корпус.»
«"Недоросли от дворянства", записанные в кадеты (всего около 400 человек), разделялись по возрасту на три роты. Жили они в камерах (жилых помещениях) и обучались в классах в деревянных зданиях корпуса на Петербургском острове. Здесь Александру с братьями предстояло провести девять лет.»
«Февраль 1798 года - время выпуска братьев Сеславиных ... Высочайший приказ. от 18 февраля 1798 года гласил: "...всемилостивейше производятся артиллерийского кадетского корпуса кадеты в гвардии артиллерийский батальон в подпоручики: Сеславин 1-й и 2-й..." Уточним, что 1-м стал Николай, а 2-м - Александр. Сеславина 1-го определили в конную роту, а 2-го - в первую пешую.» С этого времени началась их воинская и боевая служба.
Не смотря на то, что на учёбу их определили в одно и то же время раньше всех из братьев заканчивает учёбу старший брат Петр.
«К этому времени их старший брат Петр (за успехи в учении произведенный в 1794 году в сержанты) "оказался науки окончившим". Через год, в июле 1796 года он был выпущен штык-юнкером в армейскую конную артиллерию.»
Когда был рождён Пётр мы не знаем, не указано это в родословной росписи рода Сеславиных. Исходя из того, что Пётр был старшим братом, можно предположить, что он был рождён ранее брата Николая, то есть до 1777 года. Если он родился в 1775 году или около того, то ему на момент Вяземского происшествия было около 30-и лет и он вполне мог произвести на дочь и мать Леонтьевых впечатление молодого человека. Кроме того у нас нет ни каких сведений о его жизни после выпуска из кадетского корпуса. К 1805 году он мог выйти в отставку и попытаться устроить свою гражданскую жизнь, возможно даже и в Вязьме, а не в родовом имении Есемове.
Не попадают под подозрение в совершении похищения девицы и младшие сыновья Сеславина - Федор и Сергей. Так как они окончив обучение в корпусе в 1805 году были отправлены для прохождения воинской службы в полки. Вряд ли кто-то из них мог оставить службу и в 1805 году в праздник Крещения оказаться в Вязьме. А если и были там, то не для того чтобы устраивать свою личную жизнь - например, Фёдору было в то время всего 15 - ть лет и не о какой семье он и Сергей не задумывались, это для них было ещё рановато.
«В 1798 году в корпус поступили также младшие сыновья Сеславина - Федор и Сергей. Окончив корпус в 1805 году, Федор был произведен в подпоручики полевой артиллерии, а Сергей - в подпоручики инженерного корпуса.»
Ни Николай, ни Александр, ни Сергей, ни Фёдор в Смоленской крепости не содержались, по крайней мере с 1805 до 1812 года, что подтверждается имеющимися в нашем распоряжении свидетельствами очевидцев и архивных документов. В это время все они находились или в войсках, или на полях сражений, а вот где был их брат Пётр в это время мы не знаем. Нет у нас таких свидетельств и документов об их старшем брате Петре. Впервые об участии Петра в войне 1812 года упоминается в докладе В.М. Крылова и Ю.Н. Гуляева.
В.М. Крылов, Ю.Н. Гуляев в своём докладе «Вклад кадетских корпусов в подготовку артиллерийских и инженерных офицерских кадров русской армии» на конференции «Артиллерийские офицеры и военные инженеры - воспитанники Артиллерийского и Инженерного Шляхетного кадетского корпуса - 2-го кадетского корпуса в Бородинском сражении» сообщили следующее: «…Несколько слов о династиях, верой и правдой служивших Отечеству…Вместе с Александром Никитичем Сеславиным в конной артиллерии участвовали в войне его братья Пётр, Николай и Фёдор, выпущенные из кадетского корпуса в 1796, 1798 и 1805 г.г.» Младшие братья Федор и Сергей участвовали в войне 1812 года в составе 27-й батарейной роты 1-й резервной артиллерийской бригады. Федор был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». О службе Петра до 1812 г. никаких сведений мне обнаружить не удалось. Возможно, что Пётр приступил к военной службе после своего освобождения из Смоленской крепости в 1812 году.
Возможно, что Пётр Сеславин и был тем самым похитителем, о котором нам известно из записок Леонтьевой, но документальных подтверждений этого у нас пока нет. Так до сих пор нам и не ясно кем был этот неизвестный Сеславин - таинственный узник Смоленской крепости.
Литература:
1. Журнал "Наше Наследие" № 119 2016 г. Ф.П. Леонтьева. Неудавшееся похищение. Тайна старшего брата. Из записок «литераторки».
2. Журнал Вестник МГОУ №5 за 2017 год. Статья Потаповой Е.В. Ржевский затворник: обзор документов и архивных фондов, посвящённых герою войны 1812 года А.Н. Сеславину (по материалам Государственного архива Тверской области).
3. Кузьмина О.М. кандидат педагогических наук, Тверской государственный технический университет, г. Ржев, Тверская область, Российская Федерация. К 200-летию событий Великой Отечественной войны 1812 года: ратные и гражданские подвиги семьи Сеславиных.
4. Александр Валькович. «Александр Никитич Сеславин, 1780-1858».
Из сборника "Герои 1812 года", серия ЖЗЛ, вып. 11(680).
М., "Молодая гвардия", 1987. С. 401-464.
Скачано с www.znanio.ru
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.