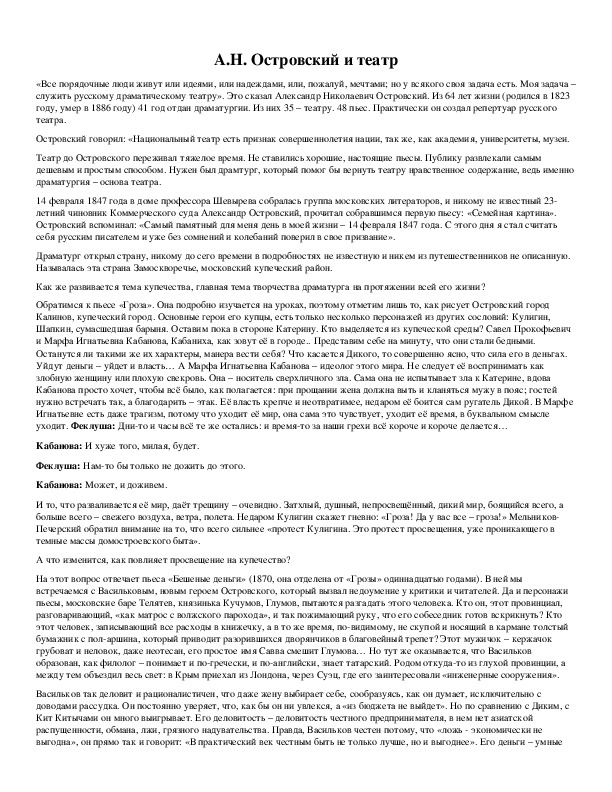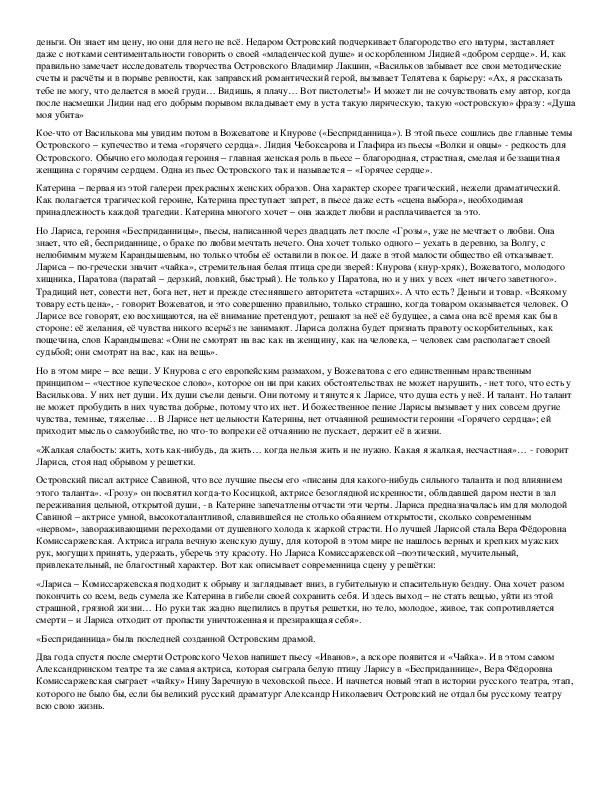«Все порядочные люди живут или идеями, или надеждами, или, пожалуй, мечтами; но у всякого своя задача есть. Моя задача – служить русскому драматическому театру». Это сказал Александр Николаевич Островский. Из 64 лет жизни (родился в 1823 году, умер в 1886 году) 41 год отдан драматургии. Из них 35 – театру. 48 пьес. Практически он создал репертуар русского театра.
Островский говорил: «Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как академия, университеты, музеи.
Театр до Островского переживал тяжелое время. Не ставились хорошие, настоящие пьесы. Публику развлекали самым дешевым и простым способом. Нужен был драмтург, который помог бы вернуть театру нравственное содержание, ведь именно драматургия – основа театра.
14 февраля 1847 года в доме профессора Шевырева собралась группа московских литераторов, и никому не известный 23-летний чиновник Коммерческого суда Александр Островский, прочитал собравшимся первую пьесу: «Семейная картина». Островский вспоминал: «Самый памятный для меня день в моей жизни – 14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».
А.Н. Островский и театр
«Все порядочные люди живут или идеями, или надеждами, или, пожалуй, мечтами; но у всякого своя задача есть. Моя задача –
служить русскому драматическому театру». Это сказал Александр Николаевич Островский. Из 64 лет жизни (родился в 1823
году, умер в 1886 году) 41 год отдан драматургии. Из них 35 – театру. 48 пьес. Практически он создал репертуар русского
театра.
Островский говорил: «Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как академия, университеты, музеи.
Театр до Островского переживал тяжелое время. Не ставились хорошие, настоящие пьесы. Публику развлекали самым
дешевым и простым способом. Нужен был драмтург, который помог бы вернуть театру нравственное содержание, ведь именно
драматургия – основа театра.
14 февраля 1847 года в доме профессора Шевырева собралась группа московских литераторов, и никому не известный 23
летний чиновник Коммерческого суда Александр Островский, прочитал собравшимся первую пьесу: «Семейная картина».
Островский вспоминал: «Самый памятный для меня день в моей жизни – 14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать
себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».
Драматург открыл страну, никому до сего времени в подробностях не известную и никем из путешественников не описанную.
Называлась эта страна Замоскворечье, московский купеческий район.
Как же развивается тема купечества, главная тема творчества драматурга на протяжении всей его жизни?
Обратимся к пьесе «Гроза». Она подробно изучается на уроках, поэтому отметим лишь то, как рисует Островский город
Калинов, купеческий город. Основные герои его купцы, есть только несколько персонажей из других сословий: Кулигин,
Шапкин, сумасшедшая барыня. Оставим пока в стороне Катерину. Кто выделяется из купеческой среды? Савел Прокофьевич
и Марфа Игнатьевна Кабанова, Кабаниха, как зовут её в городе.. Представим себе на минуту, что они стали бедными.
Останутся ли такими же их характеры, манера вести себя? Что касается Дикого, то совершенно ясно, что сила его в деньгах.
Уйдут деньги – уйдет и власть… А Марфа Игнатьевна Кабанова – идеолог этого мира. Не следует её воспринимать как
злобную женщину или плохую свекровь. Она – носитель сверхличного зла. Сама она не испытывает зла к Катерине, вдова
Кабанова просто хочет, чтобы всё было, как полагается: при прощании жена должна выть и кланяться мужу в пояс; гостей
нужно встречать так, а благодарить – этак. Её власть крепче и неотвратимее, недаром её боится сам ругатель Дикой. В Марфе
Игнатьевне есть даже трагизм, потому что уходит её мир, она сама это чувствует, уходит её время, в буквальном смысле
уходит. Феклуша: Днито и часы всё те же остались: и времято за наши грехи всё короче и короче делается…
Кабанова: И хуже того, милая, будет.
Феклуша: Намто бы только не дожить до этого.
Кабанова: Может, и доживем.
И то, что разваливается её мир, даёт трещину – очевидно. Затхлый, душный, непросвещённый, дикий мир, боящийся всего, а
больше всего – свежего воздуха, ветра, полета. Недаром Кулигин скажет гневно: «Гроза! Да у вас все – гроза!» Мельников
Печерский обратил внимание на то, что всего сильнее «протест Кулигина. Это протест просвещения, уже проникающего в
темные массы домостроевского быта».
А что изменится, как повлияет просвещение на купечество?
На этот вопрос отвечает пьеса «Бешеные деньги» (1870, она отделена от «Грозы» одиннадцатью годами). В ней мы
встречаемся с Васильковым, новым героем Островского, который вызвал недоумение у критики и читателей. Да и персонажи
пьесы, московские баре Телятев, князинька Кучумов, Глумов, пытаются разгадать этого человека. Кто он, этот провинциал,
разговаривающий, «как матрос с волжского парохода», и так пожимающий руку, что его собеседник готов вскрикнуть? Кто
этот человек, записывающий все расходы в книжечку, а в то же время, повидимому, не скупой и носящий в кармане толстый
бумажник с поларшина, который приводит разорившихся дворянчиков в благовейный трепет? Этот мужичок – кержачок
грубоват и неловок, даже неотесан, его простое имя Савва смешит Глумова… Но тут же оказывается, что Васильков
образован, как филолог – понимает и погречески, и поанглийски, знает татарский. Родом откудато из глухой провинции, а
между тем объездил весь свет: в Крым приехал из Лондона, через Суэц, где его заинтересовали «инженерные сооружения».
Васильков так деловит и рационалистичен, что даже жену выбирает себе, сообразуясь, как он думает, исключительно с
доводами рассудка. Он постоянно уверяет, что, как бы он ни увлекся, а «из бюджета не выйдет». Но по сравнению с Диким, с
Кит Китычами он много выигрывает. Его деловитость – деловитость честного предпринимателя, в нем нет азиатской
распущенности, обмана, лжи, грязного надувательства. Правда, Васильков честен потому, что «ложь экономически не
выгодна», он прямо так и говорит: «В практический век честным быть не только лучше, но и выгоднее». Его деньги – умныеденьги. Он знает им цену, но они для него не всё. Недаром Островский подчеркивает благородство его натуры, заставляет
даже с нотками сентиментальности говорить о своей «младенческой душе» и оскорбленном Лидией «добром сердце». И, как
правильно замечает исследователь творчества Островского Владимир Лакшин, «Васильков забывает все свои методические
счеты и расчёты и в порыве ревности, как заправский романтический герой, вызывает Телятева к барьеру: «Ах, я рассказать
тебе не могу, что делается в моей груди… Видишь, я плачу… Вот пистолеты!» И может ли не сочувствовать ему автор, когда
после насмешки Лидии над его добрым порывом вкладывает ему в уста такую лирическую, такую «островскую» фразу: «Душа
моя убита»
Коечто от Василькова мы увидим потом в Вожеватове и Кнурове («Бесприданница»). В этой пьесе сошлись две главные темы
Островского – купечество и тема «горячего сердца». Лидия Чебоксарова и Глафира из пьесы «Волки и овцы» редкость для
Островского. Обычно его молодая героиня – главная женская роль в пьесе – благородная, страстная, смелая и беззащитная
женщина с горячим сердцем. Одна из пьес Островского так и называется – «Горячее сердце».
Катерина – первая из этой галереи прекрасных женских образов. Она характер скорее трагический, нежели драматический.
Как полагается трагической героине, Катерина преступает запрет, в пьесе даже есть «сцена выбора», необходимая
принадлежность каждой трагедии. Катерина многого хочет – она жаждет любви и расплачивается за это.
Но Лариса, героиня «Бесприданницы», пьесы, написанной через двадцать лет после «Грозы», уже не мечтает о любви. Она
знает, что ей, бесприданнице, о браке по любви мечтать нечего. Она хочет только одного – уехать в деревню, за Волгу, с
нелюбимым мужем Карандышевым, но только чтобы её оставили в покое. И даже в этой малости общество ей отказывает.
Лариса – погречески значит «чайка», стремительная белая птица среди зверей: Кнурова (кнурхряк), Вожеватого, молодого
хищника, Паратова (паратай – дерзкий, ловкий, быстрый). Не только у Паратова, но и у них у всех «нет ничего заветного».
Традиций нет, совести нет, бога нет, нет и прежде стеснявшего авторитета «старших». А что есть? Деньги и товар. «Всякому
товару есть цена», говорит Вожеватов, и это совершенно правильно, только страшно, когда товаром оказывается человек. О
Ларисе все говорят, ею восхищаются, на её внимание претендуют, решают за неё её будущее, а сама она всё время как бы в
стороне: её желания, её чувства никого всерьёз не занимают. Лариса должна будет признать правоту оскорбительных, как
пощечина, слов Карандышева: «Они не смотрят на вас как на женщину, как на человека, – человек сам располагает своей
судьбой; они смотрят на вас, как на вещь».
Но в этом мире – все вещи. У Кнурова с его европейским размахом, у Вожеватова с его единственным нравственным
принципом – «честное купеческое слово», которое он ни при каких обстоятельствах не может нарушить, нет того, что есть у
Василькова. У них нет души. Их души съели деньги. Они потому и тянутся к Ларисе, что душа есть у неё. И талант. Но талант
не может пробудить в них чувства добрые, потому что их нет. И божественное пение Ларисы вызывает у них совсем другие
чувства, темные, тяжелые… В Ларисе нет цельности Катерины, нет отчаянной решимости героини «Горячего сердца»; ей
приходит мысль о самоубийстве, но чтото вопреки её отчаянию не пускает, держит её в жизни.
«Жалкая слабость: жить, хоть какнибудь, да жить… когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная»… говорит
Лариса, стоя над обрывом у решетки.
Островский писал актрисе Савиной, что все лучшие пьесы его «писаны для какогонибудь сильного таланта и под влиянием
этого таланта». «Грозу» он посвятил когдато Косицкой, актрисе безоглядной искренности, обладавшей даром нести в зал
переживания цельной, открытой души, в Катерине запечатлены отчасти эти черты. Лариса предназначалась им для молодой
Савиной – актрисе умной, высокоталантливой, славившейся не столько обаянием открытости, сколько современным
«нервом», завораживающими переходами от душевного холода к жаркой страсти. Но лучшей Ларисой стала Вера Фёдоровна
Комиссаржевская. Актриса играла вечную женскую душу, для которой в этом мире не нашлось верных и крепких мужских
рук, могущих принять, удержать, уберечь эту красоту. Но Лариса Комиссаржевской –поэтический, мучительный,
привлекательный, не благостный характер. Вот как описывает современница сцену у решётки:
«Лариса – Комиссаржевская подходит к обрыву и заглядывает вниз, в губительную и спасительную бездну. Она хочет разом
покончить со всем, ведь сумела же Катерина в гибели своей сохранить себя. И здесь выход – не стать вещью, уйти из этой
страшной, грязной жизни… Но руки так жадно вцепились в прутья решетки, но тело, молодое, живое, так сопротивляется
смерти – и Лариса отходит от пропасти уничтоженная и презирающая себя».
«Бесприданница» была последней созданной Островским драмой.
Два года спустя после смерти Островского Чехов напишет пьесу «Иванов», а вскоре появится и «Чайка». И в этом самом
Александринском театре та же самая актриса, которая сыграла белую птицу Ларису в «Бесприданнице», Вера Фёдоровна
Комиссаржевская сыграет «чайку» Нину Заречную в чеховской пьесе. И начнется новый этап в истории русского театра, этап,
которого не было бы, если бы великий русский драматург Александр Николаевич Островский не отдал бы русскому театру
всю свою жизнь.