
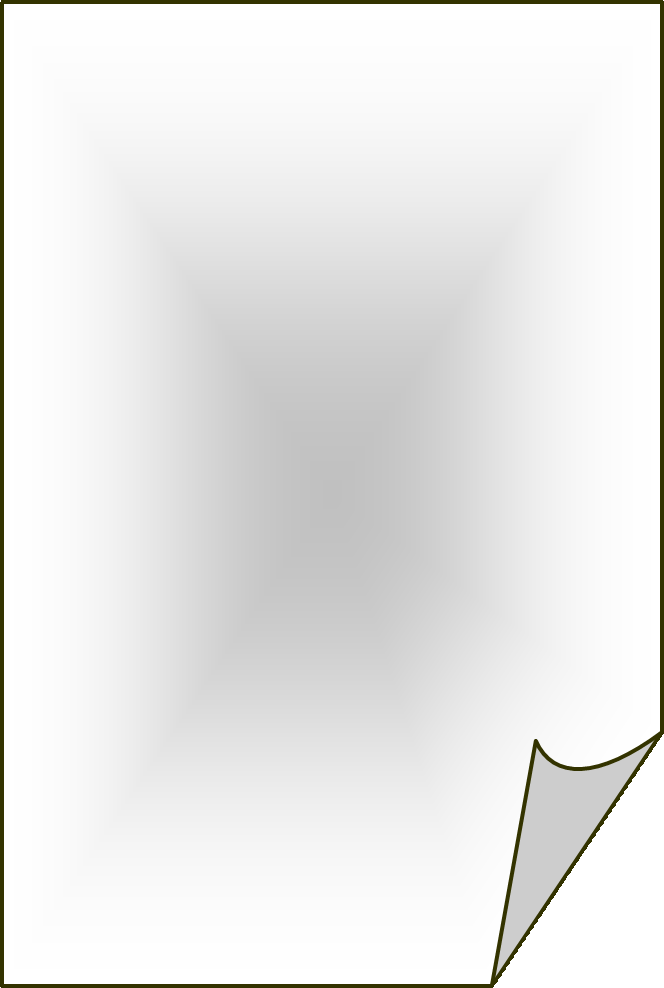
Хрестоматия
4 класс

Сергей Заплавный
СИБИРСКОЕ ЛЕТО

Сибирское лето… Да это
Не лето, а несколько лет.
 Приходит за ягодным следом
Приходит за ягодным следом
Грибное… И люди чуть свет
За город спешат в выходные –
Насытиться летним теплом.
И леса дары золотые
Их радуют долго потом.
МОГУЧИ СИБИРСКИЕ РЕКИ…

Могучи сибирские реки.
Они словно плети корней.
Могуча тайга…
Но навеки
Сибирь подняла
Человека,
Чтоб был самым добрым на ней.
Вениамин Колыхалов

СИБИРЬ
Сибирь родная наяву и снится.
Привет, раздолье хвойное моё!
Не знаю – сколько Англий разместится
На всех болотах и лесах её.

Но сердце разместилось здесь – я знаю.
За все границы, занятые им,
За то, что мы Сибирью прирастаем
Земле таёжной почесть воздадим.
РЕКИ, ОЗЁРА И БОЛОТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Река – это водный
поток сравнительно больших размеров, питающийся стоком атмосферных осадков со
своего водосбора и текущий в разработанном им русле.
Река – это водный
поток сравнительно больших размеров, питающийся стоком атмосферных осадков со
своего водосбора и текущий в разработанном им русле.
Всего рек и проток в Томской области – 18100, их них протяжённостью свыше 10км – 1620, протяжённостью менее 10км – 16480. из крупных рек, притекающих в Томскую область из смежных областей – Обь, Томь, Чулым, Кеть и Тым.
 Река Обь
– берёт своё начало в Алтайском крае
после слияния рек Бии и Катуни и впадает в Обскую губу Карского моря. Полная
длина реки 3650 км. В пределах нашей области в Обь впадают – Томь, Чулым, Кеть,
Тым, Чая, Парабель, Васюган, Иртыш.
Река Обь
– берёт своё начало в Алтайском крае
после слияния рек Бии и Катуни и впадает в Обскую губу Карского моря. Полная
длина реки 3650 км. В пределах нашей области в Обь впадают – Томь, Чулым, Кеть,
Тым, Чая, Парабель, Васюган, Иртыш.
Ширина поймы Оби в районе Барнаула – 210-12км, а в Томской области – 20-30 км.
 Река Томь берёт начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в Обь в 65км
от г.Томска. В верховьях р.Томь, являясь горной рекой, принимает много
притоков. До впадения в Томь реки Усы (651км от устья р.Томи) река протекает в
узкой долине и порожистом русле, ниже появляется пойма и река становится
спокойнее.
Река Томь берёт начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в Обь в 65км
от г.Томска. В верховьях р.Томь, являясь горной рекой, принимает много
притоков. До впадения в Томь реки Усы (651км от устья р.Томи) река протекает в
узкой долине и порожистом русле, ниже появляется пойма и река становится
спокойнее.
 Река Чулым – наиболее крупный правый приток Оби. До г.Ачинска Чулым и его притоки
носят горный характер. В районе с.Зырянское, после впадения левого притока
р.Кии, Чулым становится широкой полноводной рекой.
Река Чулым – наиболее крупный правый приток Оби. До г.Ачинска Чулым и его притоки
носят горный характер. В районе с.Зырянское, после впадения левого притока
р.Кии, Чулым становится широкой полноводной рекой.
Река Кеть берёт начало на Обь-Енисейском водоразделе в Красноярском крае. Бассейн и долина реки сильно заболочены. Река очень извилистая. В 12км от устья Кеть разделяется на два рукава: Тогурский, впадающий в Обь в районе г.Колпашево и Нарымский, который течёт вдоль Оби и впадает в неё у с.Нарым.
 Река Васюган – крупнейший левый приток Оби, берёт начало среди Васюганских облот
Обь-Иртышского междуречья. Длина реки 1082км. На заболоченной части бассейна
имеется большое количество озёр, расположенных среди болот.
Река Васюган – крупнейший левый приток Оби, берёт начало среди Васюганских облот
Обь-Иртышского междуречья. Длина реки 1082км. На заболоченной части бассейна
имеется большое количество озёр, расположенных среди болот.
В зимний период толщина льда на реках колеблется в больших пределах. На Оби достигает 82см, а на таёжных речках – 12-13см.
В Томской области нет крупных озёр, но общее количество их велико. Все озёра
пресные. Общее количество озёр в области
около 95000. Большинство имеют площадь до 1 кв.км. озёр площадью от 5 до 10  кв.км – 24, свыше 10 кв.км – 11. Многие
кв.км – 24, свыше 10 кв.км – 11. Многие  доступные озёра играют важную роль как в воспроизводстве
рыбных запасов, так с точки зрения охотничье-промысловой базы водоплавающей
дичи.
доступные озёра играют важную роль как в воспроизводстве
рыбных запасов, так с точки зрения охотничье-промысловой базы водоплавающей
дичи.

 Болота
в Томской области имеют очень большое распространение. Образование болот
объясняется плоским рельефом равнины, а также и благоприятным для торфообразования
климатом. Выпуклые торфяники на обширных водоразделах покрыты редкой
растительностью, а также на грядах в изобилии произрастает кустарник
(багульник, голубика, касандра) и сосна.
Болота
в Томской области имеют очень большое распространение. Образование болот
объясняется плоским рельефом равнины, а также и благоприятным для торфообразования
климатом. Выпуклые торфяники на обширных водоразделах покрыты редкой
растительностью, а также на грядах в изобилии произрастает кустарник
(багульник, голубика, касандра) и сосна.
 На пойменных болотах лесной зоны (Васюганье)
характерно обилие моховых и осоковых кочек. Травяной покров представлен осокой,
хвощом, тростником. Из древесной растительности преобладает берёза и ель.
На пойменных болотах лесной зоны (Васюганье)
характерно обилие моховых и осоковых кочек. Травяной покров представлен осокой,
хвощом, тростником. Из древесной растительности преобладает берёза и ель.
 В поймах крупных рек области наблюдается много
низинных болот, являющихся наиболее ценными в сельскохозяйственном отношении.
В поймах крупных рек области наблюдается много
низинных болот, являющихся наиболее ценными в сельскохозяйственном отношении.

ВАСЮГАНСКОЕ БОЛОТО
Георгий Жидковский
ЗАПОРОШЕНЫ РЕСНИЦЫ…

Запорошены ресницы
У Сибири – царь-девицы.
Запорошена коса,
Синью озера глаза.
Манит далью на просторы,
В хлябь болотную, в тайгу,
В зори летние, в пургу.

Не робей, доверься смело,
Всем по сердцу станет дело.
Благодарствуй, стар и млад,
Приходи и будь богат.

Мужику – корчуй и в поле,
Казаку – табун на воле,
Рудознатцу – бездна руд.
Не скупись на вольный труд!
Шишка, клюква, земляника,
Гриб, малина, голубика.
Рухлядь мягкая в тайге,
Белорыбица в реке.

Запорошены ресницы
У Сибири – царь-девицы.
Запорошена коса,
Синью озера – глаза.

Пётр Дедов
В ЗИМНИЙ ДЕНЬ

 Сидишь с удочкой в зоревой утренний час над
тихой водою, - и всё твоё внимание, всё существо сосредоточено на кончике
пёрышка-поплавка, который не дрогнет, будто припаян к озёрному зеркалу. Только
если сядет на красное остриё синяя стрекоза – тоненькая рябь кругами пойдёт от
поплавка, ломая его отражение в воде…
Сидишь с удочкой в зоревой утренний час над
тихой водою, - и всё твоё внимание, всё существо сосредоточено на кончике
пёрышка-поплавка, который не дрогнет, будто припаян к озёрному зеркалу. Только
если сядет на красное остриё синяя стрекоза – тоненькая рябь кругами пойдёт от
поплавка, ломая его отражение в воде…

 А утро между тем началось, в мокрых кустах
завозились птицы, и блестящие, словно покрытые лаком, тальники стряхивают
ночную росу, и бог весть откуда донесло сладковатый дымок рыбацкого костра, и
вот уже взошло солнце, и вода вздрогнула от ветерка, - алая рябь пошла по всему
озеру, словно закачались на воде слитки червонного золота. Но
ты ничего этого не видишь и не слышишь, потому что всё твоё существо
сосредоточено на кончике злосчастного пёрышка – поплавка.
А утро между тем началось, в мокрых кустах
завозились птицы, и блестящие, словно покрытые лаком, тальники стряхивают
ночную росу, и бог весть откуда донесло сладковатый дымок рыбацкого костра, и
вот уже взошло солнце, и вода вздрогнула от ветерка, - алая рябь пошла по всему
озеру, словно закачались на воде слитки червонного золота. Но
ты ничего этого не видишь и не слышишь, потому что всё твоё существо
сосредоточено на кончике злосчастного пёрышка – поплавка.
 Или взять грибника. С раннего утра до позднего
вечера бродит он, бедняга, по запутанным тропам в медном звоне осеннего леса, в
шуршании палой листвы, наступает на поздние цветы, которые в эту пору особенно
очаровательны. А над ним – такое высокое небо, и такое чистое, словно омытое
первой прохладой, и облака по-летнему ещё налиты молочной белизной. Но ему
некогда поднять голову вверх, полюбоваться всем этим – так и ходит он весь день
понурый, а перед сном, лишь закроет глаза, - шуршащие листвою тропинки встанут
перед ним да солнечные поляны, заляпанные коричневыми шляпками грибов.
Или взять грибника. С раннего утра до позднего
вечера бродит он, бедняга, по запутанным тропам в медном звоне осеннего леса, в
шуршании палой листвы, наступает на поздние цветы, которые в эту пору особенно
очаровательны. А над ним – такое высокое небо, и такое чистое, словно омытое
первой прохладой, и облака по-летнему ещё налиты молочной белизной. Но ему
некогда поднять голову вверх, полюбоваться всем этим – так и ходит он весь день
понурый, а перед сном, лишь закроет глаза, - шуршащие листвою тропинки встанут
перед ним да солнечные поляны, заляпанные коричневыми шляпками грибов.
 То же самое и заядлому охотнику увлечение не
даёт оглядеться вокруг. Скажем, тропит он зайца по первой пороше, целый день
ходит по следу, пытаясь распутать хитрую заячью «карусель», и не увидит того,
как прекрасен лес под первым снегом, как причудливо узорчата каждая веточка,
опушённая инеем, - словно бы выкованная большим мастером из звонкого серебра…
То же самое и заядлому охотнику увлечение не
даёт оглядеться вокруг. Скажем, тропит он зайца по первой пороше, целый день
ходит по следу, пытаясь распутать хитрую заячью «карусель», и не увидит того,
как прекрасен лес под первым снегом, как причудливо узорчата каждая веточка,
опушённая инеем, - словно бы выкованная большим мастером из звонкого серебра…
 Нет, напрасно считают страстных рыбаков,
грибников или охотников такими уж знатоками природы, тонкими ценителями её
красот. К примеру, иной охотник во всех подробностях расскажет вам повадки
зверей и птиц (подлежащих отстрелу, разумеется), но он не назовёт вам ни одного
лесного цветка, ни одной луговой травки.
Нет, напрасно считают страстных рыбаков,
грибников или охотников такими уж знатоками природы, тонкими ценителями её
красот. К примеру, иной охотник во всех подробностях расскажет вам повадки
зверей и птиц (подлежащих отстрелу, разумеется), но он не назовёт вам ни одного
лесного цветка, ни одной луговой травки.
Наблюдать специально природу ходят без ружья, без удочки и грибного лукошка. Хорошо, скажем, выйти ранним зимним утром за деревню и брести по свежей санной колее туда, куда она приведёт. А эта колея обязательно куда-нибудь да приведёт. Сначала она петляет ровным лугом, покрытым застывшими снеговыми волнами, острые гребни которых чуть-чуть курятся шуршащей позёмкой.
 В синем прозрачном воздухе далеко видно окрест.
Вон стога сена в кособоко нахлобученных снежных папахах, - издали стога кажутся
приземистыми грибами-боровиками. Тёмной лентой тянется сосновый бор, лишь
заснеженные верхушки деревьев горят малиновым пламенем, подожженные первыми
лучами невидного ещё солнца.
В синем прозрачном воздухе далеко видно окрест.
Вон стога сена в кособоко нахлобученных снежных папахах, - издали стога кажутся
приземистыми грибами-боровиками. Тёмной лентой тянется сосновый бор, лишь
заснеженные верхушки деревьев горят малиновым пламенем, подожженные первыми
лучами невидного ещё солнца.
 В бору тихо, пустынно, - сорвётся с сосновой
лапы снежная навись, эхо долго будет метаться меж стволами деревьев, гулко
перекатываться, как в огромном пустом зале.
В бору тихо, пустынно, - сорвётся с сосновой
лапы снежная навись, эхо долго будет метаться меж стволами деревьев, гулко
перекатываться, как в огромном пустом зале.
С восходом солнца сильно похолодало: мороз так выхолостил воздух, что он стал сухим, резким, словно жаром обжигал лицо и руки. Остистый иней распушил хвою на соснах, и они побелели, стали похожими на огромные прозрачные шары, которые, казалось, вот-вот оторвутся от земли и взмоют в глубокое чистое небо. На снегу же лежало голубое кружево теней, и тени эти были настолько чёткими и резкими, что боязно было зацепиться о них валенками, как о валежник.
Так вот незаметно, оглядываясь по сторонам, отмахал я вёрст восемь от села Бергуль и тут услышал позади себя скрип санных полозьев. Оглянулся, меня догоняла неторопливой рысцой маленькая колченогая лошадка, вся обросшая сверкающим инеем и запряжённая в широкие крестьянские розвальни. Я шагнул с колеи в сторону, и когда лошадка поравнялась, увидел в санях человека, закутанного в огромный овчинный тулуп. Человек натянул вожжи, лошадка охотно остановилась.
- Закурить у тебя не найдётся , парень? – спросил старик.
Я достал сигарету, чиркнул спичку. Старик поперхнулся дымом, закашлялся.
- Ух ты, нечистая сила, - проворчал он, - до печёнок пробирает, окаянная…
Я понял, что старик не курит и что остановился не за этим.
- Куда путь держишь? – снова обратился он ко мне.
- Да так… просто гуляю.
- Это столько-то вёрст просто гуляешь? – искренне удивился старик. – Я ведь от самого Бергуля след твой вижу.
Старик снял с руки собачью мохнашку, хитро прищурился на меня:
- Лосишку, небось, где заприметил, стрельнуть идёшь?
- Да какого лосишку, у меня и ружья-то нет.
- И то правда, - согласился старик и озадаченно поглядел на меня. Он причмокнул губами, дёрнул вожжи, задремавшая было лошадка снова затрусила, в такт кивая большой тяжёлой головою. За обитыми железом полозьями потянулись две гладких блестящих ленты, а старик всё оглядывался на меня, потом снова остановился.
- Давай-ка подвезу, в ногах, паря, правды нет! – крикнул он мне.
Я сел рядом. Хорошо было так-то вот, в широких розвальнях, на пахучем сене, ехать по зимнему лесу, вдыхать резкий на морозе, кисловатый запах овчинного тулупа, смешанный с тонким ароматом лугового разнотравья.
- Теперь-то я догадался, куда ты топаешь, - сказал старик. – Это в аккурат по пути нам будет. А идёшь ты, мил человек, к Мохнатому логу. Там у тебя силки на косачей да на зайчишек расставлены, петли-удавки, значит.
- Какие силки? Сроду не ловил силками. Говорю же – просто гуляю.
 - Это зимой, да за десять-то вёрст от деревни?
Ну, летом – оно ещё понятно: ягодное место высмотришь, грибов опять же
пособирать, - старик улыбнулся и добавил: - Да ты не бойся, мил человек, не
донесу на твоё браконьерство, сам бывает, этим балуюсь.
- Это зимой, да за десять-то вёрст от деревни?
Ну, летом – оно ещё понятно: ягодное место высмотришь, грибов опять же
пособирать, - старик улыбнулся и добавил: - Да ты не бойся, мил человек, не
донесу на твоё браконьерство, сам бывает, этим балуюсь.
- Да нет же, вам говорю, - мне стало неловко, я не понимал, что от меня надо этому старику.
- Ну, ладно, ладно, - примирительно сказал он. – Не хочешь говорить – дело хозяйское. Я вот за сеном еду, летось за Мохнатым логом накосил, так чё тут скрывать? Всё по-честному говорю, ежели сумлеваешься – у любого в Бергуле спроси, каждый тебе скажет: точно Ермил Куратов траву за Мохнатым логом косил…
Мы долго ехали молча. Старик о чём-то сосредоточенно думал, изредка бросая на меня косые взгляды.
 - Однако, мороз сильный будет, снова заговорил
он. – Видишь, как снег под полозом верещит, уши на солнышке опять же выросли.
- Однако, мороз сильный будет, снова заговорил
он. – Видишь, как снег под полозом верещит, уши на солнышке опять же выросли.
Солнце действительно было окружено голубоватым диском с двумя яркими столбиками наверху – ни дать, ни взять лик богородицы в нимбе. Я забеспокоился, что далеко уехал от деревни и что можно обморозиться, возвращаясь назад: одежда на мне была лёгкая. Попросил старика остановиться, спрыгнул с розвальней.
- Значит, здесь? – спросил он.
- Что здесь? – на этот раз уже настала моя очередь удивляться.
- Дровишки-то, говорю, здесь запасал? Да и зря проверять такую даль шёл, - кто их тронет, народ у нас честный, чужого не возьмёт…
Я пожал плечами и повернул назад. Оглянулся – старик не трогается с места, пристально смотрит на меня недоумёнными голубыми глазами. И только тут я догадался, чего он от меня хочет: он просто не может понять, как это безо всякого дела человек может уйти за столько вёрст от села, без толку шататься на морозе по лесу, - и чего тут зимою высмотришь? Ему-то, старику, с детства понятно здесь всё, никакими красотами природы его не удивишь, она живёт во всём его существе, эта природа, он тонко чувствует, понимает её приметы, - так зачем же ещё ходить и смотреть на эти поля и леса, убивать зря время, которого и так сроду не хватает у крестьянина? Другое дело, если пойти, скажем, с ружьишком, или с теми же силками-удавками…
Мне даже неудобно стало: расстроил понапрасну человека, будет теперь думать, мучиться. Надо было бы хоть что-нибудь соврать, что ли…
Пётр Дедов
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ
Осень стояла звонкая, золотая. В жёлтых берёзовых колках то там, то здесь яркими кострами полыхали осины, ветер раздувал и разносил их листья, которые словно искры поджигали соседние деревца.
 Вызрела рябина – алые гроздья проступили сквозь
чеканную папоротникообразную листву, а внизу, в подлеске, зажглись яркие
огоньки шиповника. Налетит лёгкий верховой ветер – и пёстрой метелью закружится
листопад, и разноцветьем осенних красок лес станет похожим на летящую жар-птицу
в сказочном оперении…
Вызрела рябина – алые гроздья проступили сквозь
чеканную папоротникообразную листву, а внизу, в подлеске, зажглись яркие
огоньки шиповника. Налетит лёгкий верховой ветер – и пёстрой метелью закружится
листопад, и разноцветьем осенних красок лес станет похожим на летящую жар-птицу
в сказочном оперении…
И вот глухой тёмной ночью подкралась непогода. Косой шквальный ливень пополам с крупой обрушился на землю, буря загудела, застонала в лесу, ломая деревья, эхо пушечным грохотом заметалось меж стволами.
Только к утру всё стихло, рассвет с трудом продрался сквозь серое, без единой кровинки, небо. И что сталось с лесом! Он напоминал теперь место жестокой битвы. Изломанные или вывороченные с корнем стволы упали на землю, покрытую перемешанной с грязью листвою, а надо всем этим мёртво застыли голые скелеты деревьев. Костяной хруст обломанных ветвей под ногами острой печалью отзывается в сердце. Внезапно, словно вспугнутая жар-птица, улетела золотая осень…
И настали пасмурные деньки с беспросветными гнилыми дождями, которые лениво, словно нехотя, моросят и моросят, заткав серой мутью даль, а ночами шелестят в чёрных окнах, шуршат по крыше, будто кто-то, лёгкий и неутомимый, похаживает там в тишине…

 Но вот однажды проснёшься утром с ощущением
счастья в самом себе. Откроешь глаза – и не поверишь: вся комната залита
лимонным радостным светом, «заплаканные» стёкла окон икрятся и переливаются
всеми цветами радуги. Выбежишь на улицу – и дух займётся от свежести, простора
и чистоты. Изморозь ознобила землю, соломинки блестят серебряными вязальными
спицами, с мокрых лакированных деревьев падает бойкая капель, и далеко вокруг,
распахнулись сиреневые дали.
Но вот однажды проснёшься утром с ощущением
счастья в самом себе. Откроешь глаза – и не поверишь: вся комната залита
лимонным радостным светом, «заплаканные» стёкла окон икрятся и переливаются
всеми цветами радуги. Выбежишь на улицу – и дух займётся от свежести, простора
и чистоты. Изморозь ознобила землю, соломинки блестят серебряными вязальными
спицами, с мокрых лакированных деревьев падает бойкая капель, и далеко вокруг,
распахнулись сиреневые дали.
Может быть, этот последний денёк, один-единственный, подарила земле на прощание ушедшая осень. И подумается, что эта вспугнутая непогодой жар-птица, улетая, нечаянно обронила своё сказочное перо…
Пётр Дедов
МОРОК
 Дни начала осени – самые светлые дни. Два цвета
в эту пору царствуют в природе: жёлтый и голубой. Небо омыто прохладой до
звонкого хрустального сияния. Земля переполнена жёлтыми берёзами, вызревшими
хлебными нивами, обожжённой холодными зорями травою, - и всё это, сливаясь,
образует ровное золотое свечение, которое не может погасить даже ночная мгла.
Дни начала осени – самые светлые дни. Два цвета
в эту пору царствуют в природе: жёлтый и голубой. Небо омыто прохладой до
звонкого хрустального сияния. Земля переполнена жёлтыми берёзами, вызревшими
хлебными нивами, обожжённой холодными зорями травою, - и всё это, сливаясь,
образует ровное золотое свечение, которое не может погасить даже ночная мгла.
 Но среди этой ясной благодати выдаётся вдруг
странный день. Вечером, ближе к закату, в безоблачном небе вдруг потускнеет
солнце, серый мрак падёт на землю, и в померкнувшей дали зашевелятся косматые
призрачные тени. И станет тревожно как-то на душе, и всё стихнет, замрёт
вокруг, только лошади начнут боязливо всхрапывать, как при затмении солнца…
Но среди этой ясной благодати выдаётся вдруг
странный день. Вечером, ближе к закату, в безоблачном небе вдруг потускнеет
солнце, серый мрак падёт на землю, и в померкнувшей дали зашевелятся косматые
призрачные тени. И станет тревожно как-то на душе, и всё стихнет, замрёт
вокруг, только лошади начнут боязливо всхрапывать, как при затмении солнца…
Морок – так называют в народе подобное состояние природы.
БЕЛАЯ ГРОЗА
 Такое мне довелось увидеть впервые. С вечера
пошёл густой снег, он в косую линейку заштриховал синюю даль, а небо было
каким-то тревожным: слишком уж хмурыми и тёмными были тучи, не такими лёгкими и
белёсыми, какие бывают в снегопад.
Такое мне довелось увидеть впервые. С вечера
пошёл густой снег, он в косую линейку заштриховал синюю даль, а небо было
каким-то тревожным: слишком уж хмурыми и тёмными были тучи, не такими лёгкими и
белёсыми, какие бывают в снегопад.
 Я решил лечь пораньше, надеясь, что к утру снег
перестанет и можно будет потропить зайцев по первой пороше. Проснулся я среди
ночи от грохота. Сначала подумалось, что это пролетел реактивный самолёт,
разорвав воздушную подушку. Но вслед за этим так ярко полыхнуло снаружи, что
свет проник сквозь плотный брезент палатки. А когда я стал торопливо
выкарабкиваться на волю, снова вдруг оглушительно рвануло, отозвалось нервной
дрожью в стылой земле.
Я решил лечь пораньше, надеясь, что к утру снег
перестанет и можно будет потропить зайцев по первой пороше. Проснулся я среди
ночи от грохота. Сначала подумалось, что это пролетел реактивный самолёт,
разорвав воздушную подушку. Но вслед за этим так ярко полыхнуло снаружи, что
свет проник сквозь плотный брезент палатки. А когда я стал торопливо
выкарабкиваться на волю, снова вдруг оглушительно рвануло, отозвалось нервной
дрожью в стылой земле.
На улице – снегопад, было бело, и в этой молочной мути, одна за другой, почти беспрерывно вспыхивали молнии, огромные огненные столбы, словно взрывы, почему-то взмётывались от земли в чёрное небо, и голубое слепящее зарево на мгновение охватывало всё вокруг.
 Сначала я даже не понял, что это настоящая
гроза: так странно было видеть молнии и слышать раскаты грома на этой
по-зимнему белой земле, среди густого бурана. Да и отошла уже пора летних гроз:
был конец октября.
Сначала я даже не понял, что это настоящая
гроза: так странно было видеть молнии и слышать раскаты грома на этой
по-зимнему белой земле, среди густого бурана. Да и отошла уже пора летних гроз:
был конец октября.
А стихия бушевала и бесновалась, и что-то непонятное, жутковатое было в этом бешенстве огня и снега, в этом мертвенно-голубом зареве, возникающем, казалось, из самой земли. Далеко в тайге раздался треск, а следом взметнулось пламя, - наверное, молния попала в большое дерево, и оно вспыхнуло алым факелом. И пронеслась уже налетевшая бог весть откуда мимолётная гроза, и кончился снегопад, а дерево всё горело, и из тайги наносило терпким смоляным запахом дыма, и кроваво-красные сполохи тревожно метались в непроглядной ночи…
Николай Волокитин
ПЛОВЦЫ
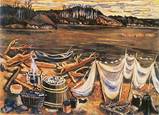 Мы вырулили на середину реки, и лодка,
подхваченная течением, сама поплыла в сторону Долгого острова, где были
развешаны для просушки наши сети.
Мы вырулили на середину реки, и лодка,
подхваченная течением, сама поплыла в сторону Долгого острова, где были
развешаны для просушки наши сети.
- У-уфф! – выдохнул бакенщик Трифон Исаев, положив вёсла и стирая со лба струйки пота. – Ну и денёк!
Таёжный полуденный зной весел над рекой. Внимательно присмотревшись, можно было заметить, как раскалённый воздух тоненькими прозрачными струйками поднимается ввысь. Вокруг было тихо и безжизненно, словно все: и птицы, и плескавшиеся утром рыбины – вымерло в этот час.
Не хотелось двигаться, не хотелось разговаривать. Мы сидели, облокотившись на борта лодки, лениво поглядывая по сторонам.
Но вдруг дед Агей встрепенулся и , сощурившись, показывал вправо:
- Посмотри-ка, что это там, сынок?
Я обернулся. По воде наперерез нам плыл крохотный пушистый комочек.
- Зверёк какой-то, дедушка, - сказал я. – А какой, понять не могу. Хвостик торчком торчит.
- Да не один зверёк-то! – воскликнул Трифон Исаев. – вон их сколько, посмотри-ка, что творится у берега!
От правого берега, заросшего густым хвойным лесом, и впрямь отделилось около десятка таких же маленьких комочков и поплыло навстречу нам.
- А ну-ка давай к ним! – закричал я, хватая весло.
Лодка, набирая скорость, поплыла вперёд. До ближайшего зверька оставалось метров двадцать, когда Трифон Исаев ахнул:
- Белка! Точно, белка!
Это было чудо. Все мы привыкли видеть белок в тайге, и вдруг здесь, на середине реки…
- Подруливай, подруливай, - прошептал я, - сейчас мы её схватим.
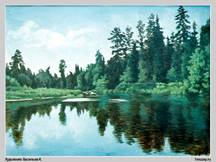 - Не сметь! – рявкнул дед Агей. – Живо отворачивай
в сторону, давай дорогу зверью!
- Не сметь! – рявкнул дед Агей. – Живо отворачивай
в сторону, давай дорогу зверью!
- Ты чего? – уставился я.
- Ничего! – Дед потянул широкими ноздрями воздух, огляделся тревожно:
 - Где-то тайга горит или ещё какая беда. Вишь,
живые твари бегством спасаются. А вы тут шутки шутить удумали. Отворачивай,
говорю, живее, освобождай путь.
- Где-то тайга горит или ещё какая беда. Вишь,
живые твари бегством спасаются. А вы тут шутки шутить удумали. Отворачивай,
говорю, живее, освобождай путь.
Я гребнул веслом изо всех сил. Зверьки остались позади. Вскоре первые из них достигли противоположного берега и скрылись в траве.
А когда и последние переплыли, мы по приказу деда Агея, повернули в село, чтобы рассказать об увиденном в лесничестве и отвести лесную беду, если она в самом деле случилась.
БРАКОНЬЕР
 Тихим августовским днём лесник Елисеев обходил
свой участок. Времени в его распоряжении было достаточно, и шагал он по
травяной дорожке тихонько, неторопливо, любуясь стройными, ветвистыми кедрами,
в хвое которых играло солнце.
Тихим августовским днём лесник Елисеев обходил
свой участок. Времени в его распоряжении было достаточно, и шагал он по
травяной дорожке тихонько, неторопливо, любуясь стройными, ветвистыми кедрами,
в хвое которых играло солнце.
Неожиданно справа послышался мягкий стук. Раз, другой. Лесник остановился. Тишина. Неужто почудилось? Он сделал шаг. Опять стук.
Всё стало ясно: кто-то тайком бил кедровые шишки.
- Но кто? – заворчал Елисеев. – Наверняка опять деревенские пацаны-непоседы. Никак не понимают, что до срока нельзя бить. Да и родители тоже хороши, не следят… Вот поймаю сейчас пострелёнка, - стал распаляться, приведу в деревню и оштрафую папашу. Будет знать!
Он тихонько подошёл к кедру, с которого летели шишки.
- Эй, парень, а ну слезай сейчас же! – крикнул.
Ещё одна шишка стукнулась о землю, и всё замерло.
- Ты слышишь, я тебе говорю, слезай! – повторил лесник.
Но с кедра – ни звука.
«Пересидеть решил, - подумал Елисеев, - на выдержку надеешься. Не получится. Всё равно я тебя перехитрю».
 - Не хочешь – сиди, - сказал громко и вроде пошёл.
А сам завернул в ельничек и притаился. Ждать пришлось недолго: цепляясь за
толстые сучья, с кедра спускался… медвежонок.
- Не хочешь – сиди, - сказал громко и вроде пошёл.
А сам завернул в ельничек и притаился. Ждать пришлось недолго: цепляясь за
толстые сучья, с кедра спускался… медвежонок.
- Ну дела-а-а, промолвил лесник и быстрёхонько зашагал прочь.
Штрафовать Михаила Ивановича Топтыгина он не решился.
Юрий Чернов
ОБСКИЕ БАОБАБЫ
Уголок обской поймы, о котором рассказ, называется Татаркой. Почему, никто в Верх-Сузуне не знает. Здешний учитель Владимир Васильевич Строганов, который сманил меня в Татарку, подогревал в дороге интерес к своему краю.
 - Весною там чудесно! Как зацветёт – голова идёт
кругом. И что любопытно: весна в Татарке недели на две запаздывает. Половодье
держит. Кругом сухо, травы поднялись, а в татарке – подснежники! А какие там…
Нет, помолчу, сам увидишь.
- Весною там чудесно! Как зацветёт – голова идёт
кругом. И что любопытно: весна в Татарке недели на две запаздывает. Половодье
держит. Кругом сухо, травы поднялись, а в татарке – подснежники! А какие там…
Нет, помолчу, сам увидишь.
Владимир и раньше намекал показать что-то очень уж редкое. Подавив соблазн выведать у приятеля заманку, шагаю с ним по тропе, усыпанной снежной крупой и длинными пожухлыми листьями. Узкая стёжка пробита среди густейшего, словно сеянного тальника. И растёт он однобыльно, по-солдатски вытянувшись в струнку.
Разновидностей тала на Оби много, но местные жители различают его только по окраске: чернотал, желтотал, краснотал. Наш тальник светло-зелёный, как нос кряковой утки. Вдруг замечаем: нижняя половина прутьев пепельно-светлая, словно выкрашена городскими садовниками. Чудно… Верхняя граница подкраски идеально ровная, как по нивелиру. Какой же маляр мог так постараться? А-а… обская вода!
В половодье Татарка заливается. Мутная вода, затопив тальники, стоит долго. Вот и получилось: на залитую комельную часть тальника корочкой осел въедливый ил.
Обнаружили мы и другую примету долгого стояния воды, когда вошли в дебри… бородатого кустарника. Таловые стволы у комля сплошь обросли обвислыми рыжими волосками. Вверху они коротенькие, а книзу – длиннее, размашистее. Издали такой тальник можно принять за ельник. Отгадку и тут нашли: ждали-ждали тальники спада воды, да и пустили корешки для поживы в мутной водице. С убылью разлива верхние корешки засыхали, а нижние ещё росли…
- Оно самое? – киваю я на таловые «ёлочки». Владимир щурит весёлые черешенки глаз, отрицательно качает головой.
 Тропа отбивается от реки, врезается в заросли
облепихи, круто взбегает на пойменную терраску, - и вот она – сокровень
Татарки! Перед нами простёрлось обширное ровное плато, а на нём тут и там
призрачно выступали исполинские вётлы.
Тропа отбивается от реки, врезается в заросли
облепихи, круто взбегает на пойменную терраску, - и вот она – сокровень
Татарки! Перед нами простёрлось обширное ровное плато, а на нём тут и там
призрачно выступали исполинские вётлы.
Какая-то неудержимая сила повлекла нас к могучим сибирским кряжам. Их немного, десятка два, и стоят они несуетно, поодаль друг от друга, как подобает почтенным, уважающим себя старцам.
 Мы идём от ветлы к ветле, и каждое дерево –
явление – со своей особицей, сложным рисунком долгой жизни. Каждому просится
имя. Спрут… Женьшень… Погорелец… А вот – Вздыбленный зубр! Ствол тала от комля
не сужается, а, наоборот, резко утолщается, как грудь беловежского быка.
Замеряем «грудную клетку» от приметного дупла. Получилось шесть обхватов!
Мы идём от ветлы к ветле, и каждое дерево –
явление – со своей особицей, сложным рисунком долгой жизни. Каждому просится
имя. Спрут… Женьшень… Погорелец… А вот – Вздыбленный зубр! Ствол тала от комля
не сужается, а, наоборот, резко утолщается, как грудь беловежского быка.
Замеряем «грудную клетку» от приметного дупла. Получилось шесть обхватов!
 По шершавому, изъеденному морщинами стволу
взбираюсь на раскидистую ветлу. В развилке громадных отростков могла бы разместиться
двухспальная палатка. Такому месту для ночлега позавидовали бы и Том Сойер и
Робинзон Крузо! Так что верх-сузунские ребятишки – частые гости Татарки – могут
считаться одарёнными судьбой.
По шершавому, изъеденному морщинами стволу
взбираюсь на раскидистую ветлу. В развилке громадных отростков могла бы разместиться
двухспальная палатка. Такому месту для ночлега позавидовали бы и Том Сойер и
Робинзон Крузо! Так что верх-сузунские ребятишки – частые гости Татарки – могут
считаться одарёнными судьбой.
Обские вётлы полюбились не только ребятне. Какая только живность не находит здесь корм и приют: бурундуки, дятлы, филины, грачи, гоголи, муравьи, осы… многоквартирный дом – ветла.
Уникальны ли вётлы Татарки? Подобные гиганты росли и близ села Зорино…
 - Подожгли, свели на нет зоринских долгожителей,
- с горечью рассказывал мне в Сузуне местный краевед Пётр Филиппович Пирожков.
– Один Генка Антошихин, пастух, не меньше сотни поджёг. Спалить старую ветлу
ни ума, ни труда не надо: поднёс спичку – и займётся труха.
- Подожгли, свели на нет зоринских долгожителей,
- с горечью рассказывал мне в Сузуне местный краевед Пётр Филиппович Пирожков.
– Один Генка Антошихин, пастух, не меньше сотни поджёг. Спалить старую ветлу
ни ума, ни труда не надо: поднёс спичку – и займётся труха.
Следы поджогов видели мы и вётлах Татарки. От некоторых уцелел один остов, нутро выгорело… неужели и здесь повториться зоринское варварство?
Вётлам Татарки нужна охрана. Памятники живой природы, возраст которых старожилы определяют более чем в два века, не должны погибнуть. Пусть к ним придёт естественная смерть. А когда это случится, на смену им заступят другие кряжи.
 Каждый раз не хочется прощаться с долгожителями
Оби, свидетелями времён от Пушкина до наших дней. Снова и снова поражаешься:
как смогли пережить они два века, одолеть все удары судьбы? Может здесь особый
плодородный ил, свой микроклимат? Думается, у деревьев, как у людей, - всё дело
в характере. Слабых ломает буря, разбивает молния, истачивает червь. А эти всё
выдержали, выстояли, сумели и в беде черпать силы. Примечал: в поражённые
истлевшие участки своего ствола ветла пускает новые корни…
Каждый раз не хочется прощаться с долгожителями
Оби, свидетелями времён от Пушкина до наших дней. Снова и снова поражаешься:
как смогли пережить они два века, одолеть все удары судьбы? Может здесь особый
плодородный ил, свой микроклимат? Думается, у деревьев, как у людей, - всё дело
в характере. Слабых ломает буря, разбивает молния, истачивает червь. А эти всё
выдержали, выстояли, сумели и в беде черпать силы. Примечал: в поражённые
истлевшие участки своего ствола ветла пускает новые корни…

![]()
БЕЛАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ
![]()
ВЕРНОСТЬ
Немногие старые люди знают, не все птицы, века живущие, помнят, как появилась эта птица на Тыме. Давно это было.
 Старики
рассказывают: там, где к великой реке Оби слева бегут притоки Васюган и
Парабель, лежит с давних пор болотная страна. Ни пешком, ни на лодке там не
пробраться летом. Только зимой на легких лыжах есть по той стороне пути. Люди
мало селились в таких местах. А там, где к Оби бежали притоки справа, по рекам
Тым и Кеть, начало берущим от самого Енисея – брата Оби, - лежит чудесная
страна. Чем выше подняться от устья Тыма вверх, веселей становится глазам
человека. Здесь нет мокрых гнилых болот, воды рек прозрачны, как капли дождя,
по сухой земле человек пройдёт всю страну вдоль и поперёк.
Старики
рассказывают: там, где к великой реке Оби слева бегут притоки Васюган и
Парабель, лежит с давних пор болотная страна. Ни пешком, ни на лодке там не
пробраться летом. Только зимой на легких лыжах есть по той стороне пути. Люди
мало селились в таких местах. А там, где к Оби бежали притоки справа, по рекам
Тым и Кеть, начало берущим от самого Енисея – брата Оби, - лежит чудесная
страна. Чем выше подняться от устья Тыма вверх, веселей становится глазам
человека. Здесь нет мокрых гнилых болот, воды рек прозрачны, как капли дождя,
по сухой земле человек пройдёт всю страну вдоль и поперёк.
Не все знают, когда здесь жил
лесной богатырь. Давно это было. Умерла у богатыря молодая жена, оставила ему
маленькую дочку. Богатырь так любил свою жену – не стал искать другую. А годы
бежали один за одним, выросла у него дочь красавица, вся в мать. Была она
смелая и быстрая на любую работу. Ходила с отцом на охоту, промышляла зверя и
птицу, делала самоловы, настораживала  их по звериным
тропам, добывала белку и медведя. Любил богатырь свою дочь, ничего для неё не
жалел. Были у неё меха, отливавшие серебром, соболиные шкуры темнее ночи,
одежды, бисером расшитые. Только сама она была прекраснее всего на свете. В
голубых глазах её будто утонуло синее небо, в косах словно играл лунный свет,
ноздри тонкого носа вздрагивали, как у чуткого лося, а щеки горели, как
весенняя заря. Девушка так быстро бегала на лыжах, что сам ветер задыхался, её
догоняя. Она лучше всех готовила сладкую пищу. Чисто было в её жилище. Всё
успевала делать красивая девушка, и была она весёлая, как летний день.
их по звериным
тропам, добывала белку и медведя. Любил богатырь свою дочь, ничего для неё не
жалел. Были у неё меха, отливавшие серебром, соболиные шкуры темнее ночи,
одежды, бисером расшитые. Только сама она была прекраснее всего на свете. В
голубых глазах её будто утонуло синее небо, в косах словно играл лунный свет,
ноздри тонкого носа вздрагивали, как у чуткого лося, а щеки горели, как
весенняя заря. Девушка так быстро бегала на лыжах, что сам ветер задыхался, её
догоняя. Она лучше всех готовила сладкую пищу. Чисто было в её жилище. Всё
успевала делать красивая девушка, и была она весёлая, как летний день.
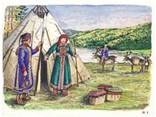 Но однажды девушка
стала грустной, и руки её делали всё не так, как всегда. Богатырь спросил ее:
Но однажды девушка
стала грустной, и руки её делали всё не так, как всегда. Богатырь спросил ее:
- Здорова ли ты, дочь? Не больна ли?
- Я здорова, отец, только не могу найти себе покоя. Приснился мне сон, никак не могу отогнать его прочь.
- Какой же сон ты видела? – захотел узнать богатырь - Как будто я видела его наяву, - ответила дочь. – К нашему жилищу шёл молодой высокий охотник. Он шёл через лес и болота, легко ступали его ноги, за плечами ладно висел лук. Глаза его горели, и волосы вились на ветру. Он шёл прямо ко мне и вдруг исчез. И теперь мне не хочется надевать соболиные меха, не хочу есть сладкой стерляди и вкусного мяса. Я никогда не была такой.
Отец улыбнулся в ответ и сказал:
- Не грусти, дочь, будет у нашего жилища охотник, который приснился тебе. Сердце твоё ищет друга. Это хорошее сердце.
В тот вечер позвал богатырь верного друга птицу – скопу. Сказал ей:
- Пролети над нашей страной, расскажи людям, что видела дочь во сне. Пусть услышит молодой охотник с горящими глазами, легко идущий через лес и болота. Пусть он придёт к нашему жилищу.
 Полетела скопа
рассказывать людям, как велел богатырь. На лёгких крыльях разнесла она весть по
прекрасной стране. Услышал о прекрасной девушке старый злой колдун. Был он
горбат и крив на один глаз. Трёх жён уморил злой колдун чёрной работой. Сам он
не ходил на охоту, не ловил рыбу, не рубил дрова для очага. Всё делали его жёны,
а колдун ел самую сладкую пищу и делал людям зло. Жил он по ту сторону реки, но
всюду поспевал на своих кривых ногах.
Полетела скопа
рассказывать людям, как велел богатырь. На лёгких крыльях разнесла она весть по
прекрасной стране. Услышал о прекрасной девушке старый злой колдун. Был он
горбат и крив на один глаз. Трёх жён уморил злой колдун чёрной работой. Сам он
не ходил на охоту, не ловил рыбу, не рубил дрова для очага. Всё делали его жёны,
а колдун ел самую сладкую пищу и делал людям зло. Жил он по ту сторону реки, но
всюду поспевал на своих кривых ногах.
Первым к жилищу богатыря приплыл он.
- Слыхал я, богатырь, твоя дочь ищет верного мужа. Всё у меня есть: и снасти ловить рыбу, и лук со стрелами, и лёгкие лодки; жилище моё украшено шкурами. Пусть идёт твоя дочь ко мне в жёны.
Тут услышал колдун звонкий смех, будто зажурчал чистый ручей. Это засмеялась дочь богатыря, услыхав слова колдуна. Она вышла вместе с отцом из чума. Старый богатырь сказал в ответ:
- Нам с тобой о смерти надо думать, старый человек. У молодых жизнь впереди. Моя дочь тебе не пара. Разве ты сам этого не видишь?
Зло рассмеялся колдун.
- Ты не знаешь моей силы. Я волшебством могу обратить себя в молодого.
- Что же ты не сделал этого раньше? – спросил богатырь. – Ты испугал мою дочь. Теперь, если ты даже уже уморил трёх жён, четвёртой у тебя не будет.
Колдун затрясся, подскочил, ударился о землю – хотел молодым стать, а стал еще горбатее и старее. Прыгнул он в лодку и закричал:
- Твоя дочь ждёт молодого охотника. Я сделаю так, что он никогда не дойдёт до твоего жилища. Покрою всю землю гнилыми болотами, он захлебнётся в первом.
 Тут услыхали
они весёлую песню. Молодой, сильный голос летел через всю тайгу и озёра. Это шёл
молодой охотник. Скопа принесла ему хорошую весть. Затрясся колдун, взмахнул
рукой в левую сторону, откуда слышался голос, и там опустилась земля и легло
гнилое болото. Взмахнул вправо колдун рукой – и там появилось болото. Но только
голос становился всё ближе и ближе. Молодой охотник шёл, как лось, по болотам,
не проваливаясь. Он подошёл к жилищу и сказал:
Тут услыхали
они весёлую песню. Молодой, сильный голос летел через всю тайгу и озёра. Это шёл
молодой охотник. Скопа принесла ему хорошую весть. Затрясся колдун, взмахнул
рукой в левую сторону, откуда слышался голос, и там опустилась земля и легло
гнилое болото. Взмахнул вправо колдун рукой – и там появилось болото. Но только
голос становился всё ближе и ближе. Молодой охотник шёл, как лось, по болотам,
не проваливаясь. Он подошёл к жилищу и сказал:
- Здравствуй, богатырь! Здравствуй, прекрасная девушка! Скопа принесла мне весть. Я нашёл вас. Здравствуй, дедушка! – сказал он, увидел колдуна. Он подошёл к девушке и взял её руку. – Я давно искал тебя. Ты моё счастье.
Тут колдун собрал все свои чары и закричал:
 - Ты не будешь
счастлив, ты перешёл мне дорогу, и за это я обращу тебя в птицу.
- Ты не будешь
счастлив, ты перешёл мне дорогу, и за это я обращу тебя в птицу.
Он так и сделал. На глазах у богатыря молодой, прекрасный охотник превратился в кулика. Он взлетел над жилищем и грустно закричал:
- Хорр-хорр!..
Девушка закричала от горя:
- Обрати, злой колдун, и меня в птицу.
 Колдун так и
сделал. И две птицы заметались над жилищем. Не стерпел богатырь – выхватил меч
и разрубил злого колдуна пополам…
Колдун так и
сделал. И две птицы заметались над жилищем. Не стерпел богатырь – выхватил меч
и разрубил злого колдуна пополам…
Давно умер старый богатырь, опустело его жилище. А птицы, не жившие раньше на Тыме, летают на утренней и вечерней заре и зовут друг друга.
В далёкое время, за много, много лет до нас, жили на земле богатыри. Были добрые богатыри, были и злые. Злые на людей нападали, города грабили, войны начинали. А добрые – людей от плохих богатырей защищали.
Жил тогда на Тыме Лесной богатырь. Сильный был. Одной рукой останавливал на бегу лося. Двумя руками медведя, как головёшку через тайгу перебрасывал. И никогда никому он не делал плохого. Ростом он был выше кедра, голубые глаза его светились, как звёзды, а волосы вились кудрями.
Когда шёл по лесам богатырь, земля тихонько дрожала.
Был у него меч золочёный и стрелы к луку калёные, да конь богатырский, верный. Никого не боялся богатырь.
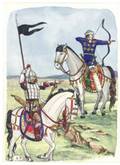 Но вот как-то в лунную ночь на родной город
Лесного богатыря налетели злые богатыри с большой реки.
Но вот как-то в лунную ночь на родной город
Лесного богатыря налетели злые богатыри с большой реки.
Было их много. Убивали они лесных людей. Лесной богатырь стал их защищать. Долго рубился смелый великан. Всех злых богатырей побил, но и его поранили враги.
Когда кончился бой, вокруг города ни одного дерева не осталось. С корнями вырывали их в драке богатыри. Крушили ими друг друга. Ушёл к дальнему лесу, истекая кровью, Лесной богатырь. Он победил всех врагов, и сам лёг без сил под кедром на поляне. Плохо ему было, и душа его прощалась с телом.
Так пролежал он ночь, греясь теплом земли.
Он не слышал, как по лесу шла лёгкими шагами оленя прекрасная девушка – Дочь Земли. Она вышла в лес за сухими дровами для очага и увидела на листьях травы капли крови.
Кровь была ярко-красной и горела в свете дня, как дорогие камни.
Девушка подумала: «Видно, эту кровь пролили честный человек, за хорошее дело. У злых людей чёрная, плохая кровь».
Девушка стала собирать в ладони капельки свежей крови.
Так шла она по лесным полянам и тропам, собирая яркие капли. Она не заметила, как набрала их полные пригоршни, как пришла на поляну к большому кедру, где лежал умирающий богатырь.
Лицо его было словно освещено лунным светом. Глаза полузакрылись и не горели, как прежде. Он ещё сжимал руками золочёный меч, но у него уже не было сил.
Девушка наклонилась над ним, рукой прикоснулась к ранам. И от этого Лесной богатырь открыл глаза. Он увидел ясное лицо, глаза синие, как небо, две русых косы. Красавица была Дочь Земли. Девушка хотела вылить на раны горячие капли крови, но капельки в её ладонях превратились вдруг в драгоценные камни.
Богатырь рукой своей стал те камни на нитку нанизывать. Волшебное ожерелье из них сделал. Девушке на шею надел. Сказал ей: «Теперь ты волшебную силу имеешь. Тронешь рукой ожерелье, никто тебя не обидит.
Чего захочешь – исполнится. Из чистой крови эти камни, и сила в них справедливая. Скажи, чего ты хочешь, Дочь Земли?»
Взглянула на богатыря девушка синими глазами, забилось у него сердце быстрее.
- Чего ты хочешь, то исполнится. Богатой захочешь быть – станешь. Крылья захочешь иметь – в птицу превратишься, к берегу моря полетишь. Рукой тронь ожерелье и скажи только.
Дочь Земли зарумянилась вся, сказала в ответ:
- Хочу, чтобы раны твои, богатырь, закрылись. Чтобы стал ты опять могучим.
Вздохнул богатырь.
- Тут не поможет твоё ожерелье. Надо достать живой воды. Она вытекает чистыми ручьями далеко-далеко отсюда, за тёмным лесом, за глубокими реками. Семь раз поливать надо раны живой водой. Тогда стану я сильнее, чем прежде. Ты не сумеешь принести живую воду.
- Я трону своё ожерелье, - сказала девушка. – Стану ласточкой быстрокрылой. Промчусь за леса и за реки. Принесу живой воды. Вылечу твои раны.
Она так и сделала. Тронула рукой ожерелье. Сказала: «Сделай меня ласточкой».
Увидел богатырь, как в небе мелькнули сизые крылья, и он остался один.
Вечер настал. Услышал он снова быстрокрылый полёт – и перед ним встала Дочь Земли. В руках она держала два берестяных туеса с живой водой.
 Семь раз поливала она раны живой водой.
Семь раз поливала она раны живой водой.
 Вздохнул богатырь могучей грудью. Голову поднял, на
ноги встал. Поклонился он Дочери Земли.
Вздохнул богатырь могучей грудью. Голову поднял, на
ноги встал. Поклонился он Дочери Земли.
- Спасибо, девушка, - сказал. – Можешь ты другом стать на всю жизнь? Полюбилась ты мне добротой своей.
- И ты мне тоже, могучий богатырь, полюбился с первого взгляда.
- Пойдём вместе, - сказал богатырь.
Затуманилось лицо девушки, заплакала она.
- Не могу я с тобой идти. Моя госпожа – Дочь Солнца – не отпустит меня никуда. Скоро утро, и она станет искать меня. Прощай, богатырь. Я найду тебя завтра, когда Дочь Солнца уйдёт на покой.
Она лёгкими шагами оленя ушла к востоку, где разгоралась заря.
 Больно было сердцу богатыря, сильно билось оно.
Больно было сердцу богатыря, сильно билось оно.
Лёг Лесной богатырь на землю, чтобы набраться силы от неё.
А заря разгоралась сильней и сильней. Небо пылало, как пламя большого костра, пока само солнце не показалось над лесом. Когда оно поднялось выше и взглянуло на землю, от него на лёгком облачке опустилась вниз вся в золотом сиянии белокурая девушка. Она светилась солнечными лучами. Это была Дочь Солнца. Она прилетела на ту поляну, где спал Лесной богатырь.
Дочь Солнца взглянула на него.
Она увидела золотые кудри, широкую грудь и сильную руку, сжимающую меч.
И Дочь Солнца полюбила могучего богатыря. Она склонилась к нему. Богатырь открыл глаза и увидел солнечную девушку.
- Откуда ты, прекрасный богатырь? – спросила Дочь Солнца. – Поднимайся, полетим с тобой к моему отцу – Солнцу. Я покажу тебя ему. Я скажу, что полюбила земного богатыря.
Богатырь поднялся и поглядел на Дочь Солнца. Она была прекрасна, но она звала в небо, и он сказал:
- Ты прекрасна, Дочь Солнца, но я не могу покинуть землю. Я люблю земную девушку. Она спасла мне жизнь.
- Кто она? – спросила Дочь Солнца.
- Девушка – Дочь Земли, - ответил богатырь.
 Дочь Солнца вспыхнула гневом. Её небесные глаза
метнули молнии. Дочь Солнца с маленьких лет привыкла к тому, что люди кланялись
солнцу. Они любили солнце, как источник тепла и света. Оно согревало их, давало
жизнь растениям и птицам, людям и зверям. И Дочь Солнца считала, что люди
кланяются и ей. Но сама она ничего не дарила им – ни тепла, ни света. Всю жизнь
она сияла лучами своего отца, но хотела, чтобы её тоже слушались и поклонялись
ей.
Дочь Солнца вспыхнула гневом. Её небесные глаза
метнули молнии. Дочь Солнца с маленьких лет привыкла к тому, что люди кланялись
солнцу. Они любили солнце, как источник тепла и света. Оно согревало их, давало
жизнь растениям и птицам, людям и зверям. И Дочь Солнца считала, что люди
кланяются и ей. Но сама она ничего не дарила им – ни тепла, ни света. Всю жизнь
она сияла лучами своего отца, но хотела, чтобы её тоже слушались и поклонялись
ей.
- Ты оттолкнул Дочь Солнца, гордый богатырь, - сказала она, - я уничтожу Дочь Земли, мою служанку.
Богатырь засмеялся так, что вздрогнули кедры.
- Ты не сможешь этого сделать. Её охраняет любовь и волшебное ожерелье из капель чистой крови.
И Дочь Солнца, как она ни сердилась, не могла сделать зла Дочери Земли.
Дочь Солнца хотела обжечь девушку жаркими лучами, но они летели мимо неё. Молнии изгибались на лету, не задевая Дочери Земли. А когда настала ночь и Дочь Солнца вместе с отцом ушли на покой за синий полог заката, Дочь Земли пришла к богатырю, и они решили бежать к морю. Там Дочь Солнца не могла причинить им зла.
Богатырь позвал своего верного коня, вскочил на него, взял на руки Дочь Земли, и они помчались через тайгу и долины, через быстрые реки к берегу моря.
Утром Дочь Солнца снова прилетела на лесную поляну. Но там стояли только высокие кедры. Они не сказали, куда умчался богатырь.
Дочь Солнца увидела следы копыт коня, она догадалась, куда уехал богатырь и Дочь Земли.
Ударилась о землю Дочь Солнца, прикинулась лебёдкой, поднялась высоко- высоко, в чистое небо.
С высоты поглядела на землю. Увидела далеко-далеко в тайге, за озёрами, за быстрыми реками – скачет вороной конь, уносит на берег моря богатыря с Дочерью Земли.
Взмахнула Дочь Солнца большими крыльями, полетела в погоню.
Конь богатырский мчится быстро, ещё быстрей летит птица.
Богатырь с Дочерью Земли догадались, какая это птица летит.
Богатырь о себе не думает – Дочь Земли оберегает. И волшебное ожерелье бережёт. Крепко держит девушку. Из рук не выпускает.
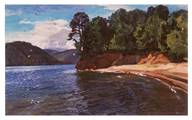 Догнала лебёдка коня, летит над ними, а сделать
ничего не может.
Догнала лебёдка коня, летит над ними, а сделать
ничего не может.
Скачет вольный конь богатырский по густому лесу. Не отстаёт от него лебедь. Все гуще тайга становится, последняя полоса её начинается. А там за тайгой – чистый песчаный берег. И само море ушло далеко-далеко от глаз большой водой.
Скачет конь по берегу реки, и вот уже скоро богатырь и Дочь Земли уйдут от погони. Вдруг лёг на пути у коня высокий обрыв. На всем скаку взвился конь на задних ногах, повернул к лесу. Не успели пригнуться к шее коня Лесной богатырь с Дочерью Земли. Кедры широко ветви раскинули. Встрепенулось на груди девушки волшебное ожерелье. На всём лету зацепилось оно за ветку. Порвалась нитка – и рассыпались драгоценные камни из чистой крови. Порвалось волшебное ожерелье. Только два камня удержалось. Один на голове Дочери Земли зацепился за косу, другой в гриве вороного коня богатырского запутался. На самого Лесного богатыря не попало ни одного камня.
 На всём скаку рухнул с коня вниз богатырь. Ударился
он о землю на берегу большой реки и стал могучим высоким утёсом.
На всём скаку рухнул с коня вниз богатырь. Ударился
он о землю на берегу большой реки и стал могучим высоким утёсом.
Взмыла лебедь – Дочь Солнца – высоко к небу и в ярости закричала.
Но Дочь Земли не напрасно говорила заветное слово любви богатырю. Она вырвала из своих кос камень волшебного ожерелья. Сверкнул он в воздухе последний раз каплей чистой богатырской крови.
- Не хочу жить без любимого. Буду ему верной навеки! – крикнула громко Дочь Земли.
Она упала и, ударившись о землю, стала рядом с утесом-богатырем, таким же, как он, утесом.
И верный конь, вороной конь богатыря, повернулся на лету. Встряхнул могучей гривой и обронил на землю волшебный камень. И третьим утёсом, немного подальше к морю, стал вороной конь.
…Верность тверда, как утёс, её не тронут ни ветры, ни волны, ни гром, ни молния.
…А коварная Дочь Солнца долго летала над утёсами и всё кричала от ярости. Она кружилась над утёсами верности, но никто не ответил на её крик.
Она так и осталась одинокой на всю жизнь. А утёсы стоят и поныне над большой рекой, напоминая людям о верности и любви.
Жил в одном ауле старик с двумя сыновьями. Пришла старику пора помирать. Позвал он сыновей и говорит:
– Мои дорогие дети, я оставляю вам наследство. Но не наследством вы будете богаты. Дороже денег, дороже добра – три совета. Будете их помнить – проживёте в достатке всю жизнь. Вот мои советы, запоминайте. Первыми никому не кланяйтесь – пусть другие вам кланяются. Всякую еду ешьте с мёдом. Спите всегда на пуховиках.
Старик умер.
Сыновья забыли о его советах и давай жить в своё удовольствие – пить да гулять, много есть и долго спать. В первый год все отцовы деньги прожили, на другой год – всю скотину. На третий год продали всё, что было в доме. Нечего стало есть. Старший брат говорит:
– А ведь отец кроме наследства оставил нам три совета. Он сказал, что с ними мы проживём в достатке всю жизнь.
Младший брат смеётся:
 – Я помню эти советы, – но чего они стоят? Отец
сказал: "Первыми никому не кланяйтесь – пусть другие вам кланяются".
Для этого надо быть богатым, а нынче бедней нас во всей округе никого не
сыщешь. Он сказал: "Всякую еду ешьте с мёдом". Слышишь, с мёдом! Да у
нас чёрствой лепёшки нет, не то что мёду! Он сказал: "Спите всегда на
пуховиках". Хорошо бы на пуховиках. А наш дом пуст, не осталось и старой
кошмы (войлочной подстилки).
– Я помню эти советы, – но чего они стоят? Отец
сказал: "Первыми никому не кланяйтесь – пусть другие вам кланяются".
Для этого надо быть богатым, а нынче бедней нас во всей округе никого не
сыщешь. Он сказал: "Всякую еду ешьте с мёдом". Слышишь, с мёдом! Да у
нас чёрствой лепёшки нет, не то что мёду! Он сказал: "Спите всегда на
пуховиках". Хорошо бы на пуховиках. А наш дом пуст, не осталось и старой
кошмы (войлочной подстилки).
Старший брат долго думал, а потом сказал:
– Ты зря смеёшься, брат. Не поняли мы тогда наставлений отца. А в словах его – мудрость. Он хотел, чтобы мы первыми, чуть свет, приходили работать в поле, и тогда всякий, кто пройдёт мимо, первым будет с нами здороваться. Когда хорошо поработаешь целый день и вернёшься домой усталый и голодный, даже чёрствая лепёшка покажется тебе слаще мёда. Тогда и любая постель покажется тебе желанной и приятной, спать будешь сладко, как на пуховике.
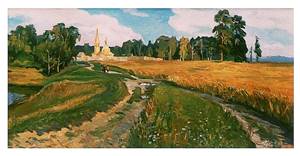 На другой день чуть свет братья пошли в поле. Пришли
раньше всех. Идут люди на работу – первыми с ними здороваются, желают доброго
дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разгибали, а вечером лепёшка с
чаем показалась им слаще мёда. Потом они заснули на полу и спали как на
пуховиках.
На другой день чуть свет братья пошли в поле. Пришли
раньше всех. Идут люди на работу – первыми с ними здороваются, желают доброго
дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разгибали, а вечером лепёшка с
чаем показалась им слаще мёда. Потом они заснули на полу и спали как на
пуховиках.
Так они работали каждый день, а осенью собрали хороший урожай и снова зажили в достатке, вернулось к ним уважение соседей.
Часто вспоминали они о мудрых советах отца.
![]()
![]()
КУКУШКА
В старину было на небе два солнца. И на земле всегда был белый день. Вот тогда кукушку считали первой певуньей.
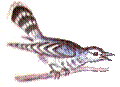 Сядет кукушка на ветку. Голову гордо поднимет,
хвост расправит, поёт. На всю тайгу разливается. Птицы и звери слушают. Хвалят
кукушку.
Сядет кукушка на ветку. Голову гордо поднимет,
хвост расправит, поёт. На всю тайгу разливается. Птицы и звери слушают. Хвалят
кукушку.
 Пришла птицам пора яички откладывать, птенцов
выводить. Птицы заторопились. Таскают мох, траву, ветки. Вьют новые гнёзда.
Готовят теплую постель.
Пришла птицам пора яички откладывать, птенцов
выводить. Птицы заторопились. Таскают мох, траву, ветки. Вьют новые гнёзда.
Готовят теплую постель.
Только кукушка ещё больше важничает. Смеётся над птицами. Песнями по тайге разливается.
Собрались птицы, говорят:
- Как певунья наша жить будет? Как род свой сохранит?..
Услыхала кукушка птичьи речи. Ещё пуще смеётся:
- Вот глупые!.. Неужто думаете заставить меня гнездо вить? Птенцов высиживать?
Птицы сказали:
- Худая голова у этой птицы. Ума в ней меньше, чем у мухи.
Разлетелись птицы по своим гнёздам. А кукушка по-прежнему смеётся. Песни на всю тайгу поет.
 Пришла пора кукушке яички откладывать. А
гнезда-то у неё нет. Полетела она к озеру. Видит: между кочек, в камышах утка
на яйцах сидит, высиживает. Кукушка ей говорит:
Пришла пора кукушке яички откладывать. А
гнезда-то у неё нет. Полетела она к озеру. Видит: между кочек, в камышах утка
на яйцах сидит, высиживает. Кукушка ей говорит:
- Эх, милая, сидишь голодная. Слетай покормись. Я твои яички охранять буду…
Утка послушалась. Подлетела кукушка, одно яичко из утиного гнезда выкинула, а своё положила. Вернулась утка, села на яички. Кукушка улетела. Прилетела в поле. Видит куропатка в траве на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:
- Эко, милая, сидишь голодная. Слетай покормись. Я твои яички охранять стану. Послушалась куропатка, полетела. Кукушка одно яичко из гнезда выбросила, своё положила. Куропатка прилетела. На яички села.
 Прилетела кукушка к сухой осине. На ней большое
гнездо. Ворона на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:
Прилетела кукушка к сухой осине. На ней большое
гнездо. Ворона на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:
- Эх, милая, сидишь голодная. Слетай покормись. Я твои яички охранять буду… и ворона послушалась, полетела. А кукушка одно яичко из вороньего гнезда выбросила. Свое положила. Ворона прилетела, села на яички.
Утка крякает:
- Кря-кря. Эх вы, мои желтоносые… идёмте к озеру. Плавать, нырять будем!..
Птенцы за ней бегут, крякают. Пришли все к озеру. Утка нырнула – поплыла. Птенцы нырнули – поплыли. Один птенец по берегу бегает. Крылышками хлопает. Воды боится. Утка кричит, сердится:
- Ты чужой! Я тебя утоплю! Плывет утка к берегу, птенца того утопить хочет.
Подлетает кукушка. Птенца с собой берёт.
 Куропатка детей по траве ведёт, пикает:
Куропатка детей по траве ведёт, пикает:
- Пи-пи! Эх вы, мои быстроногие… Пойдёмте, по траве побегаем!.. Птенцы бегут за ней, пикают. Один птенец сидит. Крылышками хлопает – на ветку взлететь хочет. Куропатка кричит, сердится:
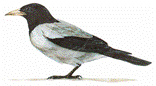 - Ты чужой! Я тебя насмерть заклюю!.. Бежит
куропатка – птенца того заклевать. Прилетает кукушка. Птенца с собой берёт.
- Ты чужой! Я тебя насмерть заклюю!.. Бежит
куропатка – птенца того заклевать. Прилетает кукушка. Птенца с собой берёт.
Ворона детьми хвалится, каркает:
- Кар-кар-кар! Эх вы, мои чёрненькие…
Смотрит, один птенец не чёрненький. Ворона кричит, сердится:
- Ты чужой! Я тебя насмерть заклюю!.. Ворона клюв разинула, птенца заклевать хочет. Прилетела кукушка. Птенца с собой взяла.
Собрались кукушкины дети. Кукушка хвалится:
- Эх, мои детки! Все вы в меня, красавицу, певунью, уродились… Пусть птицы завидуют!..
Прилетели птицы пение кукушкиных детей слушать. Кукушка своих детей учит:
- Спойте, мои детки, как я пою… Птенец, которого утка вывела, крылышками захлопал, клюв открыл: - Кря!.. Кря!..
 Птицы засмеялись. Кукушка опечалилась. Птенец,
которого куропатка вывела, крылышками захлопал, запищал: - Пи-пи-пи!..
Птицы засмеялись. Кукушка опечалилась. Птенец,
которого куропатка вывела, крылышками захлопал, запищал: - Пи-пи-пи!..
 Птицы опять засмеялись. Кукушка ещё больше
опечалилась. Смотрит на последнего птенца. На него надеется. Птенец, которого
ворона вывела, крылышками захлопал, открыл клюв: - Кар! Кар!
Птицы опять засмеялись. Кукушка ещё больше
опечалилась. Смотрит на последнего птенца. На него надеется. Птенец, которого
ворона вывела, крылышками захлопал, открыл клюв: - Кар! Кар!
Птицы смеются, над кукушкой потешаются. А она от горя плачет. Птенцам своим говорит, а сама плачет. Слезы на траву капают. Смотрит, дети от нее полетели. Один к утке. Другой к куропатке. Третий к вороне.
От такого несчастья у кукушки горло перехватило. Взлетела она на куст. Клюв открыла. От горя и слёз заикается: - Ку-ку! Ку-ку!
И стала кукушка вечной заикой, печальной кукушкой. Это она о детях печалится. О них стонет, жалобно кукует…

 Жила в тайге на дереве серая птичка. Звали её
снегирь. А под деревом жила мышка. Мышка всё лето хлопотала. Собирала себе корм
на зиму. А птичка только пела да летала.
Жила в тайге на дереве серая птичка. Звали её
снегирь. А под деревом жила мышка. Мышка всё лето хлопотала. Собирала себе корм
на зиму. А птичка только пела да летала.
Пришла холодная зима. Мышка забралась в норку. А птичка осталась на дереве. Мышке было тепло, сытно. А снегирю холодно, голодно.
Однажды выглянула мышка из норки. Увидала снегиря, спрашивает:
- Холодно?
- Холодно, - отвечает снегирь. – Плохо одному. Давай, мышка, вместе жить. Сначала у тебя поживём, потом у меня.
 Согласилась мышка. Привела снегиря к себе в
норку. Накормила. Стали вместе жить. У мышки было тепло. Корму много. Живёт
снегирь хорошо. Ест вдоволь.
Согласилась мышка. Привела снегиря к себе в
норку. Накормила. Стали вместе жить. У мышки было тепло. Корму много. Живёт
снегирь хорошо. Ест вдоволь.
Так прозимовали.
Пришла весна. У мышки запасы кончились. Говорит она:
- Снегирь, уговор помнишь?
- Помню, - отвечает снегирь.
- Пойдём теперь к тебе жить. Твой корм будем есть.
Нечего делать, согласился снегирь. Выскочил из норки, взлетел на дерево. А мышка внизу осталась. Снегирь говорит:
- Я тебе корм отсюда кидать буду.
 А корма-то у него и не было. Начал снегирь с
дерева смолу собирать да мышке бросать. Ест мышка смолу, весь рот залепила.
Рассердилась. Зовёт снегиря:
А корма-то у него и не было. Начал снегирь с
дерева смолу собирать да мышке бросать. Ест мышка смолу, весь рот залепила.
Рассердилась. Зовёт снегиря:
- Снегирь, иди сюда. Я тебе что-то скажу.
Подлетел снегирь к мышке. Она как царапнет его по груди. У снегиря кровь пошла. Грудка покраснела.
Вот почему у снегиря грудь стала красной.
![]()
![]()

ПЕРВАЯ КУКУШКА
Про кукушек так рассказывают. Старики вспоминают.
 Жила когда-то бедная Женщина. Мужа её медведь
погубил, осталась она одна с тремя детьми.
Жила когда-то бедная Женщина. Мужа её медведь
погубил, осталась она одна с тремя детьми.
Дети росли непослушными, работать не любили. Пять раз им мать скажет, а они на шестой ничего не сделают. Бегают, играют, всю одежду поизорвут на себе, повымочат – опять матери забота…
Трудно они зимовали. Совсем мать к весне ослабела. Весна пришла, рыбу пошли на реке ловить. Простудилась мать, слегла, заболела. Огнём горит, пить просит:
- Детушки, воды мне принесите!
 Не слышат дети, бегают вокруг юрты, друг друга
догоняют, смеются.
Не слышат дети, бегают вокруг юрты, друг друга
догоняют, смеются.
И второй раз мать позвала их, и третий. Не слышат. А потом проголодались, заглянули в дом, видят: мать их весёлку вместо хвоста приладила, крылышки из старых перьев смастерила, лететь собралась.
- Ху-гу, ху-гу! – плачет она. – Улетаю… Улетаю…
Испугались дети:
- Мама, не улетай! Мама, мы сейчас принесём тебе воды!
Но поздно. Взлетела мать над юртой, прокричала:
- Ху-гу! Ху-гу! Из реки теперь пить буду, из озера.
 Побежали дети за ней, плачут:
Побежали дети за ней, плачут:
- На, возьми водички! На, мама, водички!
И до сиз пор дети, как увидят Кукушку, воды ей предлагают. Да не может она снова в Женщину превратиться, потому и не вьёт себе гнеда, потому и не растит своих детей – боится, что снова они её в беде оставят.
![]()
![]()
ОТЧЕГО У ЗАЙЦА ДЛИННЫЕ УШИ
 Когда появились в лесу звери, был у них
самым старшим большой зверь – лось. Однажды лось с женой своей на лесной поляне
разговаривал. Заяц мимо бежал, разговор их услышал, остановился. Думает:
«Послушаю-ка я, о чём они говорят». Подкрался поближе, спрятался за пенёк,
слушает.
Когда появились в лесу звери, был у них
самым старшим большой зверь – лось. Однажды лось с женой своей на лесной поляне
разговаривал. Заяц мимо бежал, разговор их услышал, остановился. Думает:
«Послушаю-ка я, о чём они говорят». Подкрался поближе, спрятался за пенёк,
слушает.
- Вот, - говорит лось, - есть у меня рога, которые должен я раздать зверям. Но зверей много, а рогов мало. Кому же их дать?
Слушает заяц, думает: «А не плохо бы мне рога получить. Чем я хуже других?»
- Вот кому эти рога дать? – спрашивает жену.
Только хотел заяц рот открыть, а лосиха уже отвечает:
- Эти оленю дай. Защищаться ими будет.
- Ну, хорошо, - говорит лось. – А вот эти, большие, кому?
Только хотела лосиха ответить, а заяц не вытерпел, высунулся из-за пенька и закричал:
 - Эти мне, зайцу, дай, большой лось!
- Эти мне, зайцу, дай, большой лось!
- Что ты, братец, - говорит лось. – Куда тебе такие рога? Что ты с ними будешь делать?
- Как куда? Мне рога очень нужны, - говорит заяц. – Я всех своих врагов буду в страхе держать, все будут меня бояться.
- Ну что ж: бери! – сказал лось и дал зайцу рога.
 Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал, и вдруг
с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц от
испуга и ну – бежать. Да не тут-то было! Запутался рогами в кустах, выпутаться
не может и визжит от страха.
Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал, и вдруг
с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц от
испуга и ну – бежать. Да не тут-то было! Запутался рогами в кустах, выпутаться
не может и визжит от страха.
А лось с лосихой хохочут, заливаются.
- Нет, брат, - говорит лось. – Ты, я вижу, трусишка, а трусу и самые длинные рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши.
Так и остался заяц без рогов, а уши у него выросли длинные-предлинные.
![]()
 ХАКАСЫ
ХАКАСЫ
Хакасы (самоназвание тадар) – коренное население Республики Хакасия. Проживают также в Тыве, Красноярском крае. Говорят на хакасском языке тюркской группы алтайской семьи. Письменность на основе русской графики. Большая часть хакасов придерживается традиционных верований.
Ближе всего к хакасам по происхождению чулымцы. В 1920-е годы было решено записать коренное население Чулыма хакасами, поскольку они являлись наиболее близким по языку и культуре народом (хотя сам народ не считает себя хакасами). Но до сих пор чулымские тюрки официально (по документам и в паспортах) именуются хакасами.
![]()
ЛЯГУШКА И ЖУРАВЛЬ
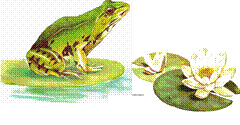 |
Шла однажды Лягушка к себе домой и устала.
Ноги у неё заболели, проголодалась она.
Совсем из сил выбилась и тут Журавля
увидела, он вкусную пищу ел. Не выдержала Лягушка, жалобно попросила:
- Дай мне, Журавль, твоей еды попробовать. Я тебя никогда не забуду.
- Ешь, сколько хочешь, - Журавль отвечает. Он добрый был.
 Съела Лягушка всё, что у
Журавля было. Смотрит Журавль: у Лягушки на ногах живого места нет, одни косточки
остались. Пожалел он её:
Съела Лягушка всё, что у
Журавля было. Смотрит Журавль: у Лягушки на ногах живого места нет, одни косточки
остались. Пожалел он её:
 - Где это тебе так
досталось?
- Где это тебе так
досталось?
- И не говори! Вытащила я Муравья из воды, он меня в гости позвал. Пошла я к нему, а на меня как накинется весь муравейник, как начали кусать. Еле спаслась. Видишь, что с моими ногами. Вот так они мне за добро отплатили. Я не такая. Пойдём ко мне, я тебя хорошо угощу.
И повела Лягушка Журавля к себе. Добрались они до болота, Лягушка и говорит:
- Оглянись-ка, Журавль. Кто-то идёт, однако.
 Журавль обернулся, а Лягушка бултых в воду, и
след её простыл. Ждал-пождал Журавль, да так и не дождался. Вот, думает, какая
неблагодарная. Сама про Муравья рассказала, а чем она лучше его? Проклял он
Лягушку: «Быть тебе вечно с костлявыми ногами и никогда из болота не выходить».
Журавль обернулся, а Лягушка бултых в воду, и
след её простыл. Ждал-пождал Журавль, да так и не дождался. Вот, думает, какая
неблагодарная. Сама про Муравья рассказала, а чем она лучше его? Проклял он
Лягушку: «Быть тебе вечно с костлявыми ногами и никогда из болота не выходить».
С тех пор Лягушка живёт в болоте и боится Журавля. А Журавль обиду помнит, не может ей обмана простить. Стоит ему увидеть Лягушку, как тут же поймает её и съест. Муравьёв Лягушка тоже боится и на сухое место никогда не выходит.
![]()
 СЕЛЬКУПЫ
СЕЛЬКУПЫ

 Селькупы
(самоназвание селькуп, шолькуп). Живут в Красноселькупском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа и других районах Тюменской области, в
Каргасокском, Парабельском, Верхнекетском, Колпашевском районах Томской
области, небольшая группа в Туруханском районе Красноярского края.
Селькупы
(самоназвание селькуп, шолькуп). Живут в Красноселькупском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа и других районах Тюменской области, в
Каргасокском, Парабельском, Верхнекетском, Колпашевском районах Томской
области, небольшая группа в Туруханском районе Красноярского края.
Селькупы - древнейшие обитатели приобской тайги, называемой Нарымом - народ, изученный не до конца. Язык - самодийский, близкий к ненецкому и родственный угро-финским языкам. Распространён также русский язык. В культуре селькупов много архаичного и загадочного, некоторые её черты уводят далеко на юг, вплоть до Шумера. Таёжные рыболовы и охотники, селькупы знали земледелие, ткачество из конопли и крапивы, металлообработку, были прекрасными воинами.
![]()
БОГАТЫРЬ УНЯНЫ
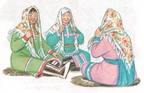
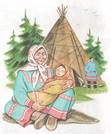 Жила
старушка с соседями. По вечерам играли, пели песни старинные. Молодёжь не
слушалась старушку, не верили ей. Старушка говорит: «Хватит играть по ночам,
кто-то летит к нам, птица какая-то, может съесть». Дети не верят ей, говорят,
что болтаешь? Продолжают играть по ночам. На следующий день она опять говорит:
«Девять дней осталось». Они не верят. На третьи сутки повторяется всё. Дети
продолжают играть. Потом опять она говорит: «Через семь дней прилетит и съест».
Остаётся шесть дней. Птица так близко, уже с шумом летит, слышно. Остаётся уже
четыре дня. Уже близко слышно. Дети всё играют. Осталось три дня, а дети не
угомонились. Два дня остаётся, старушка всё уговаривает.
Жила
старушка с соседями. По вечерам играли, пели песни старинные. Молодёжь не
слушалась старушку, не верили ей. Старушка говорит: «Хватит играть по ночам,
кто-то летит к нам, птица какая-то, может съесть». Дети не верят ей, говорят,
что болтаешь? Продолжают играть по ночам. На следующий день она опять говорит:
«Девять дней осталось». Они не верят. На третьи сутки повторяется всё. Дети
продолжают играть. Потом опять она говорит: «Через семь дней прилетит и съест».
Остаётся шесть дней. Птица так близко, уже с шумом летит, слышно. Остаётся уже
четыре дня. Уже близко слышно. Дети всё играют. Осталось три дня, а дети не
угомонились. Два дня остаётся, старушка всё уговаривает.

 Остался
один день. Прилетела птица, съела и детей, и весь род. Одна бабка накрылась
огромным котлом и осталась одна в живых. Скучно одной. Осень. Птицы полетели.
Сначала утки, потом гуси. Бабка нашла гусиное перо, положили в люльку, стала
качать. Пёрышко заплакало и превратилось в мальчика.
Остался
один день. Прилетела птица, съела и детей, и весь род. Одна бабка накрылась
огромным котлом и осталась одна в живых. Скучно одной. Осень. Птицы полетели.
Сначала утки, потом гуси. Бабка нашла гусиное перо, положили в люльку, стала
качать. Пёрышко заплакало и превратилось в мальчика.
Бабка его вырастила, тот спрашивает, где все люди. Бабка отвечает, что птица всех съела. Тогда он спрашивает, а были ли кузницы? Она говорит: «Были». – «А куда ты положила?» - «Запрятала». – «А была ли подкова или топор, чтобы перековать?» Она всё принесла, рассказала. Он говорит: «Скую железные крылья». Сделал. Поднялся, спрашивает: «На такой высоте летала птица?». Бабка говорит: «Нет, выше». Спустился в кузницу, перековал крылья. Опять поднялся. Уже выше. Спрашивает: «На такой высоте?» Уже еле слышно его, так высоко. Она отвечает: «Нет, выше». Снова перековал. В третий раз поднялся. Бабка говорит: «Вот теперь хорошо».

 Она
ему рассказала, куда птица улетела, он туда отправился. На первой стоянке жила
первая жена той птицы. Парень спрашивает: «Когда прилетит твой муж?» Она
говорит: «Зачем спрашиваешь его, он больше тебя, тебя победит». А Уняны, когда
на сучок садился, своими железными крыльями его обломил. И понял, что он
сильнее той птицы. Дальше полетел. На второй стоянке вторая жена живёт. Она
больше, чем первая знает. Тоже сел на огромное дерево, переломил сучок. Спрашивает:
«Когда прилетит домой муж?» Она отвечает: «Тебе ли спрашивать моего мужа, когда
он в несколько раз больше тебя». Полетел к третьей жене. А птица у неё живёт.
Уняны вызывает её биться. Птица отвечает: «Сильно низко летаешь, да и сам
маленький. Подожди, я сейчас поем, тогда». Уняны подождал. Опять вызывает: «Быстрее,
- говорит, - ешь». – «Подожди, одеваться буду». Пока тот одевался, Уняны опять
его торопит. Поднялись в воздух, птица говорит: «Полетим над озером, там будем
биться». Начали набирать высоту над озером. У птицы голова закружилась.
Говорит: «Сколько можно, давай здесь биться». Уняны разрезал железными крыльями
ей живот, все, кого она проглотила, оттуда посыпались. Искупались в озере,
снова живыми стали.
Она
ему рассказала, куда птица улетела, он туда отправился. На первой стоянке жила
первая жена той птицы. Парень спрашивает: «Когда прилетит твой муж?» Она
говорит: «Зачем спрашиваешь его, он больше тебя, тебя победит». А Уняны, когда
на сучок садился, своими железными крыльями его обломил. И понял, что он
сильнее той птицы. Дальше полетел. На второй стоянке вторая жена живёт. Она
больше, чем первая знает. Тоже сел на огромное дерево, переломил сучок. Спрашивает:
«Когда прилетит домой муж?» Она отвечает: «Тебе ли спрашивать моего мужа, когда
он в несколько раз больше тебя». Полетел к третьей жене. А птица у неё живёт.
Уняны вызывает её биться. Птица отвечает: «Сильно низко летаешь, да и сам
маленький. Подожди, я сейчас поем, тогда». Уняны подождал. Опять вызывает: «Быстрее,
- говорит, - ешь». – «Подожди, одеваться буду». Пока тот одевался, Уняны опять
его торопит. Поднялись в воздух, птица говорит: «Полетим над озером, там будем
биться». Начали набирать высоту над озером. У птицы голова закружилась.
Говорит: «Сколько можно, давай здесь биться». Уняны разрезал железными крыльями
ей живот, все, кого она проглотила, оттуда посыпались. Искупались в озере,
снова живыми стали.
 Остались ещё
два сына птицы, старший и младший. Старший говорит: «Подожди, сейчас я поем,
потом оденусь». У него тоже на крыльях железные пластины были. Над тем же
озером стали биться. Уняны и его убил, тоже вся его еда в озеро высыпалась.
Остались ещё
два сына птицы, старший и младший. Старший говорит: «Подожди, сейчас я поем,
потом оденусь». У него тоже на крыльях железные пластины были. Над тем же
озером стали биться. Уняны и его убил, тоже вся его еда в озеро высыпалась.
Младший сын птицы начал сначала есть, потом одеваться. Уняны его торопит. Поднялись в воздух. Сын говорит: «Сколько можно в высоту летать, давай здесь биться». Уняны размахнулся, но с первого раза не смог ему живот распороть. Снова стал высоту набирать. Со второго удара убил, кинул в озеро.
Тут всё и кончилось.
![]()
![]()
ЧАЙКИ И КРАСАВИЦА АНГАРА
 Подросла у седого Байкала дочь-красавица
Ангара. От чужих взглядов спрятал он её глубоко в своих водах, в стенах их
скал. Решил найти ей жениха поближе, чтобы не отпускать в дальние края. Очень
он любил дочку.
Подросла у седого Байкала дочь-красавица
Ангара. От чужих взглядов спрятал он её глубоко в своих водах, в стенах их
скал. Решил найти ей жениха поближе, чтобы не отпускать в дальние края. Очень
он любил дочку.
Выбрал Байкал в женихи соседа, богатого и знатного Иркута. Но не понравился Иркут Ангаре. А тут к ней чайка прилетела, сказала:
- Я в Саянских хребтах была, над Енисеем пролетала. Богатырь! Прорвал он горы Саянские, стремится к самому Ледовитому океану. Какой он сильный и смелый!
- Какие у него глаза? – спросила Ангара.
- Как изумруд-камень, как хвоя горного кедра под солнцем, - отвечает Чайка.
- Милая Чайка, - попросила Ангара, - Передай мой привет Енисею.
 Прилетела Чайка в Саяны к Богатырю, передала
привет красавицы. А Енисей уже слышал о чудесной дочке Байкала от брата своего
– вольного ветра. И полюбил он её на всю жизнь. Обрадовался Богатырь привету
голубоглазой Ангары и решил, во что бы то ни стало увидеться с ней. Наказал он
крылатой вестнице-Чайке:
Прилетела Чайка в Саяны к Богатырю, передала
привет красавицы. А Енисей уже слышал о чудесной дочке Байкала от брата своего
– вольного ветра. И полюбил он её на всю жизнь. Обрадовался Богатырь привету
голубоглазой Ангары и решил, во что бы то ни стало увидеться с ней. Наказал он
крылатой вестнице-Чайке:
- Передай красавице Ангаре: не согласится ли вместе со мной уйти на простор к Океану? Буду ждать ее до утра на Стрелке.
Чайка передала призыв Богатыря, и Ангара с радостью его приняла. Но как убежать от зорких глаз злого сторожа – Колдуна-ворона, которого суровый Байкал поставил у скалистой светлицы своей дочки?
 Выручили красавицу братцы и сестрички –
ручейки и речки. Они подмыли скалу – и вырвалась Ангара на свободу. На крыльях
ветра полетела к Стрелке, где ждал ее желанный Енисей. И Колдун-ворон не смог
помешать – заклевали его чайки.
Выручили красавицу братцы и сестрички –
ручейки и речки. Они подмыли скалу – и вырвалась Ангара на свободу. На крыльях
ветра полетела к Стрелке, где ждал ее желанный Енисей. И Колдун-ворон не смог
помешать – заклевали его чайки.
 Проснулся Байкал, да поздно было. В ярости
швырнул он огромный утёс, чтобы задержать беглянку. Но успела Ангара грудью
рассечь гранитные скалы и побежала дальше.
Проснулся Байкал, да поздно было. В ярости
швырнул он огромный утёс, чтобы задержать беглянку. Но успела Ангара грудью
рассечь гранитные скалы и побежала дальше.
Чайки показали ей верную дорогу к Стрелке.
Там, на Стрелке, с нетерпением поджидал Богатырь своенравную дочку Байкала. И там слились навечно их струи: голубая ангарская и зеленая енисейская. Вместе привольно понесли свои воды к могучему Океану Ангара и Енисей.
 ПТИЧКА - НОСОК КАК
СПИЧКА
ПТИЧКА - НОСОК КАК
СПИЧКА
Жил старик со старухой, жили они бедно. Старуха отправила своего старика рубить дрова. Вот он подходит к пню, и стал дрова рубить. Оттуда вылетает птичка - носок как спичка и спрашивает старика: «Чево тебе, дедушка, нужно»? Он говорит: «Дров». Она ему говорит: «Иди домой, завтра всё будет готово». Наутро они встают, дров у них полон двор. Утром встала старуха, опять посылает старика просить у птички хлеба. Старик опять так же приходит, стукнул о пенёк, оттуда вылетает птичка - носок как спичка и спрашивает, что ему нужно. Он ей опять говорит, что хлеба. Она опять отправила домой и сказала, что завтра всё будет готово. Старуха утром встала, пошла в амбар — амбар полон муки. Старуха тогда опять послала старика, чтобы он попросил птичку сделать её барыней, а его барином. На другой день послала старика к птичке, чтобы она сделала её царицей, а его – царём. Когда они проснулись, то увидели, что старуха сделалась кыской, а старик – кошаком. Оба голодные и мявкают.
П. Блиновский
ПОЭМА О ЕРМАКЕ
 Пролетают, как птица, века...
Пролетают, как птица, века...
В постепенно дряхлеющем мире
Рокового забвенья река
Разливается шире и шире...
Только ведом Ермак-богатырь,
Храбрый выходец с Тихого Дона,
Что принёс, как подарок, Сибирь
Для московского царского трона.
Но Ермак, удалец, исполин.
Не сумел покорить бы народы,
Если б не было стойких дружин
Под рукой казака-воеводы.
То река, то таёжный поток –
Им не надобно лучшей дороги,
И идут казаки на восток.
Там и тут воздвигая остроги.
Не сдаётся казак до конца
 Сильной устали, сильной истоме...
Сильной устали, сильной истоме...
Вот уж зоркие очи донца
Видят ленту извилистой Томи.
Невелик эуштинский народ,
Невелики Тояна владенья;
Причиняют им много невзгод
Остяков и киргиз нападенья...
С превосходною силой мирясь
И спасая народ беззащитный,
Самолично отправился князь
На Москву, до царя, с челобитной.
За себя и за весь свой народ.
Обитавший над Томью-рекою,
Князь Тоян обещанье даёт –
Быть под мощною царской рукою...
С тем он просит Бориса-царя
На земле его выстроить крепость,
Чтоб соседей Москве покоря,
Усмирить и сдержать их свирепость.
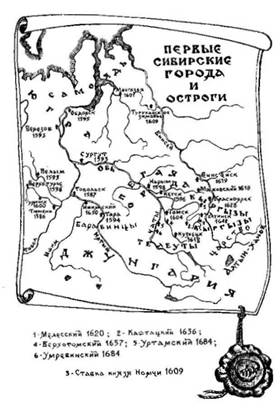 ***
***
Много лет пролетело с тех пор...
Вырос город на месте острога.
И когда-то кипевший здесь спор
Старина убаюкала строго.
Только дебри тайги вековой
Промелькнувших времен не забыли
И шумят беспокойно порой
Про седые минувшие были...
В. Антух
из цикла «Землепроходцы»

***
Был труден путь и долог,
Но шла наверняка
Через тагильский волок
Дружина Ермака.
В страну полночной тени,
Где нет дороги вспять,
Чтоб пали на колени
Юрга и самоядь.

Чтоб шёл в Сибирь купчина,
Осваивал страну.
И чтоб текла пушнина
В Московскую казну…
А следом шли от века
Напасти и нужда,
Но по таёжным рекам
Вставали города.
Встречь солнцу путь кончался.
Могуч и окаян,
У самых ног кончался
Великий Океан.
Георгий Вяткин
НАД ТОМЬЮ

Меж алых листьев Лагерного сада,
Меж старых заколоченных руин
И незабытых юностью беседок
Мы вновь и вновь выходим на обрыв.
Как высоко вознёсся он над Томью,
Какая даль, какая ширь кругом!
На сколько вёрст открыты жадным взорам
Луга и лес, и пятна деревень,
 И
колеи змеящихся дорог,
И
колеи змеящихся дорог,
Размытые недавними дождями…
Направо блещет зеркало протоки,
Налево, на желтеющих лугах,
Стоят стога, как маленькие дети,
Притихшие от холода и скуки…
А дальше, у излучины реки,
На чёрном бархате невянущего бора,
Под бледным, грустным солнцем сентября
Светло белеет церковь Басандайки…


стога
С. Казанцев
 ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В пределах Томской области отчётливо прослеживаются две зоны лесов: таёжная, включая и сосновые леса, и зона лиственных лесов, в которых преобладают осиново-берёзовые леса.
 Светлохвойные леса. Наиболее распространёнными в области являются сосновые леса. Большие площади они занимают в Александровском
районе, в бассейне Тыма, Кети, в верхнем течении Васюгана, на водоразделе между
Обью и Чулымом, а также Обью и Томью.
Светлохвойные леса. Наиболее распространёнными в области являются сосновые леса. Большие площади они занимают в Александровском
районе, в бассейне Тыма, Кети, в верхнем течении Васюгана, на водоразделе между
Обью и Чулымом, а также Обью и Томью.
 Обычно сосновые леса, в отличие темнохвойных,
принято называть борами. В северных районах на песчаных террасах преобладают
лишайниковые боры. Из всех боров они самые сухие и светлые. Лишайниковый покров
отличается светлой зеленовато-серой окраской. В сухую погоду лишайник хрустит
под ногами, во влажный дождливый день нога чувствует мягкие чуть упругие
подушечки.
Обычно сосновые леса, в отличие темнохвойных,
принято называть борами. В северных районах на песчаных террасах преобладают
лишайниковые боры. Из всех боров они самые сухие и светлые. Лишайниковый покров
отличается светлой зеленовато-серой окраской. В сухую погоду лишайник хрустит
под ногами, во влажный дождливый день нога чувствует мягкие чуть упругие
подушечки.
 Лиственные леса не имеют в Томской области широкого распространения и встречаются
небольшими островками на левобережье р. Чулыма в Асиновском районе. Одиночными
деревьями встречается лиственница в Тимирязевском массиве близ Томска, в бассейне Кети,
Тыма и Васюгана.
Лиственные леса не имеют в Томской области широкого распространения и встречаются
небольшими островками на левобережье р. Чулыма в Асиновском районе. Одиночными
деревьями встречается лиственница в Тимирязевском массиве близ Томска, в бассейне Кети,
Тыма и Васюгана.
 Темнохвойные леса. Под темнохвойными лесами обычно понимают тайгу. Её основными породами являются кедр, пихта и по долинам рек – ель.
Нередко все три породы находятся в одинаковом обилии, чаще же преобладают две
из них или одна. Поэтому можно в отдельных случаях говорить о пихтово-кедровой
тайге, о кедровых лесах, или кедровниках, пихтачах.
Темнохвойные леса. Под темнохвойными лесами обычно понимают тайгу. Её основными породами являются кедр, пихта и по долинам рек – ель.
Нередко все три породы находятся в одинаковом обилии, чаще же преобладают две
из них или одна. Поэтому можно в отдельных случаях говорить о пихтово-кедровой
тайге, о кедровых лесах, или кедровниках, пихтачах.
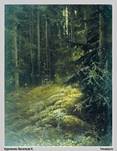 На значительных площадях тайга в той или иной
степени и в разное время страдала от пожаров. На месте гарей появлялись сначала
временные (вторичные) берёзовые и осиновые насаждения, сменяемые впоследствии
снова тайгой.
На значительных площадях тайга в той или иной
степени и в разное время страдала от пожаров. На месте гарей появлялись сначала
временные (вторичные) берёзовые и осиновые насаждения, сменяемые впоследствии
снова тайгой.
 Наиболее распространена зеленомошниковая тайга.
Сыро и мрачно в такой тайге даже в ясную погоду, глянешь вверх – и только
кое-где клочки неба увидишь.
Наиболее распространена зеленомошниковая тайга.
Сыро и мрачно в такой тайге даже в ясную погоду, глянешь вверх – и только
кое-где клочки неба увидишь.
Кедровые леса в Томской области занимают второе место по площади и
первое по своей хозяйственной ценности. Крупные массивы
кедровников-зеленомошников встречаются в Александровском, Каргасокском районах,
р. Тыма и р. Кети. На юге области наиболее крупные островные массивы находятся
в Томском и Кожевниковском районах. Отмечаются небольшие припоселковые
кедровники у населённых пунктов. Оставшиеся от  естественных насаждений или посеянные и оберегаемые
населением. Особенно хороши кедровники у сёл Зоркальцево, Протопопово,
Заварзино, Плотниково, Богашово.
естественных насаждений или посеянные и оберегаемые
населением. Особенно хороши кедровники у сёл Зоркальцево, Протопопово,
Заварзино, Плотниково, Богашово.
Пихтовые леса, занимающие площадь в три раза меньшую, чем кедровые, расположены главным образом в бассейне рек Чаи и Чулыма. Особенно крупные пихтачи с примесью кедра и ели встречаются в Тегульдетском районе.
![]() Ельники имеют ещё меньшее распространение в томской тайге и
встречаются отдельными островками по долинам рек. По Чулыму отмечены довольно
значительные массивы.
Ельники имеют ещё меньшее распространение в томской тайге и
встречаются отдельными островками по долинам рек. По Чулыму отмечены довольно
значительные массивы.
![]() Лиственные леса образуют свою зону растительности в сибирской тайге.
Это объясняется, как правило, особенностью восстановления тайги после пожаров и
сплошных вырубок – оно всегда проходит через стадию вторичных осиново-берёзовых
лесов. Причины этих явлений связаны с хозяйственной деятельностью человека
(вырубка значительных массивов леса, распашка земель, выпас скота и др.).
Лиственные леса образуют свою зону растительности в сибирской тайге.
Это объясняется, как правило, особенностью восстановления тайги после пожаров и
сплошных вырубок – оно всегда проходит через стадию вторичных осиново-берёзовых
лесов. Причины этих явлений связаны с хозяйственной деятельностью человека
(вырубка значительных массивов леса, распашка земель, выпас скота и др.).
![]()
![]()
![]()
кедр
![]()
![]()
![]()
берёза
сосна осина
ЕЛЬ – «Стройная и гордая»
![]()
Зелёная, пахучая красавица ель издавна считается особым деревом. Стройная и «гордая», эта представительница вечнозелёного царства хвойных служит украшением леса. Недаром древние германцы считали, что в ёлке живёт добрый дух леса, охраняющий все растения, оберегающий зверей и птиц. И потому в старину к ели приходили суровые вожди воинственных германских племён, чтобы молитвой и поклонением умилостивить великого духа, добиться его расположения.
![]() Обряд почитания ёлки у германцев заимствовали
голландцы, а потом англичане, которые чествовали её уже как символ неувядающей
жизни, вечной молодости и силы. Так появился обычай ставить в доме под Новый
год наряженную ёлку.
Обряд почитания ёлки у германцев заимствовали
голландцы, а потом англичане, которые чествовали её уже как символ неувядающей
жизни, вечной молодости и силы. Так появился обычай ставить в доме под Новый
год наряженную ёлку.
Но ель служит не только украшением новогоднего праздника. В хозяйственной практике ель – чуть ли не самое «ходовое» дерево, она даёт очень много ценного и полезного для человека… Смоляное полешко вспыхивает быстро (еловые щепочки – «смольё для растопок») и ярко даже в дождливую погоду и долго горит, легко разжигая сырые от дождя и лесной влаги дрова.
Теперь еловая смола – ценное для химической, лакокрасочной, мыловаренной и др. отраслей промышленности.
Кора елей идёт на приготовление дубителей для кожи, а древесина имеет широкое и самое разнообразное промышленное применение. Лёгкая и прочная она служит незаменимым материалом для изготовления крепёжной стойки в горняцком деле.
Некоторые сорта еловой древесины относятся к так называемой резонансной древесине. Из неё делают певучие и звучные скрипки, виолончели, пианино, мандолины и гитары.
Еловые леса требуют особой заботы. Ель малоустойчива против ветра. Ель обретает устойчивость только сросшись корнями друг с другом или с другими породами.
![]() Еловые леса действительно темны и мрачноваты.
Зато одиноко стоящая ель создаёт впечатление силы, гордого упорства, которое
придаёт ёлке готическая форма её кроны, как бы устремлённой ввысь.
Еловые леса действительно темны и мрачноваты.
Зато одиноко стоящая ель создаёт впечатление силы, гордого упорства, которое
придаёт ёлке готическая форма её кроны, как бы устремлённой ввысь.
Ель теневынослива и это помогает ей в жизни. На оголённых вырубках и пожарищах ель появляется только тогда, когда вырубку основательно обживут осина и берёза. Под их кронами совсем крошечные ёлочки чувствуют себя прекрасно.
КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА
![]()
Шишкин И.
![]()
25 августа 1698 г. царь Пётр вернулся из дальнего заграничного путешествия. В этом путешествии молодой властелин хотел поближе познакомиться с европейскими обычаями и заключить военный союз против Швеции. Петр поразил всю Европу своим нецарским поведением: он сам плотничал на корабельной верфи, всем интересовался и очень многим восхищался.
![]() Побывав в Европе, царь увидел, что Россия сильно отстала от европейских
государств. За границей царя поразили многочисленные заводы, прекрасные дороги,
первоклассное оружие, могучие армии. Пётр понял, что если Россия и дальше будет
отставать от Европы, то она может утратить даже свою независимость. И вот царь
решил научить русских всему, чего достигли другие народы. Конечно, больше всего
внимания и сил он уделял военному делу. В тяжёлой войне со Швецией родилась
новая русская армия и Балтийский флот.
Побывав в Европе, царь увидел, что Россия сильно отстала от европейских
государств. За границей царя поразили многочисленные заводы, прекрасные дороги,
первоклассное оружие, могучие армии. Пётр понял, что если Россия и дальше будет
отставать от Европы, то она может утратить даже свою независимость. И вот царь
решил научить русских всему, чего достигли другие народы. Конечно, больше всего
внимания и сил он уделял военному делу. В тяжёлой войне со Швецией родилась
новая русская армия и Балтийский флот.
Пётр освоил 15 профессий, в том числе: плотника, столяра, слесаря, кузнеца, фельдшера, переводчика, бухгалтера, картографа, штурмана, артиллериста, кораблестроителя, говорил по-голландски и по-немецки, хорошо понимал шведский и польский, немного татарский и английский, читал по-латыни.
Пётр изменил управление страной. Он много завёл школ, велел печатать не только церковные, но и другие книги. Заботился царь и о торговле, и о промышленности. Во время его правления в России появилось много новых заводов.
Россию стало не узнать. Везде теперь кипела работа. Пример всем подавал царь. А.С. Пушкин так писал о нём:
«То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник».
А с теми, кто не хотел учиться новому, Пётр поступал жестоко: ссылал в Сибирь, казнил.
При Петре I в Томске находились пленные шведы. Умерших шведов хоронили в районе Каштака 1. Отсюда и название – Шведская гора.
Валерий Сердюк
Сосны
Будто по линеечке
Вытянув стволы,
Встали сосны-девочки,
Тонки и смуглы.
Встали сосны-мальчики
Около сестёр…
Подрастает мачтовый
Корабельный бор.
![]()
Их вершины тянутся
В купол голубой
И шуметь пытаются,
Как морской прибой.
Сосны корабельные –
С парусом зари.
… Смолка карамельная
Метит в янтари.
М. Михеев
Следы
![]() Ясный день. Бегут лошадки ровно.
Ясный день. Бегут лошадки ровно.
Мягкий снег, под взмахами копыт,
![]() Раздаётся с ласкою любовной
Раздаётся с ласкою любовной
И слегка взлетает и скрипит.
Луч весны уже крадётся по снегу,
Зелень хвоев тёмную согрев.
Едем мы, и тихо вторит бегу
Ямщика задумчивый напев.
![]()
Едем мы опушкою лесною.
Снега гладь, как мягкая постель.
Согревает белой пеленою
И сосну, и сумрачную ель.
И стоят в немом великолепьи
На краю их стройные ряды.
А в снегу и россыпью, и цепью
![]() Сеть плетут извилины – следы.
Сеть плетут извилины – следы.
Всех крупней, уходит вереницей
Длинный след – за тропкою тропа:
Волк бежал свирепо за волчицей –
![]() То его тяжёлая стопа.
То его тяжёлая стопа.
Дальше след: и кругл, и осторожен
Он идёт, как ямок полоса;
Лапкой мягкой нежно он проложен:
За мной здесь кралась лиса.
Вот следы раскоданная грядка,
Словно кто в испуге их ронял:
Их кидая всюду без порядка,
Здесь зайчиху заяц догонял
![]() И, ища у леса сердцевины,
И, ища у леса сердцевины,
В чаще леса тонут все следы.
И, как стражи, сосны и осины
Замыкают стройные ряды…
И стоят, таинственны и строги,
В серебре и сумраке леса;
А за ними горные отроги
Алтарями всходят в небеса:
И, горя на синем небосводе,
Пламя солнца жжёт из-за леса
Всё… безмолвие – в природе,
Заунывность – в песне ямщика.
ТОМСКИЕ ИЗВОЗЧИКИ
![]()
![]() В Томске до революции было восемь экипажных
мастерских, делавших рессорные пролётки. В тридцати девяти кузницах
подковывали рысаков и тяжеловозов. Частным извозом в 80-е годы ХIХ
века занимался каждый пятый житель огромной Томской губернии. "Не пашня
нас кормит, - говорили томичи, - а большая дорога. Обычно сибирская лошадь
проходит до ста вёрст в день с возом. Клади на воз бывает, если обоз должен
придти в срок (20 дней от Томска до Иркутска - несколько более 1500 вёрст),
только 20 пудов, а если не в срок - то 25. Мы с кнута ямщицкого живём".
Французский путешественник К.Оланьон подсчитал, что в 80-е годы через Томск ежегодно
переправлялось до 4-х миллионов пудов груза, под который использовалось до
100 тысяч подвод и 20 тысяч возчиков. С 1861 по 1914 год количество лошадей в
Томской губернии увеличилось с 623 тысяч голов до 2миллионов 900 тыс.
В Томске до революции было восемь экипажных
мастерских, делавших рессорные пролётки. В тридцати девяти кузницах
подковывали рысаков и тяжеловозов. Частным извозом в 80-е годы ХIХ
века занимался каждый пятый житель огромной Томской губернии. "Не пашня
нас кормит, - говорили томичи, - а большая дорога. Обычно сибирская лошадь
проходит до ста вёрст в день с возом. Клади на воз бывает, если обоз должен
придти в срок (20 дней от Томска до Иркутска - несколько более 1500 вёрст),
только 20 пудов, а если не в срок - то 25. Мы с кнута ямщицкого живём".
Французский путешественник К.Оланьон подсчитал, что в 80-е годы через Томск ежегодно
переправлялось до 4-х миллионов пудов груза, под который использовалось до
100 тысяч подвод и 20 тысяч возчиков. С 1861 по 1914 год количество лошадей в
Томской губернии увеличилось с 623 тысяч голов до 2миллионов 900 тыс.
![]()
![]() Самый знаменитый томский купец Евграф Кухтерин
был в молодости ямщиком. И предки его были ямщиками в Тюмени. Но Е.Кухтерин
вовремя понял, что центр ямской гоньбы переместился в Томск, где с развитием
пароходства скапливались грузы для всей азиатской части России. Перебравшись
из Тюмени в Томск, Евграф Кухтерин так организовал доставку грузов, что его
транспортная контора (3500 лошадей и 1500 ямщиков) перевозила более 20 процентов
всех проходивших через губернский центр кладей, а имя его гарантировало
безопасность обозов на сибирских трактах.
Самый знаменитый томский купец Евграф Кухтерин
был в молодости ямщиком. И предки его были ямщиками в Тюмени. Но Е.Кухтерин
вовремя понял, что центр ямской гоньбы переместился в Томск, где с развитием
пароходства скапливались грузы для всей азиатской части России. Перебравшись
из Тюмени в Томск, Евграф Кухтерин так организовал доставку грузов, что его
транспортная контора (3500 лошадей и 1500 ямщиков) перевозила более 20 процентов
всех проходивших через губернский центр кладей, а имя его гарантировало
безопасность обозов на сибирских трактах.
![]()
![]() Между пароходным и гужевым
транспортом сложилось своеобразное разделение труда. Зимой по санному пути из
восточных и южных районов Сибири в Томск доставлялись кипы китайского чая,
монгольских кож, киргизской шерсти, кедровые орехи, масло, пшеница и
мука-крупчатка. В Томске всё это сгружали в многочисленные амбары и склады. В
течение летней навигации складские запасы переправляли по воде в Тюмень, а
оттуда - на ярмарки Урала и Нижнего Новгорода. Сегодня воспоминание о
трактовых конях Томской губернии придёт разве что в городском саду, где на
смирных лошадках катают томских ребятишек.
Между пароходным и гужевым
транспортом сложилось своеобразное разделение труда. Зимой по санному пути из
восточных и южных районов Сибири в Томск доставлялись кипы китайского чая,
монгольских кож, киргизской шерсти, кедровые орехи, масло, пшеница и
мука-крупчатка. В Томске всё это сгружали в многочисленные амбары и склады. В
течение летней навигации складские запасы переправляли по воде в Тюмень, а
оттуда - на ярмарки Урала и Нижнего Новгорода. Сегодня воспоминание о
трактовых конях Томской губернии придёт разве что в городском саду, где на
смирных лошадках катают томских ребятишек.
Николай Хоничев
ПОТАНИНУ
Моя Сибирь – великая проталина,
![]() Когда Россию сковывает лёд.
Когда Россию сковывает лёд.
Куда звезду Григория Потанина
Небесная тропиночка ведёт?
В преподаванье? В тюрьмы? В путешествия?
Повсюду убеждений страстный свет…
А в Томске, средь берёз, взошёл божественно,
Протаял дивный университет.
Душа протает у купца известного,
А значит – ожидай благих вестей.
Восходит много нужного, полезного,
Когда протает совесть у властей.
Протает по весне окно узорное –
И над бумагой задрожит рука.
Сибирью по-потанински пронзённое, Г.Н. Потанин
Протает сердце у сибиряка.
Проталиной внезапною осеннею –
Потанинский усталый юбилей.
Не задолжи улыбку собеседнику –
И всё преодолеешь на Земле.
![]() Минуя площадь через
Каменный мост (1916г.), деревянный вариант которого был спроектирован Г.С.
Батеньковым в 1917г., подойдём к подножию Воскресенской горы. Начало улицы
Бакунина открывал долгое время дом № 1, где жил известный учёный,
путешественник, публицист, политик, почётный гражданин Сибири, почётный
гражданин г. Томска – Григорий Николаевич Потанин.
Минуя площадь через
Каменный мост (1916г.), деревянный вариант которого был спроектирован Г.С.
Батеньковым в 1917г., подойдём к подножию Воскресенской горы. Начало улицы
Бакунина открывал долгое время дом № 1, где жил известный учёный,
путешественник, публицист, политик, почётный гражданин Сибири, почётный
гражданин г. Томска – Григорий Николаевич Потанин.
![]() Отсюда начинался
Томск, здесь сложился первый центр города. Справа сверху – полицейская часть с
пожарной каланчёй. У подножия горы, под костёлом, в небольшом двухэтажном
доме, который пока ещё цел, в 1916 году жил Г.Н. Потанин.
Отсюда начинался
Томск, здесь сложился первый центр города. Справа сверху – полицейская часть с
пожарной каланчёй. У подножия горы, под костёлом, в небольшом двухэтажном
доме, который пока ещё цел, в 1916 году жил Г.Н. Потанин.
![]() Он внёс огромный
вклад в изучение Азии, развитие географической науки, фольклористику,
этнографию, краеведение, культуру, общественную жизнь Сибири.
Он внёс огромный
вклад в изучение Азии, развитие географической науки, фольклористику,
этнографию, краеведение, культуру, общественную жизнь Сибири.
Памятник и могила Г. Потанина находятся в нынешней Университетской роще.
Юрий Попов
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПОТАНИНА
Весной 1913 года Г.Н.Потанин объявил своим друзьям, что он собирается в экспедицию за легендами, сказками и песнями. Поедет в самое сердце центрального киргизского мелкосопочника, в Каркаралинский уезд, где среди кочующих племён остались предания глубокой старины.
От берегов Иртыша путешественники двигались прямой дорогой на Куяиндинскую ярмарку. Здесь остановились, чтобы сделать необходимые покупки. Но главное, что интересовало Григория Николаевича, - это песни ярмарочных певцов и изделия народных умельцев.
Во время поездки Потанин использовал малейшую возможность для записи и наблюдений. Встреченные путники рассказывали ему много интересного. О трудностях ведения кочевого хозяйства, засушливых периодах лета, скудных выпасах обширной территории. И жизнь здесь была такой же суровой, как и природа.
- Какое здесь самое лучшее время года?
Киргизы (Потанин замечает, что они себя называли казахами) оживляясь, вспоминали:
- Аксакал, весной мы рождаемся второй раз. Все горы, все равнины покрываются зеленью. И люди гонят стада в облюбованные исстари места, радуясь солнцу, теплу, птицам и зверям.
Потанин тут же записывал в блокнот русский перевод сказок, легенд. В эту поездку Потанин записал 27 сказок. Из собранных вариантов сказок Потанин сделал вывод, что каркаралинские сказки неизменно связываются с горами Балхаш-Иртышского водораздела.
Наблюдения Григория Николаевича говорят о наличии такой высокоразвитой отрасли домашнего хозяйства, как художественная орнаментика.
«Киргизский орнамент считается богатым: он проникает во все щели домашней обстановки: в юрте, благодаря работящей хозяйке, нет ни одного клока войлока, ни одного кусочка кожи, ни одного вершка деревянной поверхности без орнамента. Пол в юртах покрыт войлоком, на белую поверхность которого нанесены куски чёрной и красной материи, вырезанные симметрично. Задняя стенка сплошь уставлена сундуками в войлочных чехлах, поверхность тоже украшена узорами. Даже войлоки, покрывающие свод юрты, несут на себе орнамент. Гений трудолюбивой киргизки превратил юрту в картинную галерею, или, точнее сказать, в выставку орнамента.
![]() С первого взгляда кажется, что орнамент
заимствовал свой рисунок из растительного царства, как будто вы видите листья и
цветы. На самом же деле это рога баранов, как объясняют здесь. Есть еще и
другие узоры, как «кобыз-тал» - «скрипка». Орнамент на чиях (род циновки)
преимущественно геометрический. Чий – это киргизский гобелен, у которого основой
служат стебли степного злака, а утком – шерстяная нить…»
С первого взгляда кажется, что орнамент
заимствовал свой рисунок из растительного царства, как будто вы видите листья и
цветы. На самом же деле это рога баранов, как объясняют здесь. Есть еще и
другие узоры, как «кобыз-тал» - «скрипка». Орнамент на чиях (род циновки)
преимущественно геометрический. Чий – это киргизский гобелен, у которого основой
служат стебли степного злака, а утком – шерстяная нить…»
Нравились Потанину и лирические напевы казахских песен. «Мне чудится, - что вся степь поёт», - не раз говорил Потанин…
![]() ЛАГЕРНЫЙ САД… его
прошлое и настоящее
ЛАГЕРНЫЙ САД… его
прошлое и настоящее
Лагерный сад – уникальное место, где можно проследить историю человечества начиная с первой стоянки и до сегодняшнего дня.
Одно из первых появлений древних людей на томской земле произошло именно в районе нынешнего Лагерного сада около 17 тысяч лет назад. На протяжении многих тысячелетий люди использовали реки вместо дорог. Поэтому следы пребывания древних людей почти всегда находят на берегах рек.
Скелет мамонта, каменные орудия труда и следы кострища были найдены в 1896 году профессором Императорского Томского университета Н.Ф. Кащенко под 40-метровым почвенным слоем.
Известно, что примерно 6 тыс. лет назад на берега Томи пришли умелые охотники и рыболовы. На Томи очень много твёрдого камня: кремнистого сланца, диорита, кварцита, халцедона. Это хорошие материалы для изготовления каменных орудий труда. Из них делали ножи и скребки, резцы и топоры, а также наконечники для стрел и копий. Лепили сосуды из глины, украшенные разнообразными орнаментами, каждый из которых имел сокровенный смысл. Поклонялись люди духам, и особо чтили «хозяина тайги» - медведя.
В первой половине XVII в. под Томском были открыты запасы железа. Событие это имело значение не только в масштабах города, но и страны в целом. До этого времени считалось, что запасов железной руды в России практически нет. Известны были лишь несколько месторождений под Новгородом, под Тулой, в Карелии, однако руда была низкого качества. Российское железо употреблялось для бытовых нужд, но для изготовления оружия не годилось, и высококачественное железо везли из Швеции.
В 1625 году под Томском железо было найдено томским кузнецом Федором Еремеевым.
Местом открытия томского железа стала нынешняя территория Лагерного сада. На берегу Томи, неподалеку от воды, и обнаружил кузнец выходы железной руды на поверхность. По его оценке (на основании пробной плавки), томское железо не уступало по качеству шведскому.
История Лагерного сада включает и часть военной истории Томска. В 1711г. здесь был сформирован Томский мушкетёрский полк. С этим районом связана история Томского 39-го пехотного полка участвовавшего в Крымской войне. С XIX века в летнее время здесь размещался военный гарнизон. И Лагерным сад был назван именно потому, что здесь находились летние военные лагеря солдат местного гарнизона.
Томск был военной крепостью, опорой продвижения русских в Сибирь. Томские казаки основали Кузнецкую крепость (ныне Новокузнецк), Ачинск, Красноярск, Енисейск. В середине XVII века отряд под предводительством И.Ю.Москвитина первым среди русских вышел на берег Тихого океана. В XVIII веке русские границы отодвинулись далеко от Томска, и он утратил свое военное значение. В начале XX века в этом живописном, тогда загородном месте летом на сцене под открытым небом разыгрывались театральные представления, были танцы под духовой оркестр. Чем ближе подходили границы города к Лагерному саду, тем чаще и охотнее его посещали.
С началом Великой Отечественной войны в Лагерном саду проходили некоторые полевые учения частей сформированных в Томске, а также митинги перед отправкой на фронт. Всего из Томска и районов, вошедших впоследствии в Томскую область, ушло на фронт более 129 тысяч человек (для справки: численность жителей города Томска по предвоенной переписи составила 127 тысяч человек). Первой (26 июня 1941 года) на фронт из Томска ушла 166-я стрелковая дивизия, почти в полном составе погибшая под Москвой. Сибиряки проявили в тяжёлых боях мужество и героизм.
![]() Каждый второй Томич не вернулся с полей Великой
Отечественной войны. Более 61 тысячи имён погибших высечены на стелах в
Лагерном саду. В число самых прославленных соединений Армии вошла образованная
в Томске 79-я Гвардейская дивизия, которая начала свой путь в июне 1942
г. и закончила его в мае 1945 г. в Берлине. Родина удостоила 36 томичей
высоким званием Героя Советского Союза.
Каждый второй Томич не вернулся с полей Великой
Отечественной войны. Более 61 тысячи имён погибших высечены на стелах в
Лагерном саду. В число самых прославленных соединений Армии вошла образованная
в Томске 79-я Гвардейская дивизия, которая начала свой путь в июне 1942
г. и закончила его в мае 1945 г. в Берлине. Родина удостоила 36 томичей
высоким званием Героя Советского Союза.
![]() В честь 35-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 9 сентября 1979
г. на территории Лагерного сада открыт памятник воинам томичам. В центральной
части парка – Вечный огонь и скульптурная композиция – Родина-мать вручает
оружие сыну. К 50-летию Победы были установлены стелы с именами всех павших на
полях сражений, проживавших в Томске и области. Томский поэт Станислав Федотов
написал стихи и тексты для стел. Лирическое настроение в Лагерном саду
поддерживает регулярно звучащая прекрасная музыка – «Реквием» Ф. Шопена.
В честь 35-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 9 сентября 1979
г. на территории Лагерного сада открыт памятник воинам томичам. В центральной
части парка – Вечный огонь и скульптурная композиция – Родина-мать вручает
оружие сыну. К 50-летию Победы были установлены стелы с именами всех павших на
полях сражений, проживавших в Томске и области. Томский поэт Станислав Федотов
написал стихи и тексты для стел. Лирическое настроение в Лагерном саду
поддерживает регулярно звучащая прекрасная музыка – «Реквием» Ф. Шопена.
Четверо северчан также удостоены звания Героя Советского Союза:
Памятник героям войны в г.Северске
Сергей Заплавный
![]()
Рассказ о том,
как Еремеев у стен города
нашёл горнорудное железо.
…Где-то здесь, среди вышедших на поверхность глинистых сланцев, летом 1623 г. и обнаружил томский «кузнец Фетка Еремеев… каменья и руду». Со своей находкой он к томским воеводам князю Ивану Шеховскому и Максиму Радилову – объявить, что «чает получить ис того каменья и ис руды железо» не хуже кузнецкого.
Находка Еремеева озадачила воевод. Цену кузнецкому железу они знали – разве что с завозным, прежде всего шведским, шло оно в сравнение: ковкое, твёрдое, годное на сабли и мечи. Своё, отечественное, добывалось на лугах, у озёр и болот, варилось в Устюжне Железнопольской, местами в Карелии, в Олонецких землях, а также в Новгороде, Дедилове, Туле, но для оружия мало годилось, использовалось скорее на посуду, колокола, другую необходимую в мирном обиходе утварь. Мушкеты и пищали изготовлялись всё больше из иноземного металла.
Но знали Шеховской с Радиловым и другое: куда как проще взять данью готовые поковки у сибирян, нежели затевать новое для себя, заведомо хлопотное «тяготливое» дело. Вон и «великий князь всея Русии Михаил Фёдорович» засылать на Томь русских железодобытчиков не велел.
Конечно, если Еремеев быстро себя покажет, - рассудили воеводы, - можно отличиться на царской службе. Всё же Фетка не «тотарин какой», русской нации человек, православной святой веры. Вдруг да подомнёт удачу, заживёт с ней в мире и согласии, да впишет в сибирские летописи допреж своего имени-фамилии томских управителей, способствовавших ему. На смену надеждам приходили сомнения…
В конце концов соправители сошлись на том, что попытать счастье надо, а там видно будет.
Не ошиблись в своих расчётах томские воеводы. Москва благосклонно приняла их старания, а Казанский двор тут же составил «царскую грамоту»: «В Томском городе делать железный наряд… пищали полуторные и полковые и скорострельные и к пищалям ядра железные, только де надобе такие кузнецы, кому дело было бы за обычай».
А кому, как не Еремееву, кузнечное дело «за обычай»? На него надежда, с него и спрос.
С почётом вернулись в Томск первые сибирские рудознатцы.
Следом – по просьбе Еремеева – прибыли в «Сибирь в Томской на житьё с Устюжны железнопольские кузнецы Ивашко Баршин с женою и з детьми да Вихорко Иванов со всею кузнечною снастию».
К несчастью томских железодобытчиков, рудный пласт здесь оказался не таким богатым, как ожидали новые воеводы, поэтому и отправили они летом 1625 г. гонца в Москву с донесением: «Фетка с товарищи железо делают, ломают каменья от города 3 версты, да пережигают, и того де железа родится мало, на неделю по пуду, а на иную неделю и не родитца пуда; а выковано де того железа октября от 2-го числа да февраля по 28- й день в крицах 11 пуд; и они то железо велели пушечным мастерам ис криц выковати и велели делати пушку волкопейку»
![]() Еремеевым и его помощниками была отлита и
перевезена на бугровую Взвозную башню «пищаль железная, что делана в Томском
городе в новом железе ядро фунт без чети, а к ней ядер железных по кружалу 155
ядер». Другую пищаль томского производства получили «охоронники»
главной башни Томского острога – Бугровой. (Ещё её называли Киргизской, потому
что степняки при набегах прежде всего пытались овладеть ею).
Еремеевым и его помощниками была отлита и
перевезена на бугровую Взвозную башню «пищаль железная, что делана в Томском
городе в новом железе ядро фунт без чети, а к ней ядер железных по кружалу 155
ядер». Другую пищаль томского производства получили «охоронники»
главной башни Томского острога – Бугровой. (Ещё её называли Киргизской, потому
что степняки при набегах прежде всего пытались овладеть ею).
Ответ, который пришёл из Москвы в 1628 г. был категоричен: «Железо в Томском городе вперёд варить не велено».
Оставшиеся не у дел томские железожоги были повёрстаны кто куда: Еремеев с младшими кузнецами в Тобольск, а Ивашка Баршен и Вихорка Иванов ещё дальше – в Невьянский острог.
Время и неудачи после короткого, но высокого взлёта не сломили Фёдора Еремеева. Недаром по возвращении в Томск он получил редкое, необычное даже для той поры прозвище – Позара. Об истинном значении этого обращения можно только догадываться: буян, озорник, а может быть –человек, встающий раньше других, «по заре»; разведчик, первооткрыватель. А вернее всего – и то, и другое.
Позара верил: настанет час, и его дело продолжат другие сибиряки-единомышленники, последователи. И не ошибся.
В 1771 году дал первую продукцию маломощный Томский чугунолитейный и железоделательный завод. Девяносто три года просуществовал Томский чугунолитейный завод.
Но не только близ города находили чугунолитейщики «доброе железо» - «проезжие люди» из северных глубинок «доносили» им «чудилки» о таёжных каменьях с ближних и дальних притоков Оби-бабушки*. А лежат те каменья во многих количествах в болотных лягах, таятся в хвойных займищах. Не поднять их лошадью, не выдернуть воротом. Лишь отколки в руки даются. В подтверждение слов своих показывали бывальцы куски плитняка с железными вкраплениями, а чтобы совсем развеять сомнения томских людей, баяли истории одна диковинней другой. И оживал в тех историях-легендах безымянный богатырь с холодного Вас-югана (в переводе с хантыйского Мамонт-река).
Предано было забвению открытие Фёдора Еремеева и лишь три с лишним столетия спустя рассказы о Томском железе перестали быть легендой.
___________________________________________
*Обь (Обва) в переводе с коми-зырянского имеет два значения: бабушка или тётушка, а также – снежная вода. Именно коми проводники помогли русским торговым людям задолго до Ермака выйти на берега снежной Обдоры-реки.
Уважение и почитание военных в Сибири имело глубокие корни, ибо были времена, когда «защитники Отечества» были действительно защитниками в прямом смысле. Томский военный гарнизон создан был при основании Томской крепости, да, собственно, он населением крепости и являлся. На крепость же постоянно - иной раз каждый месяц! - нападали местные племена, а потому служба в Томске, как, впрочем, и в любом сибирском гарнизоне лёгкой не была: тут нужны были и смелость и военный талант. Например, один из томских воевод, князь Львов, велел укрепить склон Воскресенской горы брёвнами, или «обрубить». С тех пор взять Томскую крепость стало очень мудрено - поди тут, взберись по скользким брёвнам - так что вскоре окружающие племена постепенно от войн перешли к торговле, город вышел из-за крепостных стен, и одна из первых его улиц, кстати, стала называться Обруб. Склон горы продолжали периодически укреплять: мало ли что? Да и гарнизон перевели из крепости «в город» лишь к началу XIX века. Называться он стал не гарнизоном, а «томским резервным батальоном», но продолжал играть в жизни Томска серьёзную роль.
Тогда и выстроены были солдатские казармы, начинавшие улицу с вполне военным названием - Офицерская (теперь - Белинского). Эта улица, да ещё две другие - Солдатская (Красноармейская) и Жандармская (Гоголя) - назывались Солдатской слободкой: и по месту расположения гарнизона, и потому, что отставные военные тоже селились в основном здесь.
![]()
«Вчера и сегодня»
![]()
Дом офицеров
Сергей Заплавный
![]() Многоцветна Сибирь…
Многоцветна Сибирь…
Многоцветна Сибирь, многолика,
Многотрудна, но именно труд
Вызвал к жизни характер великий,
Тот, что нынче сибирским зовут.
Всё, чем можно по праву гордиться,
В нём слилось над грядами веков…
![]() Вот они – эти судьбы и лица,
Вот они – эти судьбы и лица,
И характеры сибиряков!
![]()
![]()
![]()
Римма Кошурникова
Космонавт Рукавишников
Космический корабль удачно стартовал и точно вышел на рассчитанную заранее орбиту. Двигатели смолкли, и сразу отступила земная тяжесть. Её сменила необыкновенная лёгкость. С непривычки кажется, что тебя кто-то пытается перевернуть вверх тормашками, а руки непроизвольно ищут, за что бы ухватиться. Космонавт-исследователь Георгий Иванов так и делает. Командир корабля скупо улыбается. Ему знакомо это состояние: он в космосе третий раз, а вот Георгий – впервые…
- Ну что, товарищ космонавт, голова на месте? – шутит командир.
- Э, другарь Николай, разве тут разберёшь, на месте или нет? Где верх, где низ – неизвестно. Сплошная невесомость! – смеётся Георгий. Он – болгарин и часто употребляет болгарские слова. Вот и сейчас вместо «товарищ» сказал «другарь».
- Придётся привыкать на ходу: пора заступать на космическую вахту.
- Есть заступать на вахту! – в тон командиру весело говорит Георгий.
Сначала они должны проверить, как работают все системы корабля, а потом хорошо подготовиться к стыковке с орбитальной станцией. Это очень сложная операция. Прежде всего в черном бескрайнем космическом океане нужно найти станцию «Салют», догнать её, причалить и прочно «привязаться» - состыковаться. И только после этого они смогут перейти из своего корабля в помещение станции, где их с нетерпением ждут товарищи-космонавты. А дальше начнётся совместная работа. Её очень много. Космонавты будут испытывать новые сложные приборы и аппараты, наблюдать и фотографировать Солнце и звёзды, изучать с космической высоты родную планету…
- Вижу станцию, - докладывает космонавт-исследователь. – Расстояние четыре километра.
- Внимание! Начинаем сближение. Включить двигатель.
На борту каждого космического корабля есть двигательная установка. С её помощью корабль переходит с одной орбиты на другую, меняет курс, тормозит перед спуском на Землю, сближается со станцией или вторым кораблём.
- Есть включение, - чётко рапортует Иванов.
Но почему встревожился командир? Ровное шипение двигателя и чуть заметное ускорение говорят о том, что всё идёт по плану. И вдруг…двигатель смолк!
- Команда не прошла, - голос Георгия Иванова чуть дрогнул.
- Спокойно. Повторить пуск, - приказывает командир.
И снова: шипение и … тишина. Двигатель не сработал и в третий раз. Авария! Страшный смысл короткого слова с трудом доходил до сознания. Не хотелось верить. За много лет космических полётов впервые отказал двигатель, сердце корабля. Отыскать неисправность в полёте и отремонтировать его – невозможно. Значит…причалить к станции корабль не сможет. Полёт должен быть прекращён. Это единственное возможное решение. Необходимо сообщить на Землю.
- Будем возвращаться, - твёрдо произносит командир.
- Но есть резервный! – Георгий сказал это больше для себя. Он знал не хуже командира, что запасной двигатель – на случай аварии. Им воспользоваться можно только раз – развернуть корабль и затормозить, чтобы сойти с орбиты, начав спуск. Лишь на этот манёвр хватит энергии, и проделать его могут только они сами…
На Земле в Центре управления полётом это понимали тоже. Всё зависит от воли и мужества экипажа, от слаженности и точности его действий, от мастерства и хладнокровия командира.
- Приготовиться к спуску, - приказала Земля.
- Есть приготовиться к спуску, - лицо командира бесстрастно, разве чуть бледнее обычного. Губы плотно сжаты, глаза пристально следят за приборами. – Даю команду на включение…
Земля замерла. Сейчас она не в состоянии ничем помочь тем, двоим, на орбите. Остаётся только ждать и волноваться. Несколько минут работает резервный двигатель, а кажется, проходят часы. Наконец командир в точно рассчитанное время выключает тормозную двигательную установку. Корабль начал спуск.
Бешеная скорость. Растут перегрузки. Кажется, ещё немного, и тяжесть сломает, скрутит, раздавит тебя. С великим трудом даётся каждый вздох. Нет сил шевельнуть пальцем, поднять веки… Но надо, надо! От него, от командира, зависит сейчас жизнь товарища, судьба корабля. Они обязаны вернуться. Они должны понять, почему произошла авария. Это важно для будущих полётов, для тех, кто полетит после них. И командир, превозмогая боль и усталость, продолжает контролировать приборы…
Воздух сейчас, как стальная стена. Корабль врезается в него, словно снаряд. Раскаляется, вспыхивает! Огонь жадно набрасывается на корабль, пожирает специальную обмазку, которой покрыт его корпус, пытается добраться до тех, кто внутри. Выдержит ли? Счёт идёт на секунды: одна… вторая…третья… четвертая…
Нарастает шум, корабль трясёт, но вот долгожданный рывок! Раскрылся парашют, и корабль повис на стропах. Резко уменьшилась скорость, спали перегрузки, отпустила боль. Теперь всё будет хорошо!
На Земле облегченно вздохнули. К месту посадки устремились вертолёты, машины. Спасатели поспешно разворачивали временный дом для космонавтов. Врачи готовились оказать немедленную помощь.
Ударили огненные струи – это автоматически сработали двигатели мягкой посадки. Полёт окончен. По апрельской не оттаявшей земле бежали люди. Окружили неподвижно лежащий корабль, встревожено глядя на его обожженные бока: Как там? Что там?
Наконец открылся люк. Показалось бледное, измученное лицо командира. Николай Рукавишников увидел товарищей, с трудом улыбнулся:
- Порядок… - и поднял вверх большой палец.
Софья Привалихина
ДАЛЬНЯЯ СИБИРСКАЯ УКРАИНА
И СИБИРСКИЕ АФИНЫ
![]() Томск
часто называют Сибирскими Афинами. А вот кто и когда впервые нарёк так наш
город, точно сказать затруднительно. Несомненно одно – название появилось после
открытия в Томске университета и технологического института.
Томск
часто называют Сибирскими Афинами. А вот кто и когда впервые нарёк так наш
город, точно сказать затруднительно. Несомненно одно – название появилось после
открытия в Томске университета и технологического института.
![]() В адрес ректоров университета и
технологического института, губернского и городского правлений шли потоки
поздравлений, произносились торжественные речи. Томск в этих поздравлениях и
речах, стремясь подчеркнуть его значимость как нового центра образования,
духовности и цивилизации, сравнивали с другими всемирно известными городами,
где были учебно-образовательные центры.
В адрес ректоров университета и
технологического института, губернского и городского правлений шли потоки
поздравлений, произносились торжественные речи. Томск в этих поздравлениях и
речах, стремясь подчеркнуть его значимость как нового центра образования,
духовности и цивилизации, сравнивали с другими всемирно известными городами,
где были учебно-образовательные центры.
![]() Возможно, в телеграммах и письмах, в
поздравительных речах по поводу появления вузов в таёжном краю Томск называли
Сибирским Оксфордом, Сибирским Геттингеном, Сибирской Сорбонной, однако
пришлось больше по душе, прижилось сравнение с Афинами. Может, потому, что в
краю долгих снегов и холодов приятно было вспоминать плеск ласкового южного моря,
подумать об апельсиновых садах, оливковых и миндальных рощах…
Возможно, в телеграммах и письмах, в
поздравительных речах по поводу появления вузов в таёжном краю Томск называли
Сибирским Оксфордом, Сибирским Геттингеном, Сибирской Сорбонной, однако
пришлось больше по душе, прижилось сравнение с Афинами. Может, потому, что в
краю долгих снегов и холодов приятно было вспоминать плеск ласкового южного моря,
подумать об апельсиновых садах, оливковых и миндальных рощах…
Открытие вокзала в Томске
![]() Название так
привилось, что почти напрочь забыли другое, каким в XXVIII – XIX
веках именовали Томск, - Дальняя Сибирская Украина. Словом «Украина»
подчеркивалось окраинное, отдалённое местонахождение Томска. Интересно, что
даже в официальных документах, отправляемых на имя государей-императоров их
Томска, вместо «Томск» на конвертах можно было прочитать в адресе отправителя:
«Дальняя Сибирская Украина». С проведением в Томск железной дороги, когда
появилась возможность добираться до Санкт-Петербурга за пять суток, название
стало неактуальным и окончательно забылось.
Название так
привилось, что почти напрочь забыли другое, каким в XXVIII – XIX
веках именовали Томск, - Дальняя Сибирская Украина. Словом «Украина»
подчеркивалось окраинное, отдалённое местонахождение Томска. Интересно, что
даже в официальных документах, отправляемых на имя государей-императоров их
Томска, вместо «Томск» на конвертах можно было прочитать в адресе отправителя:
«Дальняя Сибирская Украина». С проведением в Томск железной дороги, когда
появилась возможность добираться до Санкт-Петербурга за пять суток, название
стало неактуальным и окончательно забылось.
Сибирские же Афины с увеличением числа вузов в Томске, наоборот, стало более употребительным, активно используется, как второе название
Томска и по сей день.
Василий Пухначёв
НАД ТОМЬЮ ШИРОКОЙ
Над Томью широкой в сибирском просторе
Стоишь ты, наш город, седые века.
![]() В пути к океану, встреч
солнцу и зорям,
В пути к океану, встреч
солнцу и зорям,
Тебя воздвигали сыны Ермака.
Отчизне открылись заветные дали,
Дороги к Охотску и рудный Алтай.
Кузнецкий бассейн Томичи открывали,
В трудах переделав разбуженный край.
Здесь Киров и Куйбышев силы ковали,
За Лениным шли в революцию в бой.
Под красное знамя народ собирали,
Сибирь трудовую вели за Москвой.
![]()
Храним мы героев бессмертную славу,
Их дело – пример поколеньям живых.
Гордится наш Томск по отцовскому праву
Марией Октябрьской, Иваном Черных.
Над Томью широкой, под небом Отчизны,
![]() Согретый любовью и лаской
людской,
Согретый любовью и лаской
людской,
В трудах и свершеньях, к заре коммунизма
Идёшь ты, наш город, вперёд за
Москвой.
КРАЙ ЛЮБИМЫЙ
![]()
Могучие реки, леса вековые,
Просторы степные, да горы крутые,—
Привольная, светлая русская ширь.
Наш край богатырский, родная Сибирь.
![]()
На север от Томска — поля нефтяные.
Там вышки шагают в тайгу буровые.
На север от Томска — большая вода.
Там рыба сверкает в ставных неводах.
Наш город рабочих, наш город учёных.
Наш город студентов, поэтов, влюблённых.
Сибирь, мы гордимся, родная, тобой
И славим тебя, твой народ трудовой!
![]()
![]() Существует много легенд относительно происхождения
названия озера, а также его появления…
Существует много легенд относительно происхождения
названия озера, а также его появления…
Вид на Белое озеро
ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ОЗЕРЕ
…Давно это было. Жил-был в наших краях могучий, смелый и добрый богатырь Эушт. С далёкого знойного юга, первым из татар, пришёл он на эту землю и поселился здесь. Полюбились ему дебри таёжные, непроходимые, озёра тихие, задумчивые, ручьи проворные, говорливые. Построил он себе шалаш на высокой горе, которую теперь Воскресенской зовут, охотился, ловил рыбу в этих краях. Также большой табун коней был у Эушта, и часто он их пас на этой горе. Густая, сочная трава росла там, но не было воды, нечем было напоить лошадей. Приходилось гнать табун под гору на болото. Вода в болоте была плохая, склоны крутые.
- Хорошо было бы поить коней на горе, - не раз думал Эушт.
Однажды в густой берёзовой роще, что росла на самой вершине горы, нашёл Эушт родничок. Холодная прозрачная вода тонкой струйкой била из-под земли и исчезала в высокой траве. Решил Эушт на том месте сделать большую яму, наполнить её водой родничка и поить здесь свой табун.
Выворотил богатырь с корнями несколько берёз, расчистил место возле родничка и взялся за работу. Несколько дней трудился он и выкопал большую, глубокую котловину. Посередине её остался холм. Это было место, где отдыхал Эушт во время работы. Родничок скоро заполнил котловину водой. Холм стал островком. Когда вода наполнила котловину, она небольшим ручейком побежала через её край и, пробиваясь между корнями берёз, нежно журча, потекла на восток. Постепенно края котловины размылись. Так среди березовой рощи на высокой горе появилось озеро.
Красивое озеро получилось у Эушта. Оно почти не показывало своих берегов. Со всех сторон его окружали плотной стеной стройные кудрявые берёзы. Эушт назвал свое озеро Озером белой берёзы. Впоследствии часто пользовались потомки Эушта водой этого озера, когда им приходилось бывать на той горе, пасти там скот.
Одним из потомков Эушта был князь Тоян. И была у него сестра, красавица Тома. Однажды весной из прибайкальских степей на наши таёжные земли с многочисленной дружиной пришёл калмыцкий тайша. Разгромил он племя Тояна и уехал далеко на юг, захватив с собой пленных девушек, в том числе и Тому. Красота девушки очаровала тайшу, и захотел он сделать её своей любимой женой. Однако Тома отказалась, оплакивая своё положение. Тогда тайша сказал:
- Моё слово – твоя судьба. Я не в силах только остановить твои слёзы. Плачь, плачь! Наплачешь каменную чашу, и я поверю, что ты неподвластна моей воле, моему слову.
![]() Тайша указал в сторону гор, где было
углубление, похожее на огромную каменную чашу, на дне которой могло
разместиться более десяти юрт.
Тайша указал в сторону гор, где было
углубление, похожее на огромную каменную чашу, на дне которой могло
разместиться более десяти юрт.
Тому увели в горы и приковали у края каменной чаши. Два воина-калмыка остались сторожить её. Девушка стала вспоминать все горести, которые принёс злой тайша её любимому племени, и заплакала. И стихло всё вокруг, внимая Томиному горю, удивлённое его бескрайностью, поражённое великой любовью Томы к родному племени. Не выдержала даже земля и заплакала вместе с Томой. Из стен каменной чаши побежали ручейки и, смешиваясь со слезами девушки, быстро наполняли её. К утру, к изумлению стражи, гигантская каменная чаша была полна слёз. Узнав об этом, тайша сильно рассердился и задумал Тому убить. Но Тома до такой степени возненавидела тайшу, что глаза её стали огненными и две яркие молнии вырвались из них, гром прокатился над землёй, и на том месте, где был тайша, осталась лишь кучка пепла.
Тома превратилась в огненный столб, мгновенно уничтожив юрту тайши. Вихрем пронеслась она по калмыцкому становищу, превращая всё в пепел и направляясь в горы к каменной чаше, страшным ударом обрушилась на стенки этой чаши. Дрогнула земля, лопнула чаша, раздвинулись горы, и Томины слёзы хлынули в долину. В бушующий поток своих слёз опустилась огненная Тома и исчезла в волнах. Поток превратился в речушку, река пробежала через Кузнецкую землю на север. Дух Томы направлял её к родной земле – туда, куда стремилось её сердце, где жило горячо любимое ею племя Эушта.
Широкой, полноводной рекой вернулась Тома в нашу долину (в настоящее время р. Томь). Достигнув родной земли, дух Томы покинул воду. Белым стройным оленем она вышла на берег. Трудные времена настали для племени Эушта. Оно было разорено: юрты уничтожены, скот угнан. Голод мучил эуштинтев. Вместе с голодом пришла болезнь, люди стали слепнуть. Большинство мужчин племени погибло в бою с калмыками, а те немногие, что остались в живых и могли бы охотиться, ослепнув, сидели у своих шалашей. Некоторые пали духом, ждали смерти. Только Тоян сохранил силу, зрение и надежду. От зари до зари он был в тайге, промышлял дичь. Но её было мало в лесу, не мог один Тоян прокормить всё племя.
Белым оленем бродя вокруг стоянки эуштинцев, узнала Тома, как трудно, тяжело родному племени. Захотела она вылечить племя от страшной болезни, но Тома не знала, как это сделать. В раздумье бродил Белый олень по тайге.
Однажды в глухой таёжной чаще Тома встретилась с Духом тайги, который решил помочь бедной девушке. Он сказал:
- Выбирай: или ты снова будешь девушкой, бессмертной, вечно юной, прекрасной и счастливой, или даже дух твой исчезнет бесследно, но племя будет спасено.
- Пусть будет счастливо моё родное племя, - решительно сказала Тома.
- Тогда слушай. Найди озеро с чистой, прозрачной водой и опустись в него. Если в сердце твоём будет хоть капля жалости к себе, если, погружаясь в воду, ты хоть на мгновение содрогнёшься от страха, если любви твоей не хватит, чтобы пронизать ею всю воду озера, ты исчезнешь навсегда, не принеся племени избавления от страшного недуга. Если же любовь твоя настолько велика, что дух твой, растворившись, пропитает ею всю воду озера – она будет целебной. Пусть эуштинцы моют глаза этой водой, и болезнь пройдёт. Тома поблагодарила Духа тайги и пошла искать озеро. Располагалось оно на высокой горе на правом берегу широкой красавицы Томи, напротив стойбища племени Эушта. Богатырь Эушт в своё время вырыл его для того, чтобы, не спускаясь с горы, пастуху можно было утолить жажду и напоить пасущийся на горе скот. Густая берёзовая роща окружала озеро, оно было спокойным и величавым. Эуштинцы называли его Озером белой берёзы.
![]() Однажды дух Томы явился Тояну во сне, она
попросила его с племенем перекочевать на лето к Озеру для того, чтобы эуштинцы
могли мыть глаза его прозрачной водой.
Однажды дух Томы явился Тояну во сне, она
попросила его с племенем перекочевать на лето к Озеру для того, чтобы эуштинцы
могли мыть глаза его прозрачной водой.
Белым оленем бродил дух Томы по родной земле, прощаясь с нею. Ранним утром она нашла Озеро, последний раз взглянула на ласковое солнышко, на ясное голубое небо и Белым оленем стремительно бросилась в воду, взметнулись веером искристые брызги, вздрогнуло, раскололось зеркало Озера, волны кругами побежали от того места, где скрылась Тома, и Озеро, успокоившись, стало ещё более величавым, торжественным.
Всё лето прожили эуштинцы на берегу Озера белой берёзы. Каждый день мыли они больные глаза его прозрачной водой. Постепенно болезнь проходила. Жизнь племени вновь весело, игриво зажурчала как резвый ручеёк. Над Озером с раннего утра и до глубокой ночи звучали счастливые голоса эуштинцев. И Озеру было приятно. Каждая капелька воды в нём радовалась человеческому счастью. Тояну, отдыхающему на берегу Озера, порой казалось, что из глубины смотрит на него улыбающееся лицо Томы.
![]() ***
***
Легенда легендой, а по рассказам людей, озеро действительно было когда-то осень чистым, прозрачным, белым, к тому же ещё и лечебным. Исцеляло оно от глазных болезней, так как на дне озера били радоновые ключи. Из озера вытекала маленькая речка Белая, которую засыпали при застройке этих окрестностей. О существовании когда-то этой речки в данных местах говорит улица с таким же названием – Белая, что была в окружении белоствольных берёз.
ТОМСК ССЫЛЬНЫЙ
![]()
Сибирь и ссылка неотделимы друг от друга. Сотни лет Сибирь была краем отчуждения и забвения, невыносимых мук и страданий для многих отверженных – ссыльных. Кого только сюда не ссылало государство: политических и уголовных преступников, революционеров, кулаков, а ещё ранее – бояр, впавших в немилость.
![]() Началась эта история ещё до основания нашего
города – в 1591 г., когда в подмосковном городке Угличе умер последний сын
Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Не то от эпилепсии, не то убитый по приказу
Бориса Годунова, который очень хотел стать царём – в общем, дело тёмное. Однако
тогдашние власти виноватых нашли быстро. В ссылку в Сибирь отправили всех
жителей Углича. Долго скитались жертвы царского гнева по Сибири – то одно место
поселения им определят, то другое. Наконец, в начале XVII в., уже
став царём, Борис Годунов решил «облагодетельствовать» недавно основанный город
Томск, прислав сюда побольше жителей. Так часть ссыльных угличан и оказалась в
наших краях. Место поселения для угличан определили за озером (район нынешнего
Центрального рынка). Раньше это место для жизни было малопригодным. Каждую
весну вода разносила все дома и постройки бедных людей. Но несмотря на бытовые
проблемы, они построили скромненькую церковь на деньги ссыльного угличского
дворянина Качалова (ныне стоит там Знаменская церковь). Открыли в Заозерье две
школы, и стали потихоньку привыкать к томской жизни.
Началась эта история ещё до основания нашего
города – в 1591 г., когда в подмосковном городке Угличе умер последний сын
Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Не то от эпилепсии, не то убитый по приказу
Бориса Годунова, который очень хотел стать царём – в общем, дело тёмное. Однако
тогдашние власти виноватых нашли быстро. В ссылку в Сибирь отправили всех
жителей Углича. Долго скитались жертвы царского гнева по Сибири – то одно место
поселения им определят, то другое. Наконец, в начале XVII в., уже
став царём, Борис Годунов решил «облагодетельствовать» недавно основанный город
Томск, прислав сюда побольше жителей. Так часть ссыльных угличан и оказалась в
наших краях. Место поселения для угличан определили за озером (район нынешнего
Центрального рынка). Раньше это место для жизни было малопригодным. Каждую
весну вода разносила все дома и постройки бедных людей. Но несмотря на бытовые
проблемы, они построили скромненькую церковь на деньги ссыльного угличского
дворянина Качалова (ныне стоит там Знаменская церковь). Открыли в Заозерье две
школы, и стали потихоньку привыкать к томской жизни.
![]() Недалеко от Заозерья, сразу за
Дальне-Ключевской, за глубоким оврагом, именовавшимся «Страшный лог», до
недавнего времени, а точнее, до середины 1960 –х гг., высился округлый холм,
выступ Вознесенской горы – Шведская горка. Это были первые годы XVIII
в., пора деяний Петра Великого. Ведя долгие войны со шведским королём Карлом XII,
император повелел ссылать вражеских пленных в Сибирь. Многие сибирские города
приняли к себе шведских офицеров и солдат. Не избежал этого и Томск. Горожане
отнеслись к иноземцам по-доброму: пускали на жильё, давали работу тем, кто не
имел личных средств. Офицеры были приняты в домах градоначальника и чиновников.
Для Томичей, по сути дела, это было первое знакомство с европейской культурой.
Шведы – кто по склонности, кто от нечего делать – вели научные наблюдения и
изыскания в окрестностях города, записывали местные впечатления, сведения о
народах близлежащих земель. Многие из них получили службу в градоначальстве, в
почтовой конторе, даже в гарнизоне. Шведы создали в Томске первый камерный
оркестр, куда вскоре потянулись молодые чиновники. В течение нескольких лет в
домашней гостиной градоначальника регулярно проходили концерты. Словом, пленные
шведы не только прижились, но и пришлись к месту, а кое-кто даже остался в
Томске, женившись и обзаведясь хозяйством. (полковник и кавалер Томас де Вильнёв
был томским комендантом)
Недалеко от Заозерья, сразу за
Дальне-Ключевской, за глубоким оврагом, именовавшимся «Страшный лог», до
недавнего времени, а точнее, до середины 1960 –х гг., высился округлый холм,
выступ Вознесенской горы – Шведская горка. Это были первые годы XVIII
в., пора деяний Петра Великого. Ведя долгие войны со шведским королём Карлом XII,
император повелел ссылать вражеских пленных в Сибирь. Многие сибирские города
приняли к себе шведских офицеров и солдат. Не избежал этого и Томск. Горожане
отнеслись к иноземцам по-доброму: пускали на жильё, давали работу тем, кто не
имел личных средств. Офицеры были приняты в домах градоначальника и чиновников.
Для Томичей, по сути дела, это было первое знакомство с европейской культурой.
Шведы – кто по склонности, кто от нечего делать – вели научные наблюдения и
изыскания в окрестностях города, записывали местные впечатления, сведения о
народах близлежащих земель. Многие из них получили службу в градоначальстве, в
почтовой конторе, даже в гарнизоне. Шведы создали в Томске первый камерный
оркестр, куда вскоре потянулись молодые чиновники. В течение нескольких лет в
домашней гостиной градоначальника регулярно проходили концерты. Словом, пленные
шведы не только прижились, но и пришлись к месту, а кое-кто даже остался в
Томске, женившись и обзаведясь хозяйством. (полковник и кавалер Томас де Вильнёв
был томским комендантом)
![]() По пути в сибирскую ссылку в Томске побывали А.Н.
Радищев, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Короленко. Здесь на «вольном
поселении» жили Г.С. Батеньков и Ф. Толь, М.А. Бакунин и Ф.В. Волховский, К.М.
Станюкевич. В сентябре – начале декабря 1847
г. в Томске жил А.В. Сухово-Кобылин, будущий автор знаменитой пьесы «Свадьба
Кречинского». Через Томск пролёг путь Г.И. Успенского, изучавшего
переселенческое движение крестьянства, и А.П. Чехова, поведавшего миру правду о
самом обширном и жутком русском застенке – острове Сахалине. С Томском связаны
судьбы виднейших представителей народничества и сибирского областничества, учёных,
публицистов, писателей Н.И. Наумова, Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина, А.В.
Адрианова. Томские впечатления питали творчество Н.Г. Гарина-Михайловского и
В.Я. Шишкова. Здесь закончили свой скорбный путь замечательный философ,
литературовед, переводчик Густав Шпет и гениальный поэт, друг и наставник
Сергея Есенина Николай Клюев. Наконец, сокровищница Научной библиотеки Томского
государственного университета, уникальная личная библиотека В.А.Жуковского,
давшая импульс для появления трёхтомного исследования «Библиотека
В.А.Жуковского в Томске»
По пути в сибирскую ссылку в Томске побывали А.Н.
Радищев, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Короленко. Здесь на «вольном
поселении» жили Г.С. Батеньков и Ф. Толь, М.А. Бакунин и Ф.В. Волховский, К.М.
Станюкевич. В сентябре – начале декабря 1847
г. в Томске жил А.В. Сухово-Кобылин, будущий автор знаменитой пьесы «Свадьба
Кречинского». Через Томск пролёг путь Г.И. Успенского, изучавшего
переселенческое движение крестьянства, и А.П. Чехова, поведавшего миру правду о
самом обширном и жутком русском застенке – острове Сахалине. С Томском связаны
судьбы виднейших представителей народничества и сибирского областничества, учёных,
публицистов, писателей Н.И. Наумова, Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина, А.В.
Адрианова. Томские впечатления питали творчество Н.Г. Гарина-Михайловского и
В.Я. Шишкова. Здесь закончили свой скорбный путь замечательный философ,
литературовед, переводчик Густав Шпет и гениальный поэт, друг и наставник
Сергея Есенина Николай Клюев. Наконец, сокровищница Научной библиотеки Томского
государственного университета, уникальная личная библиотека В.А.Жуковского,
давшая импульс для появления трёхтомного исследования «Библиотека
В.А.Жуковского в Томске»
Томские экскурсии.
А.С.Пушкин
«Моя родословная»
(отрывок)
![]() …чёрный дед мой Ганнибал
…чёрный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
Сей шкипер деду был доступен
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.
![]()
![]() В
конце 1729г. – начале 1730г. (около двух месяцев) в Томском
Богородице-Алексеевском монастыре под строжайшей охраной в одной из монашеских
келий содержался сосланный Александром Меньшиковым арап Петра Великого, прадед
А.С.Пушкина по материнской линии Абрам Петрович Ганнибал. Увлекательная жизнь
наперсника Петра I, инженера-строителя Абрама Ганнибала, ставшего одним
из первых российских генералов от инфантерии, была связана и с Томском.
В
конце 1729г. – начале 1730г. (около двух месяцев) в Томском
Богородице-Алексеевском монастыре под строжайшей охраной в одной из монашеских
келий содержался сосланный Александром Меньшиковым арап Петра Великого, прадед
А.С.Пушкина по материнской линии Абрам Петрович Ганнибал. Увлекательная жизнь
наперсника Петра I, инженера-строителя Абрама Ганнибала, ставшего одним
из первых российских генералов от инфантерии, была связана и с Томском.
Об Абраме Ганнибале писали стихи и современные авторы.
Николай Хоничев
«Ганнибал»
Выходец из черной Абиссинии
Светлый след оставил на Руси.
У детей глаза ещё не синие,
А про внучку – правнучка спроси!
Правнук, кучерявый да проказливый,
Подлинный, законченный русак.
Царь ему холопом быть приказывал,
Да попал негаданно впросак.
Может быть, Ангола или Кения
Воспоит невиданного гения,
Только воспевая старину,
Он поймёт ли чары неба серого,
И в душе загадочного севера
Он найдет ли верную струну?
А.Н. Радищев
«Ответ»
![]() Ты хочешь знать, кто я? что
я? куда я еду?
Ты хочешь знать, кто я? что
я? куда я еду?
Я тот же , что и был, и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе, и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх –
В острог Илимский еду.
![]()
![]() А.Н.Радищев – высокообразованный дворянин, получивший в Москве
прекрасное образование (его на дому обучали профессора Московского
университета). Юрист, экономист, философ, он опубликовал в 1790
г. книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» - которая сыграла роковую роль в
его жизни. Екатерина II, прочитав её, назвала Радищева «бунтовщиком хуже
Пугачёва». Он был приговорён к смертной казни. Однако игравшая в
«просветительство» императрица не решилась отрубить голову видному русскому
просветителю, заменив ему смертный приговор ссылкой в Сибирь на 10 лет, в далёкий
и страшный Илимский острог. А.Н.Радищев написал в стихотворении «Ответ».
А.Н.Радищев – высокообразованный дворянин, получивший в Москве
прекрасное образование (его на дому обучали профессора Московского
университета). Юрист, экономист, философ, он опубликовал в 1790
г. книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» - которая сыграла роковую роль в
его жизни. Екатерина II, прочитав её, назвала Радищева «бунтовщиком хуже
Пугачёва». Он был приговорён к смертной казни. Однако игравшая в
«просветительство» императрица не решилась отрубить голову видному русскому
просветителю, заменив ему смертный приговор ссылкой в Сибирь на 10 лет, в далёкий
и страшный Илимский острог. А.Н.Радищев написал в стихотворении «Ответ».
Он ехал в ссылку с двумя детьми и своей верной подругой Е.В.Рубановской, предварившей благородный подвиг декабристок. В Томске она заболела и им пришлось задержаться в городе почти три недели. А.Н.Радищева и его семью хорошо принял тогдашний комендант города Томас де Вильнёв.
За две-три недели в Томске Радищев имел возможность ознакомиться с городом. Из воспоминаний сына писателя известно, что Радищев порадовал Томичей необычным зрелищем – запуском воздушного шара, за что церковники требовали предать его анафеме. Августовским днём 1791г. в Томске на глазах изумлённой толпы в небо взлетел воздушный шар.
![]() В сибирских письмах А.Н.Радищева, «Записках
путешественника в Сибирь», на страницах «Дневника» содержатся материалы,
которые относятся к Томску. Мы находим у него пометки о местном населении –
русском и татарском, их промыслах и хлебопашестве, описал не только прекрасную
сибирскую природу, но и образцы грунта, изгибы рек, дороги, местную торговлю,
как и подобает настоящему учёному. На обратном пути из Илимской ссылки 5 марта
1797 года А.Н.Радищев останавливался на ночлег в этом доме.
В сибирских письмах А.Н.Радищева, «Записках
путешественника в Сибирь», на страницах «Дневника» содержатся материалы,
которые относятся к Томску. Мы находим у него пометки о местном населении –
русском и татарском, их промыслах и хлебопашестве, описал не только прекрасную
сибирскую природу, но и образцы грунта, изгибы рек, дороги, местную торговлю,
как и подобает настоящему учёному. На обратном пути из Илимской ссылки 5 марта
1797 года А.Н.Радищев останавливался на ночлег в этом доме.
Римма Кошурникова
ЧУДИЩЕ ПОД ОБЛАКАМИ
С самого раннего утра во дворе томского городского коменданта Томаса Томасовича де Вильнёва творилось что-то непонятное.
Едва развиднелось, пришёл известный в городе печник Еремей. Не тратя попусту времени, он замесил глину в широкой деревянной бадье и принялся выкладывать очаг прямо посреди двора, на зелёной лужайке. Загодя заготовленный кирпич был сложен неподалёку, возле сарая. Соседский мальчонка Гришаня подносил его Еремею охапками по три-четыре штуки и всё пытался вызнать, зачем понадобилась печка во дворе. То у Еремея, то у двух здоровенных конюхов, которые начали таскать на вилах и складывать в кучу сырую солому из конюшни. Печник промолчал, а конюхи вообще отмахнулись, как от мухи.
Старый слуга вынес из дому и свалил в ту же кучу дырявые пимы, тряпьё, обрывки войлока. Гришаня и к нему сунулся со своим вопросом.
- Барин приезжий научный опыт производить будут, - старик важно покрутил пальцем перед носом оторопевшего Гришани и ушёл в дом.
…Очаг уже был готов, Еремей взялся за дымоход, когда во дворе появился немолодой худощавый человек в темно-зеленом бархатном камзоле. Седые, гладко зачёсанные назад волосы, высокий, изборождённый морщинами лоб, глубокие складки от носа к углам рта выражали суровость, но тёмные глубокие глаза смотрели лучисто, приветливо. Следом за ним девочка и мальчик несли железную трубу. Длинный холщовый рукав тянулся из этой трубы к чему-то большому белому, похожему на громадную плоскую рыбину, которую несколько человек осторожно поддерживали за края.
- Вот так чудище! – воскликнул Гришаня. Оба конюха оставили работу и, разинув рты, уставились на приближающуюся процессию.
- Еремей, друг мой, - ласково сказал человек в камзоле. – Вас ведь так зовут – Еремей?
Поражённый таким обхождением, печник только кивнул в ответ.
- Вот и славно, - сказал человек и повернулся к детям. – Катюша, Павлик, давайте сюда трубу… Вот, прошу вас, Еремей, вставьте эту трубу в дымоход. Лучше не сверху, а сбоку, чтобы дым свободно пошёл по рукаву в полость шара.
- Сделаю, господин… - Еремей замялся, не зная, как назвать этого непонятного человека.
- Зовите меня Александр Николаевич.
- Сей момент, Александр Николаевич! Сделаю в лучшем виде… Для хорошего человека – мигом!.. – Еремей подхватил трубу и начал вмазывать её в кирпичный дымоход.
Тем временем люди разложили «чудище» на траве, вбили в землю два кола и длинными шнурами привязали к ним хвост «рыбины», от которого тянулся холщовый рукав.
Из дома поспешно вышел небольшой плотный человек в парадном мундире. Это был сам хозяин – комендант города полковник де Вильнёв. Он обежал «чудище», проверил узлы на кольях, заглянул в очаг и только после этого приблизился к Александру Николаевичу и детям.
- Все в порядке, Александр Николаевич?.. Вон уж публике не терпится, - де Вильнёв махнул рукой в сторону раскрытых настежь ворот. Там действительно начали собираться жители Томска, привлечённые слухами о необыкновенных событиях.
Томас Томасович взглянул на солнце, поднявшееся уже довольно высоко, потом достал большие карманные часы и озабоченно покачал головой:
- Скоро именитые гости пожалуют… Еремей, голубчик, заканчивай!
- Готово, барин! – печник обтёр руки фартуком и отступил в сторону, оглядывая своё творение. Чудно всё-таки: впервые пришлось ему выполнять столь странный заказ – складывать печь под открытым небом да чтоб ещё дым от неё собирать в какую-то штуковину, не то «чудище», не то «рыбину».
- Спасибо, Еремей, - Александр Николаевич уважительно пожал руку и повернулся к дочери: - Катюша, сходи в комнаты, принеси ножницы. Понадобятся и тебе, и Павлику. А тебя, сын, я попрошу охранять монгольфьер. Видишь, какой любопытный сторожек возле него вертится? Прокусит или цапнет оболочку – и всё пропало!
Восьмилетняя Катя убежала в дом, а Павлик вооружился прутом и пошёл в наступление на дворняжку. Ему было только семь лет, он побаивался бойкого пёсика, но очень старался выполнить поручение отца. На помощь пришёл Гришаня, и вдвоём они отогнали четвероного разбойника.
К воротам начали подъезжать важные гости – городские начальники с жёнами и детьми. Для них из дома вынесли все стулья и скамьи. Люди попроще столпились в отдалении. Тем временем конюхи набивали очаг соломой, ветошью, войлоком. Припасли сухие дрова и берёсту – для лучшего разжигания: Еремей запалил факел.
Томас Томасович ещё раз осмотрел приготовленное и поднял руки, призываю ко вниманию зрителей.
Мадам и месье! Дамы и господа! Дорогие сограждане!.. Александр Николаевич Радищев – один из самых просвещенных людей России, писатель и учёный. Он любезно согласился показать нам чудесный физический опыт: полёт монгольфьера! Силь ву пле! Пожалуйста, господин Радищев!..
Александр Николаевич слегка улыбнулся, пригладил седые волосы и произнёс негромко, но чётко, так, что каждое слово было слышно даже стоящим дальше всех:
- Томас Томасович сказал о полёте монгольфьера. Монгольфьер – это воздушный шар. Назван он так в честь французов братьев Жозефа и Этьена Монгольфье, соотечественников нашего уважаемого хозяина. – Радищев повернулся в сторону де Вильнёва. – Восемь лет тому назад они впервые в мире сделали и запустили в небо свой шар. Многие считали это чудом, но никакого чуда тут нет. Вот он лежит на земле, точно такой же, как у братьев Монгольфье. Я его склеил вместе со своими детьми из плотной прочной бумаги. Сейчас Еремей разожжёт очаг, горячий дым и воздух пройдут по рукаву внутрь шара, раздуют его и поднимут вверх. А когда мы обрежем привязь – шар полетит.
Ропот удивления и недоверия прокатился по двору. Радищев подал знак Еремею, и тот сунул горящий факел в пасть печи.
- Остановись, нечестивец! – донеслось от ворот. Сквозь расступившуюся толпу шествовал поп в чёрной развивающейся рясе. – Не слушайте его, дети мои! Это – бунтовщик! Он против матушки царицы, его место – на каторге! – Голос попа неожиданно сорвался до визга. – Ему милость оказали, кандалы с него сняли, а он вместо благодарности сотворил этакую мерзость богопротивную!..
Поп поднял посох, явно намереваясь проткнуть им шар, но Томас Томасович ловко перехватил палку. Крупный нос полковника побагровел, чёрные глаза гневно сверкнули:
- Господин Радищев – мой гость! Это я попросил его показать согражданам то, что давно знает мир и чего никогда не видели сибирские народы. Извольте не мешать научному опыту, святой отец! Адью! Прощайте! – де Вильнёв наклонил голову и указал на ворота.
В это время горячий дым раздул холщовый рукав и начал наполнять шар. Складки огромного бумажного тела стали расправляться, а тупой нос неожиданно задрался вверх. Поп вздрогнул, испуганно перекрестился и, подбирая полы рясы, осыпая всех проклятиями, поспешно выкатился со двора.
Толпа взволнованно вздохнула и замерла. Десятки глаз неотрывно следили за «чудищем». А шар толстел, трепетал, словно живой, потягивался всем телом… наконец дым и горячий воздух заполнили его целиком. Радищев плотно перетянул шнурком горловину и убрал рукав. Теперь шар рвался с привязи, будто молодой норовистый жеребец.
- Внимание!.. – Александр Николаевич предупреждающе поднял руку. – Дети… Подъём!
Катюша и Павлик дружно стриганули ножницами, освобождая пленника от шёлковых пут. Шар на мгновение замер, словно не веря обретённой свободе, и стремительно рванулся в синее небо.
Он взмыл над домом, над широким двором, оставив далеко внизу позолоченные ранней осенью деревья, скопища домов и домишек на берегах широкой Томи и узенькой Ушайки, остатки старой деревянной крепости – весь небольшой сибирский городок Томск.
- Летит!.. Летит!.. – толпа выплеснулась со двора на улицу, устремилась вслед за шаром на взгорок, туда, где, поблескивая куполами возвышалась недостроенная Воскресенская церковь.
Где-то грозно, неистово загудел колокол, приказывая ослушнику вернуться: никому не позволено подниматься выше божьего храма! Но монгольфьер уже оставил внизу и кресты на куполах. Неведомые силы влекли его вверх, к облакам, где до него жили только птицы…
![]() Борис Климычев
Борис Климычев
Батеньков
Двадцать лет в каземате томился,
Не сумели его покорить,
Но почти говорить разучился,
Не с камнями же там говорить?
Мчала тройка. Сутулился ссыльный,
И шептались возницы не зря:
Истощал, но видать, не бессильный,
Коль свалить собирался царя. Г.С. Батеньков
Вот и Томск, где на взгорье церквушки, (в юности)
Где собаки сдыхают с тоски.
Где в соседстве с дворцами – лачужки
И свистят по ночам варнаки.
Он пытался здесь строить дороги,
Проектировал зданья, мосты. Нынче бронзовый, тихий и строгий
Смотрит пристально из темноты.
Дом Батенькова
![]()
![]() Родился и вырос Гавриил Степанович в г.
Тобольске, окончил кадетский корпус в Петербурге, участвовал в войне 1812
г. одиннадцать раз был ранен, пережил мучения французского плена. В Сибирь
отправился по собственному желанию после того, как в 1817
г. блестяще экстерном защитил диплом в Петербургском институте путей
сообщения. Сразу по приезде в Томск Батеньков горячо принялся за порученные ему
дорожно-строительные работы. По его проекту укреплены берега Ушайки, возведён
деревянный мост через неё, устроены новые мостовые и водосборные бассейны,
питающиеся питьевыми ключами.
Родился и вырос Гавриил Степанович в г.
Тобольске, окончил кадетский корпус в Петербурге, участвовал в войне 1812
г. одиннадцать раз был ранен, пережил мучения французского плена. В Сибирь
отправился по собственному желанию после того, как в 1817
г. блестяще экстерном защитил диплом в Петербургском институте путей
сообщения. Сразу по приезде в Томск Батеньков горячо принялся за порученные ему
дорожно-строительные работы. По его проекту укреплены берега Ушайки, возведён
деревянный мост через неё, устроены новые мостовые и водосборные бассейны,
питающиеся питьевыми ключами.
В 1820 г. по приглашению генерал-губернатора Сибири М.М. Сперанского Г.С. Батеньков переехал в Петербург на службу в Сибирском комитете. Однако в 1825 г. он был арестован как причастный к декабристскому движению.
Единственный сибиряк, разделивший участь декабристов (хотя и не принимавший
участия в восстании на Сенатской площади в 1825г. в Петербурге), говорил: «Я –
декабрист по судьбе и решению суда». Он понёс самую тяжёлую кару. После почти
20-летнего заключения в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской
крепости он был сослан в Томск. Здесь он проживал в деревянном двухэтажном доме
местного исправника Николая Ивановича Лучшего по пер. Благовещенскому напротив ![]() Благовещенского собора. Ныне на каменном здании,
построенном на месте дома Н.И.Лучшева, установлена мемориальная доска с
надписью «На этом месте стоял дом, в котором в 1846-1856 гг. проживал декабрист
Гавриил Степанович Батеньков». Его деятельность в Томске была весьма
многогранна. Архитектор, строитель, публицист Г.С. Батеньков много сделал для
благоустройства и застройки города.
Благовещенского собора. Ныне на каменном здании,
построенном на месте дома Н.И.Лучшева, установлена мемориальная доска с
надписью «На этом месте стоял дом, в котором в 1846-1856 гг. проживал декабрист
Гавриил Степанович Батеньков». Его деятельность в Томске была весьма
многогранна. Архитектор, строитель, публицист Г.С. Батеньков много сделал для
благоустройства и застройки города.
Под его руководством в г. Томске была построены шоссейная дорога и мостовые в
центре города и вдоль набережной реки Ушайки, была произведена отделка выезда
на Юрточную гору, построен бассейн-водозабор, сооружен деревянный мост через
реку Ушайку и т.д.
К идее строительства нового деревянного моста через реку Ушайку, вместо
старого, Батеньков относился с особым интересом. В письме к своему другу А. А.
Елагину от 24 мая 1817 г. Батеньков писал: ”Теперь занимаюсь проектом моста и
хочется построить оный аркою из железа на каменных быках”. Но вместо
задуманного железного, Батеньков построил деревянный, прочный мост,
прослуживший томичам почти сто лет.
![]()
![]()
ул. Набережная р. Ушайки
пл. Батенькова
здесь в центре трамвайного кольца
стоит памятник
Г.С. Батенькову
![]()
ТОМСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ
![]()
![]() Справа
от главного входа в парковую зону Белого озера расположено необычное здание,
представляющее собой архитектурный стиль – эклектику. Это – Дом науки,
построенный в 1912 г. по проекту А.Д.Крячкова (пл. Соляная, 4)
Справа
от главного входа в парковую зону Белого озера расположено необычное здание,
представляющее собой архитектурный стиль – эклектику. Это – Дом науки,
построенный в 1912 г. по проекту А.Д.Крячкова (пл. Соляная, 4)
![]()
![]() Строительство этого здания было осуществлено по
инициативе известного сибирского просветителя Петра Ивановича Макушина, который
стремился к распространению университетского свободного образования в России.
Строительство этого здания было осуществлено по
инициативе известного сибирского просветителя Петра Ивановича Макушина, который
стремился к распространению университетского свободного образования в России.
![]() В 1868 г. П.И. Макушин переехал с Алтая в Томск
смотрителем духовного училища. В 1873 г. он открыл первые в Сибири книжный
магазин и библиотеку. Этот первый сибирский книжный магазин из маленькой
лавочки с ничтожным оборотом, где сам П.И. Макушин был служащим и хозяином,
превратился в один из самых крупных магазинов в Сибири и России. Выбор книг в магазине
Макушина был широк и разнообразен, выписывались новинки русской и зарубежной
литературы.
В 1868 г. П.И. Макушин переехал с Алтая в Томск
смотрителем духовного училища. В 1873 г. он открыл первые в Сибири книжный
магазин и библиотеку. Этот первый сибирский книжный магазин из маленькой
лавочки с ничтожным оборотом, где сам П.И. Макушин был служащим и хозяином,
превратился в один из самых крупных магазинов в Сибири и России. Выбор книг в магазине
Макушина был широк и разнообразен, выписывались новинки русской и зарубежной
литературы.
![]() В 1874
г. он основал газету «Томский листок», позднее переименованную в «Сибирскую
жизнь». В 1882 г. по его инициативе было основано Общество попечения о
начальном образовании с девизом «Ни одного неграмотного». Общество это снабжало
бедных учеников учебными пособиями. Оно открыло несколько начальных училищ,
женскую профессиональную школу. Одним из главных дел П.И. Макушина было
учреждение народной бесплатной библиотеки, открытой в 1884
г., а в 1887 г. её перевели в специально построенное каменное здание на углу
ул. Маркса (бывшая ул. Духовская) и пер. 1905 года (бывший Хомяковский
переулок). На средства потомственного почётного гражданина, купца первой
гильдии Семена Степановича Валгусова (хант или селькуп по национальности) было
построено каменное двухэтажное здание специально для первой в Сибири Бесплатной
народной библиотеки-читальни. Цель её создания была в том, чтобы «дать
возможность лицам, получившим начальное образование… поддержать приобретённые
знания и продолжить своё обучение путём чтения». В фонде библиотеки имелось
тогда всего 500 книг. По правилам библиотеки, на дом читателям выдавалась одна
книга сроком до трёх недель под залог (от 50 коп. до 3 руб.) или ручательство
известных в городе людей. За каждый просроченный день взималась копейка.
В 1874
г. он основал газету «Томский листок», позднее переименованную в «Сибирскую
жизнь». В 1882 г. по его инициативе было основано Общество попечения о
начальном образовании с девизом «Ни одного неграмотного». Общество это снабжало
бедных учеников учебными пособиями. Оно открыло несколько начальных училищ,
женскую профессиональную школу. Одним из главных дел П.И. Макушина было
учреждение народной бесплатной библиотеки, открытой в 1884
г., а в 1887 г. её перевели в специально построенное каменное здание на углу
ул. Маркса (бывшая ул. Духовская) и пер. 1905 года (бывший Хомяковский
переулок). На средства потомственного почётного гражданина, купца первой
гильдии Семена Степановича Валгусова (хант или селькуп по национальности) было
построено каменное двухэтажное здание специально для первой в Сибири Бесплатной
народной библиотеки-читальни. Цель её создания была в том, чтобы «дать
возможность лицам, получившим начальное образование… поддержать приобретённые
знания и продолжить своё обучение путём чтения». В фонде библиотеки имелось
тогда всего 500 книг. По правилам библиотеки, на дом читателям выдавалась одна
книга сроком до трёх недель под залог (от 50 коп. до 3 руб.) или ручательство
известных в городе людей. За каждый просроченный день взималась копейка.
В 1901 году по инициативе П.И. Макушина было создано Общество содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии, в котором он состоял председателем.
![]() В ограде Дома науки расположен небольшой
сквер, в правом углу которого в 1926 г. был похоронен почётный гражданин Сибири
и Томска П.И. Макушин. На скромной могиле установлена стела со словами «Ни
одного неграмотного» и в соответствии с завещанием – рельс с постоянно горящей
лампочкой как символ пути к свету, пути к знаниям.
В ограде Дома науки расположен небольшой
сквер, в правом углу которого в 1926 г. был похоронен почётный гражданин Сибири
и Томска П.И. Макушин. На скромной могиле установлена стела со словами «Ни
одного неграмотного» и в соответствии с завещанием – рельс с постоянно горящей
лампочкой как символ пути к свету, пути к знаниям.
Первые почтовые открытки с видами Томска, по-видимому, следует отнести к началу 1900 года. С большой степенью вероятности можно предположить, что издателем этой серии выступил П.И. Макушин.
![]()
Вчера и …
![]()
Почтамтская улица
Начало XX века
Новособорная площадь.
Троицкий кафедральный собор
![]()
![]() … сегодня
… сегодня
Новособорная пл. пр. Ленина
![]()
Вячеслав Яковлевич Шишков родился в г. Бежецке Тверской губернии в купеческой семье.
![]() В
1891-1915 гг. жил и работал в Томске. Будучи техником, а затем инженером в
Томском округе путей сообщения, он возглавлял ряд экспедиций по изучению рек
Сибири и Горного Алтая, разрабатывал проекты постройки трактов, дорог, каналов.
Путешествия с изыскательскими партиями обогатили Шишкова знаниями об условиях
жизни сибирского крестьянства, малых сибирских народов, позволили собрать
обширный этнографический материал.
В
1891-1915 гг. жил и работал в Томске. Будучи техником, а затем инженером в
Томском округе путей сообщения, он возглавлял ряд экспедиций по изучению рек
Сибири и Горного Алтая, разрабатывал проекты постройки трактов, дорог, каналов.
Путешествия с изыскательскими партиями обогатили Шишкова знаниями об условиях
жизни сибирского крестьянства, малых сибирских народов, позволили собрать
обширный этнографический материал.
В 1915 г. В.Я.Шишков переезжает из Томска в Петербург. Томск же был городом, в котором, по словам самого Шишкова, прошли около 20 лучших лет его жизни.
![]() С 1917 г. он целиком посвящает себя литературной
деятельности. Крупнейшими произведениями его творчества стали романы «Ватага» и
«Угрюм-река», историческая эпопея «Емельян Пугачёв».
С 1917 г. он целиком посвящает себя литературной
деятельности. Крупнейшими произведениями его творчества стали романы «Ватага» и
«Угрюм-река», историческая эпопея «Емельян Пугачёв».
![]() С 1911 по 1915
г. в этом доме (ул. Крестьянская, ныне ул. Шишкова, 10) жил выдающийся русский
писатель В.Я. Шишков. Здесь он написал свое первое крупное произведение -
повесть «Тайга». В память об этом на главном фасаде здания в 1953
г. была установлена мемориальная доска.
С 1911 по 1915
г. в этом доме (ул. Крестьянская, ныне ул. Шишкова, 10) жил выдающийся русский
писатель В.Я. Шишков. Здесь он написал свое первое крупное произведение -
повесть «Тайга». В память об этом на главном фасаде здания в 1953
г. была установлена мемориальная доска.
ул.Шишкова,10 (после реставрации)
По пути в сибирскую ссылку в Томске побывали А.Н. Радищев, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Короленко (его очерк «Содержащая» был написан в камере томской тюрьты). Здесь на вольном поселении жили Г.С. Батеньков и Ф. Толь, М.А Бакунин и Ф.В. Волховский, К.М. Станюкевич. Через Томск пролёг путь Г.И. Успенского, изучавшего переселенческое движение крестьянства, А.П. Чехов
![]()
Н. Касьянова
***
В Сибири суровой мы с детства живём,
О ней и рассказ свой сейчас поведём.
Наш город старинный, красивый, чудной,
«Афины Сибирские», вот он какой.
В XVII веке наш Томск зародился,
Но в «беге времён» до чего изменился!
Конечно, не шутка – 400 лет!
Немало в нём тайн и немало в нём бед.
Здесь в ссылке бывал Ибрагим Ганнибал,
И старец Кузьмич нам загадку задал.
На «вольных хлебах» жили здесь декабристы,
Матюшкин и Пущин, друзья-лицеисты,
Наш Томск посетил гуманист Достоевский,
Проездом бывал Николай Чернышевский.
Здесь были Бакунин, Волховский и Толь –
Невинные люди, познавшие боль.
О них наше слово сейчас прозвучит,
Оно и взволнует, и удивит.
![]()
Краеведческий музей
(ранее усадьба И. Д. Асташева, Архиерейский дом)
Римма Кошурникова
ДЕРЕВЯННОЕ СОЛНЫШКО
![]() Захарка ворочался с боку на бок, прижмуривал
глаза, пытаясь удержать остатки сна, но всё было напрасно. Где-то в углу, над
самым ухом надоедливо трещал сверчок. Снизу доносилось размеренное дыхание
отца. Покатилась, задребещала миска, испуганно ворохнулись куры: это кот
шарился в сенцах, в надежде что-нибудь стащить, полакомиться…
Захарка ворочался с боку на бок, прижмуривал
глаза, пытаясь удержать остатки сна, но всё было напрасно. Где-то в углу, над
самым ухом надоедливо трещал сверчок. Снизу доносилось размеренное дыхание
отца. Покатилась, задребещала миска, испуганно ворохнулись куры: это кот
шарился в сенцах, в надежде что-нибудь стащить, полакомиться…
Мальчик тихонько слез с печи, скользнул в сени, на цыпочках пробрался в мастерскую. Знакомый запах древесной стружки и смолы ударил в нос. Серый утренний свет едва побивался сквозь крошечное
В Томске сохранилось много старинных домов. Они украшены чудесной деревянной
резьбой, которую выполнили
замечательные народные мастера. Их имена
неизвестны, но удивительное искусство радует
нас и сегодня.
оконце. Вот и верстак.
Рука дом Леонтия Желябо
нащупала гладкую тёплую
поверхность дерева – тут! Тут
его «солнышко», первое в жизни!
Сколько мук пришлось вытерпеть,
Пока оно появилось на свет!..
Сначала никак не хотел получаться рисунок. Захарка начертит его на бумаге, зовет:
- Тять, глянь…
Отец постоит молча и отойдёт. Опять не то! Слёзы против воли заволакивают глаза, но плакать не моги, не то отец и вовсе не допустит до верстака. Захарка мазнёт рукавом по носу и принимается за новый припорх-рисунок…
Однажды отец долго перебирал его наброски и вдруг отложил один в сторону:
- Этот режь… Подмогнуть или – сам?
- Сам! – Захарка закусил губу, чтобы не выдать охватившее его радостное волнение. Постепенно уложил на верстак выструганную заранее желтовато-золотистую кедровую доску и приколол к ней припорх. Взял большую иглу и прошёлся уколами по линиям рисунка, затем простукал узор мешочком с угольной пылью. Теперь можно было припорх убрать: чёрная пыль сквозь дырочки в бумаге припорошила узор, и рисунок «перевёлся» на доску. Настала очередь поработать главным инструментам резчика по дереву – долотам и стамескам…
Сколько раз Захарка видел, как работает отец, - вроде бы легко, красиво, просто! А сам попробовал резать по испорченным заготовкам – ох и намаялся, пока заставил инструменты слушаться. Он их нацеливает по рисунку, а они, точно живые, вывертываются и – по руке норовят, по руке!.. Долго не заживали ссадины и царапины. Но, как любит повторять мама, «терпение и труд всё перетрут». Зато сейчас вот они – тринадцать деревянных лучей-лепестков, один к одному, ни шершавинки, ни занозинки, воздушные и кружевные… Сегодня Захарка с отцом поднимут их под самую крышу нового дома, развернут по кругу, укрепят – и будет деревянное «солнышко» улыбаться встречь настоящему, радовать и веселить людей…
Утро выдалось на редкость тихое и праздничное. Нежно голубело небо. Ещё недавно за высокими заплотами бушевала черёмуха, наполняя воздух крепким горьковатым запахом, а теперь невесомый тополиный снег неслышно оседал пушистыми сугробиками на крышах домов, на завалинках, на воротах. Задорно и звонко покрикивали петухи, здороваясь или споря друг с другом. То там, то тут во дворах поскрипывали-повизгивали колодезные вороты, поднимая тяжёлые бадейки с ключевой водой.
Захарка вышагивал посередь улицы, стараясь приноровиться к размашистой, уверенной походке отца. Многое сегодня было у Захарки впервые: новая холщовая рубаха, вышитая матерью специально к этому дню, настоящие, со скрипом, сапоги, а главное – первый «его» дом, первое сработанное его руками «солнышко». Теперь он будет помощником отцу! Гордость переполняла Захарку, тугим комком подступала к горлу, теснила грудь, ярким румянцем заливала щёки…
Дом ещё прятался в строительных лесах от посторонних любопытных взглядов. В стороне от него кучкой стояли бородатые мужики в распоясанных рубахах – строительные рабочие. Перед ними суетился, что-то говоря и показывая на леса короткой ручкой, маленький толстоватый человек. Он был во всем белом – от шляпы до парусиновых туфель. «Снеговик да и только», - усмехнулся Захарка. Он знал: это – архитектор. По его проекту строили дом, а вот украшать, наряжать – позвали отца! Захаркин отец славился своей древесной резьбой на весь Томск, а может быть – и дальше!
Архитектор увидел подошедших и заспешил к ним.
- Василий Захарович, вас ожидаем, - он приподнял шляпу, поздоровался. – У вас всё готово? Вот-вот приедёт хозяин – принимать нашу с вами работу. Надобно леса поскорей убрать.
- Уберём, - коротко отозвался отец.
- А как же «солнышко»? – встревожился Захарка.
![]() - О чём речь, молодой человек? – повернулся к нему
архитектор.
- О чём речь, молодой человек? – повернулся к нему
архитектор.
- Розетку для фронтона резал. Сам, от начала до конца, - ответил за сына Василий Захарович и, потрепав сына по курчавой голове, добавил: - Вознесём твое «солнышко», как ему положено быть, под самую крышу. Пущай улыбается!
Леса убрали быстро – словно отпала ставшая ненужной шелуха, и дом, как добрый молодец из сказки, поднялся статный да пригожий.
- Хорош! – не сдержавшись, восхитился архитектор. – Не дом – дворец!.. Сердце зашлось, ей богу… Спасибо! Спасибо, голубчики… - и он бросился пожимать строителям руки.
Захарка засиял. Отец смущенно покашливал и пощипывал свою бороду. В её густых тёмных кудрях, словно тополиный пух запутался, кое-где промелькивало белое.
Архитектор внимательно поглядел на эти приметы ранней седины и тоже кашлянул:
- Все хочу спросить вас, Василий Захарович… Сколько уж домов с вами сработали – почему вы нигде не ставите свою метку? Куда-нибудь в узор вплели бы свои инициалы… Художники подписывают свои работы, скульпторы, ювелиры, даже гончары, а вы – мастер-чистодеревщик, художник своего дела – нет. Пройдёт время – и не будут знать люди, кто подарил им такую красоту. Несправедливо!..
![]() Отец долго смотрел на затейливое кружево
карнизов, причудливую вязь балконных решёток, на высокие окна в резных
кокошниках, на чешуйчатый шатёр главного терема, увенчанный шпилем, к которому
тянулись клювами сказочные птицы, на «солнышко» - розетку под самой крышей…
Отец долго смотрел на затейливое кружево
карнизов, причудливую вязь балконных решёток, на высокие окна в резных
кокошниках, на чешуйчатый шатёр главного терема, увенчанный шпилем, к которому
тянулись клювами сказочные птицы, на «солнышко» - розетку под самой крышей…
- А зачем?.. – наконец ответил он и вздохнул. – Кто такой Васька-чистодеревщик? Кто знает? Был – и нету. Дед Василий по дереву работал, отец Захар резал – мне ремесло передал, я – ему, - кивнул в сторону сына. – А красота сама за себя слово скажет. Она на всех одна. Не след ее присваивать. Правду говорю, Захар? – и мальчик почувствовал на плече тяжёлую, сильную руку отца.
![]()
Дом купца Л.Д. Желябо (ул. Красноармейская, 67)
Толковый словарь
Развиднелось (светало)
Вызнать (расспросить)
сей момент (сейчас, сразу, тотчас)
загодя (заранее)
сунулся с вопросом (спросил)
мигом (очень быстро)
полость шара (пустота)
смотрели лучисто (светились)
пораженный обхождением (удивился)
комендант города (начальник войск крепости или укрепленного района; ведающий надзором за сохранением порядка)
нечестивец (порочный человек, грешник)
именитые гости (почтенные и знаменитые)
монгольфьер (франц. Воздушный шар, назван по фамилии изобретателей братьев Монгольфьер)
камзол (старинная мужская верхняя одежда, обычно без рукавов)
каторга (самые тяжелые принудительные работы для заключенных в тюрьмах и других местах с особо суровым режимом)
кандалы (в царской России и других странах: железные кольца с цепями, надеваемые на руки и ноги узнику)
ослушник (тот, кто поступает своевольно, кто ослушался кого-нибудь)
процессия (торжественное шествие)
пимы (в Сибири, у северных народов: меховые сапоги; в северных областях то же самое, что и валенки)
бунтовщик (неспокойный, всегда протестующий человек, призывающий к решительным действиям, к ломке старого)
ветошь (ветхие вещи, протирка, тряпье, которым вытирают что-то)
бадья (широкое низкое ведро)
мундир (военная или гражданская форменная одежда)
ропот (недовольство выражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами)
ряса (у православного духовенства: верхняя длинная одежда с широкими рукавами)
холщовый (льняная ткань из толстой пряжи, в прежние времена – кустарной выделки)
очаг (устройство для разведения и поддерживания огня)
проталина (место, где стаял снег и открылась земля)
убеждение (прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-то, точка зрения)
страстный (проникнутый сильным чувством)
божественно (1. относящийся к религии, церковный; 2. очаровательный, прекрасный)
купец (богатый торговец, владелец торгового предприятия)
пронзенное (проколоть глубоко, насквозь)
благих вестей (то же, что хороший)
внезапно (вдруг, неожиданно)
собеседник (тот, кто участвует в беседе)
университет (высшее учебное заведение и одновременно научное учреждение)
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений.
Российская академия наук Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 стр. ISBN 5- 89285-003-Х
Содержание
В краю кедровом
С. Заплавный. Сибирское лето ……………………………………………… 2
Могучи сибирские реки ……………………………………. 2
В. Колыхалов. Сибирь ……………………………………………………… 2
Реки, озёра и болота Томской области …………………………………… 3-4
Г. Жидковский. Запорошены ресницы ……………………………………... 5
П. Дедов. В зимний день …………………………………………………... 6-8
Красота родного края
П. Дедов. Перо жар-птицы …………………………………………………. 9
П. Дедов. Морок ……………………………………………………………. 10
П. Дедов. Белая гроза ……………………………………………………. 10-11
Н. Волокитин. Пловцы …………………………………………………… 11-12
Н. Волокитин. Браконьер ……………………………………………….. 12-13
Ю. Чернов. Обские баобабы …………………………………………… 13-15
Сказания, легенды о Сибирском крае
Татары. Верность …………………………………………………………. 15-17
Дочь Земли ………………………………………………………. 18-21
Три совета отца …………………………………………………….. 22
Эвенки. Кукушка ………………………………………………………….. 23-24
Снегирь ……………………………………………………………. 25
Ненцы. Первая кукушка …………………………………………………… 26
Манси. Отчего у зайца длинные уши …………………………………….. 27
Хакасы. Лягушка и Журавль ……………………………………………… 28-29
Селькупы. Богатырь Уняны ……………………………………………… 29-31
Русские. Чайки и красавица Ангара …………………………………….. 31-32
Птичка – носок как спичка ………………………………………. 32
Сибирскими тропами
П. Блиновский. Поэма о Ермаке ………………………………………….. 33-34
В. Антух. «Из цикла землепроходцы» …………………………………….. 34
Г. Вяткин. Над Томью ……………………………………………………… 35
Лесная растительность Томской области ……………………………….. 36-37
Ель – стройная и гордая …………………………………………………….. 38
Корабельная роща ………………………………………………………… 39-40
В. Сердюк. Сосны ……………………………………………………………. 40
М. Михеев. Следы …………………………………………………………… 41
Томские извозчики …………………………………………………………… 42
Героические личности в Сибири
Н. Хонычев. Потанину ………………………………………………………. 43
Ю. Попов. Последнее путешествие Потанина …………………………. 44-45
Лагерный сад… его прошлое и настоящее ……………………………… 46-47
С. Заплавный. Рассказ о том, как Еремеев у стен города нашёл
горнорудное железо ……………………………………… 48-49
Гарнизон давным-давно …………………………………………………….. 50
С. Заплавный. Многоцветна Сибирь ……………………………………… 51
Р. Кошурникова. Космонавт Руковишников ……………………………. 52-53
Моя малая родина
С. Привалихина. Дальняя Сибирская Украина и Сибирские Афины ……. 54
В. Пухначёв. Над Томью широкой …………………………………………. 55
Край любимый ………………………………………………… 55
Легенда о Белом озере …………………………………………………… 56-58
Томск ссыльный …………………………………………………………. 59-60
А. Пушкин. «Моя родословная» ……………………………………………. 61
Н. Хонычев. Ганнибал ………………………………………………………. 61
Н. Радищев. Ответ …………………………………………………………… 62
Р. Кошурникова. Чудище под облаками ………………………………… 63-65
Б. Климычев. Батеньков …………………………………………………. 66-67
Томск литературный ……………………………………………………... 68-69
В.Я. Шишков ………………………………………………………………… 70
Н. Касьянова. «В Сибири суровой…» ……………………………………... 71
Р. Кошурникова. Деревянное солнышко ………………………………… 72-74
Толковый словарь …………………………………………………………. 75
Скачано с www.znanio.ru
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.