
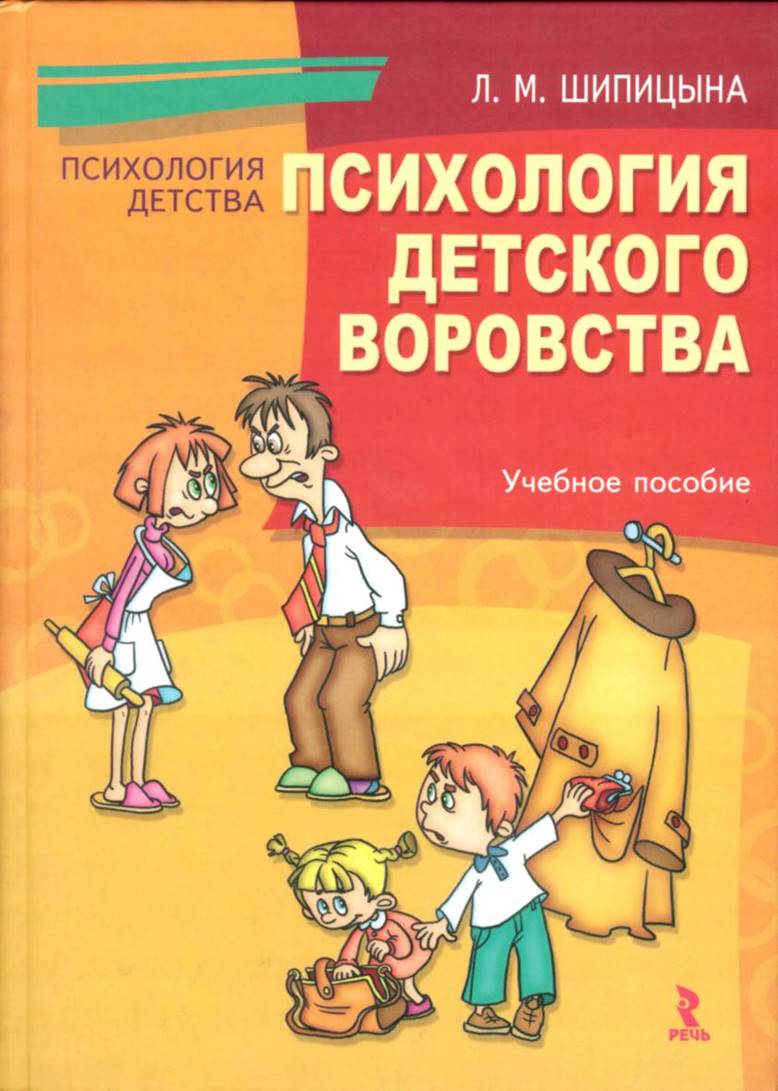
ББК 88.4 Ш63
Рецензенты:
Е. С. Иванов — доктор медицинских наук, профессор (Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра специальной психологии);
С. Т. Посохова — доктор психологических наук, профессор (Институт специальной педагогики и психологии, зав. кафедрой психологии развития личности).
Шипицына Л. М.
Ш63 Психология детского воровства: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2007. - 276 с.
ISBN 5-9268-0577-5
В учебном пособии выделены современные проблемы девиантного поведения детей и подростков; их причины, связанные с нарушением родительской привязанности и семейным неблагополучием. Основной акцент делается на психологических аспектах воровства как наиболее типичной и распространенной формы девиантного поведения детей и подростков. Рассматриваются типология, причины воровства и их особенности с позиции возраста, а также в качестве патологического фактора. Представлены направления психокоррекционной работы и профилактики детского воровства, а также психологические рекомендации для педагогов и родителей.
Учебное пособие может быть использовано студентами, аспирантами, изучающими психологические, социальные, педагогические науки, а также педагогами, психологами, социальными работниками.
© Л. М. Шипицына, 2007
© Издательство «Речь», 2007
ISBN 5-9268-0577-5 © И. Могутова, иллюстрации, обложка, 2007
Оглавление
Предисловие........................................................................ …………………………..5
Глава 1. Девиантное поведение детей и подростков.... ……………………..……13
1.1. Причины девиантного поведения.................. …………………………..16
1.2. Особенности поведенческих реакций подростков на воздействия среды …………… …………….34
Глава 2. Нарушение родительской привязанности - основа девиантного поведения ребенка............................................................................................ ………………………….43
2.1. Привязанность и ее формы.............................. ………………………….43
2.2. Поведение привязанности............................... ………………………….46
2.3. Нарушение привязанности.............................. …………………….…….50
2.4. Материнская привязанность и ее нарушение ………….…………..….60
2.5. Отцовская привязанность и ее нарушение ............................................. 68
Глава 3. Семейное неблагополучие как причина детской девиантности…….....85
3.1. Проблемная семья ........................................... …………………..………94
3.2. Некомпетентная семья .................................... …………………..………97
3.3. Благополучная семья...................................... …………………….….… 100
Глава 4. Воровство как типичная форма девиантного поведения детей и подростков …………………………………………………………….…. 107
4.1. Понятие воровства......................................... ……………………….… 107
4.2. Детское воровство................... .,………........ ……………………….… 113
Глава 5. Причины детского воровства......................... ……………………….… 126
5.1. Импульсивность............................................ ……………………….… 128
5.2. Психологическая неудовлетворенность……………………………… 132
5.3. Неразвитость нравственных представлений и воли…………………. 141
Глава 6. Возрастной аспект воровства........................ …………………………… 153
6.1. Воровство в дошкольном возрасте ............. ……………………….…...153
6.2. Воровство в школьном возрасте ................. ……………………….….. 162
6.3. Типология детского воровства.................... ……………………….….. 171
Глава 7. Воровство как форма психологической зависимости ………………...176
Глава 8. Клептомания как патологическая форма воровства ……………….….188
Глава 9. Психокоррекция воровства............................ ………………………….. 201
9.1. Основные направления коррекционной работы ……………….. 201
9.2. Игротерапия................................................... ………………………….. 215
9.3. Сказкотерапия............................................... ……………………..…… 221
Глава 10. Профилактика детского воровства.............. ……………………..…… 231
Приложения
Приложение 1. Рекомендации психолога родителям дошкольников………….237
Приложение 2. Рекомендации психолога родителям школьников………..…253
Литература...................................................................... ……………………….. 272
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое учебное пособие — первая в нашей стране попытка системного изложения основных проблем психолого-педагогического, социально-психологического и клинико-психологического порядка в отношении наиболее распространенной формы девиантного поведения детей и подростков — воровства. Эта область в педагогике относится к «стыдным» проблемам и упоминается лишь вскользь в исследованиях, связанных с поведением трудных подростков, либо не рассматривается вообще. В медицинской литературе описывается патологический аспект воровства — клептомания. Психологические механизмы воровства в разные возрастные периоды у ребенка, роль биологических и социальных факторов, в частности, связанных с нарушением родительской привязанности и межличностными отношениями в семье, — рассматриваются очень кратко в единичных работах. Это касается также вопросов профилактики детского воровства начиная с раннего возраста, а также применения различных форм и методов психокоррекционного воздействия с ворующим ребенком и нормализации семейных взаимоотношений.
Между тем основную долю среди преступлений подростков в последние годы составляют кражи (более 60%). Значительная часть подростковых преступлений приходится на грабежи, хулиганство, разбои, угоны автомобилей, умышленное уничтожение или повреждение имущества, убийство, мошенничество.
Отмечается высокая криминальная активность детей в возрасте до 14-15 лет. Количество общественно-опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, практически не снижается. Ежегодно органами внутренних дел осуществляется направление в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (школы, колонии, училища) 6-8 тысяч несовершеннолетних, а требуется как минимум в 5 раз больше. Наиболее частой причиной направления подростков в такие учреждения является воровство, которое выявляется более чем у 95% контингента воспитанников.
Преступность среди несовершеннолетних во многом связана с неблагополучием в семье, ослаблением воспитательной функции школы или детского дома, недостаточно эффективной работой по обеспечению занятости подростков.
Известно, что «преступниками не рождаются, преступниками становятся». Сочетание неблагоприятных биологических, социально-психологических, семейных и других факторов искажает весь образ жизни детей и подростков, приводит к разным формам девиантного поведения.
Если абстрагироваться от множества конкретных мотивов, толкающих подростков на те или иные преступления, то можно выделить фактор, общий, пожалуй, для всех: они все несчастливы. Спектр эмоций, конечно, многообразен. Это и отчаяние, и разочарованность, и злоба, и обида, и зависть, и чувство неполноценности, и презрение к людям, и жажда реванша и многое другое, но все это несовместимо с состоянием счастья, душевной гармонии, радости (в отличие от злорадства, которое часто сопутствует преступлению.) Иными словами, рост преступности несовершеннолетних свидетельствует о том, что все больше и больше детей в стране чувствуют себя несчастными.
 В 1992-1993 гг. к психологам на консультации и
психокоррекционные занятия вдруг стали часто приводить детей, уличенных в
воровстве. Их количество неуклонно росло. Сначала такая «криминализация» в
группах детей повергла психологов в панику, но постепенно к ней привыкли и
стали говорить, что это устойчивая тенденция, с которой волей-неволей надо
смириться. Но в 1994 г. число «детей-воришек», посещающих психолога, резко
сократилось.
В 1992-1993 гг. к психологам на консультации и
психокоррекционные занятия вдруг стали часто приводить детей, уличенных в
воровстве. Их количество неуклонно росло. Сначала такая «криминализация» в
группах детей повергла психологов в панику, но постепенно к ней привыкли и
стали говорить, что это устойчивая тенденция, с которой волей-неволей надо
смириться. Но в 1994 г. число «детей-воришек», посещающих психолога, резко
сократилось.
В чем же дело? Ведь преступность растет, и детская — в том числе. Очевидно, наступила относительная экономическая стабильность, состояние шока прошло. При этом детское воровство вернулось в неблагополучные слои общества, где, собственно, всегда и обитало. Неблагополучный слой общества увеличился, потому и возрос уровень детской преступности. Отсюда можно сделать два важных вывода. Первый: неблагополучный или маргинальный слой увеличился, за счет чего, естественно, увеличилась и детская преступность по стране. Но маргиналам несвойственно обращаться к психологам. Как и всерьез заниматься воспитанием детей. И второй вывод: случаи детского воровства часто наблюдаются в семьях, где родители — бизнесмены. Если в подобных семьях дети воруют (естественно, речь сейчас не идет о клептомании — серьезном психическом отклонении), то коррекционным мерам, которые в данном случае необходимо принимать, неизбежно препятствует образ жизни родителей. Образ жизни, который они не хотят и не могут изменить, потому что он обеспечивает им высокий уровень доходов. Конечно, они не учат детей воровать, но сами жизненные принципы, взятые на вооружение в этой среде, идут вразрез с наложением на воровство строгого табу.
В богатых семьях сегодня все чаще и чаще отмечаются нарушения морали, нравственности, да и просто искажение понятий любви, совести и порядочности. Так, психологи констатируют, что сегодняшние дошкольники гораздо хуже, чем дошкольники 1980-х, различают нравственные оттенки в поступках людей. По существу, у них две основные характеристики: «плохой» или «хороший». Более точное определение (злой, жадный, грубый, ленивый, вредный и т .д.) вызывает существенные трудности.
Это первые симптомы деградации. Динамика тут ясна: сначала перестают различать оттенки, а потом и основные цвета. В то же время смены ценностных ориентиров, то есть ожидаемой трансформации, не происходит. В массе своей дети не становятся более расчетливыми, предприимчивыми, конкурентными, индивидуалистами, превыше всего ставящими личный успех и благополучие. Иными словами, не приобретают положительных черт, которых так ожидают их состоятельные родители.
Другой вариант. В семьях, где ребенок только лжет, родители воспринимают это как конец света, но если он украл или ворует... Такое не сравнить уже ни с чем. Любая катастрофа покажется обыденным явлением и бунт стихии — сущим пустяком. Никто иной, а родители в чрезвычайном положении, которое необходимо как-то исправить.
Они «кипятятся», «бушуют», «выходят из берегов». Однако вряд ли вся лавина отрицательных эмоций способна сразу прекратить воровство. И мысль, что в семье растет преступник, не будет выходить из головы родителей. Мать и отец теряют покой, им стыдно посмотреть в глаза другим, и жизнь теряет свою привлекательность, неповторимость.
Они резко меняют былое отношение к ребенку. Он будет выводить их из себя по пустякам. Они станут придираться «без повода», воспитывая его день и ночь, подчеркивая, что он стал им неприятен, что они разочарованы в нем и не верят ему. Избрав такую тактику общения с ребенком, родители только толкают его продолжить этот путь, если он его в самом деле начал.
К сожалению, практика свидетельствует о том, что родители не всегда в состоянии предупредить возникновение отклонений в нравственном развитии ребенка. Некоторые из них не обладают необходимым уровнем психолого-педагогической подготовки, другие, в силу объективных причин (занятость на работе, частые командировки, длительные болезни), не имеют возможности уделять достаточно внимания своим детям, общению с ними; наконец, третьи — вообще не желают заниматься воспитанием. Их забота о ребенке, в лучшем случае, ограничивается тем, что они одевают и кормят его. К тому же часто такие родители сами служат ярким образцом отрицательного поведения. Дети в таких семьях не получают соответствующих их возрасту морально-этических знаний и имеют в результате этого пробелы или отклонения в системе субъективных отношений. Некоторые из них уже в раннем возрасте, вследствие продолжительного пребывания в неблагоприятной социальной микросреде, приобретают навыки аморального поведения и обладают определенным жизненным опытом отрицательного характера. Это, конечно, не означает, что ребенок, который воспитывается в неблагоприятной семейной обстановке, фатально обречен стать неполноценной, в нравственном отношении, личностью.
В связи с этим, запрещая какое-то действие, следует, во-первых, всегда давать доступную возрасту ребенка словесную оценку неодобряемому действию. Например, разъяснить, что нельзя брать без разрешения не только данную, конкретную вещь, но и все остальные вещи, принадлежащие другим людям, так как это плохой поступок — кража. Надо стремиться выработать у ребенка не только правильную привычку, но и общее правильное отношение (в данном случае — отрицательное отношение к воровству в целом, а не просто привычку не брать чужие вещи).
Во-вторых, необходимо следить, чтобы ни один, даже самый незначительный проступок ребенка (совершенный им часто по неведению) не оставался незамеченным, не вызывал надлежащую реакцию окружающих. А. С. Макаренко писал по этому поводу, что первый случай детского воровства — это не воровство, это «взял без спросу», а потом это делается привычкой, воровством.
Детские проступки, как правило, не так опасны для окружающих, как для самого ребенка. Если вовремя не остановить ребенка, совершившего первый (пусть даже очень незначительный) проступок, не разъяснить ему в доступной форме ошибочность его действий и не научить, как действовать правильно, у него может постепенно сформироваться неправильное отношение к окружающей действительности, искаженное понимание основных нравственных ценностей, норм и правил поведения, принятых в обществе.
Таким образом, ранняя профилактика нарушений поведения детей должна, по существу, начинаться с первых же дней жизни ребенка. Она заключается в правильной организации систематического, целенаправленного воспитательного воздействия, которое осуществляется, в основном в семье.
Система общественного воспитания, включающая общеобразовательные школы, дошкольные и разнообразные внешкольные учреждения, призвана компенсировать недостатки семейного воспитания, обеспечить коррекцию отношений, личности. Школа, как ведущее и основополагающее звено этой системы, располагает научно-обоснованной методикой воспитания, высококвалифицированными педагогическими и психологическими кадрами, необходимой материальной базой. Все это создает благоприятные возможности для осуществления профилактических мероприятий, направленных на предупреждение девиантного поведения, и, в частности, детского воровства.
Данное учебное пособие посвящено раскрытию различных причин и форм нарушенного (девиантного) поведения у детей разного возраста. Среди них главный акцент сделан на особенностях типичной в наше время для детей и подростков формы девиантного поведения — воровства.
В современной возрастной и педагогической психологии данное явление изучено слабо, а как самостоятельное и актуальное — вообще не рассматривается. Для решения проблемы раннего детского воровства предлагаются в основном педагогические рекомендации или психотерапевтические подходы. В литературе по детской психиатрии данный вопрос рассматривается в рамках проблемы патологии характера и преступного поведения.
Назрела необходимость в интеграции социально-педагогических и медико-психологических подходов, в анализе и коррекции личности «ребенка-воришки».
Методологической основой психокоррекционной работы с воровством могут служить современные концепции о формировании детской привязанности, материнской и отцовской депривации, индивидуальном развитии ребенка и кризисах развития личности, а также о дисфункциональных семьях. Все эти концепции рассматриваются в первых главах книги. Вторая часть пособия посвящена изложению причин воровства детьми и подростками в разном возрасте и при патологии. В третьей части представлены профилактические и коррекционные меры при единичных и повторяющихся случаях воровства, а также рекомендации психолога по тактике поведения и отношения к детям с данной формой девиантного поведения.
Учебное пособие может быть использовано студентами и аспирантами педагогических, психологических, социальных специальностей, а также педагогами, воспитателями, психологами, социальными работниками и просто родителями.
Глава 1
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Состояние детской и подростковой преступности представляет собой одну из острейших проблем российского общества. При этом наблюдается тенденция увеличения количества правонарушений, совершенных детьми и подростками, проживающими в полных семьях. Так, согласно существующим статистическим данным, из числа осужденных несовершеннолетних доля воспитывающихся вне семьи составляет только 5,3%, в неполной семье воспитываются 38,9%, в полной семье — 55,9%. Потребность в неформальном, нерегламентированном общении с родителями у подростков выявляется не меньше, чем в общении со сверстниками. Проведенные исследования показывают, что общением с матерью удовлетворены только 31,1%, а с отцом — всего 9,1 % подростков. Ежегодно примерно 250 тысяч родителей подвергаются мерам административного воздействия за злостное невыполнение своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, в суды направляются материалы для возбуждения до 30 тысяч дел о лишении родительских прав (А. А. Реан, 2004).
В психологической литературе девиантным называется поведение, отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, либо ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм или в ущербе, нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе (Л. М. Злобин, 1973).
В качестве дополнительных признаков выделяются трудности коррекции поведения и особая необходимость в индивидуальном подходе со стороны воспитателей и внимании сверстников (Воспитание трудного ребенка..., 2001).
Несмотря на некоторые различия, большинство авторов главным критерием девиаций считают нарушение норм, принятых в том или ином обществе.
Следовательно, девиантное поведение — это система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам. Это поведение может быть обусловлено как педагогической запущенностью, невоспитанностью, так и психическими аномалиями: неадекватностью реакций, ригидностью, негибкостью поведения, склонностью к аффективным реакциям (Н. В. Вострокнутов, 1996).
Девиантное поведение несовершеннолетних имеет свою специфическую природу и рассматривается как результат социальных причин под влиянием различных воздействий наличность ребенка, подростка, юноши (А. Е. Личко, 1985).
В числе разнообразных, взаимосвязанных факторов, обусловливающих проявление девиантного поведения, выделяются следующие:
ü индивидуальный фактор, действующий на уровне биологических предпосылок асоциального поведения, которые затрудняют социальную адаптацию;
ü психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного и семейного воспитания;
ü социально-психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллективе;
ü личностный фактор, который, в первую очередь, проявляется в активно-избирательном отношении ребенка к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной способности к регулированию своего поведения;
ü социальный фактор, определяющийся социальными и социально-экономическими условиями существования общества.
Выявление негативных влияний затруднено, прежде всего, потому, что они не выступают изолированно, а представляют собой взаимодействие самых разнообразных факторов с разным негативным вкладом в развитие отклоняющегося поведения: человеческое развитие в целом обусловлено взаимодействием наследственности, среды, воспитания и собственной практической деятельности человека.
Истоки учебных неуспехов и нарушенного поведения лежат в педагогической и социальной запущенности, различных отклонениях в состоянии физического и психического здоровья. Эта взаимосвязь была подмечена еще в прошлом веке, но актуальна она и сегодня. По большей части отклонения в поведении обусловлены не врожденными психическими и физиологическими дефектами, а представляют собой последствия неправильного воспитания в семье и в школе.
 Нижняя возрастная граница
отклонений в поведении очень подвижна, и причины отклонений глубоко
индивидуальны. Уже в старшей группе детского сада возможно наблюдение существенных
отклонений. Среди них отсутствие контакта со сверстниками из-за неумения
разрешать конфликты «мирным» путем, стремление нарушить коллективную игру,
познавательную деятельность детей, если в ней не удовлетворяются личные
интересы, отсутствие элементарных навыков и привычек культурного поведения (вежливости,
аккуратности, исполнительности и пр.), обидчивость, упрямство, вспышки
озлобленности, вплоть до проявления агрессивного поведения и воровства.
Нижняя возрастная граница
отклонений в поведении очень подвижна, и причины отклонений глубоко
индивидуальны. Уже в старшей группе детского сада возможно наблюдение существенных
отклонений. Среди них отсутствие контакта со сверстниками из-за неумения
разрешать конфликты «мирным» путем, стремление нарушить коллективную игру,
познавательную деятельность детей, если в ней не удовлетворяются личные
интересы, отсутствие элементарных навыков и привычек культурного поведения (вежливости,
аккуратности, исполнительности и пр.), обидчивость, упрямство, вспышки
озлобленности, вплоть до проявления агрессивного поведения и воровства.
1.1. ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Традиционно причины девиантного поведения подразделяются на две группы:
1) причины, связанные с психическими и психофизиологическими расстройствами;
2) причины, связанные с социальными и психологическими проблемами.
По отношению к подросткам и молодежи в отдельную группу следует выделить причины, связанные с возрастными кризисами.
Остановимся более подробно на каждой из этих групп.
Причины, связанные с психическими и психофизиологическими расстройствами. По данным М. Раттера (1999), серьезными психическими отклонениями страдают от 5 до 15% детей. Если к этому числу добавить менее тяжелые нарушения и эмоциональные расстройства эпизодического характера, становятся ясными размер и суть проблемы. Лишь малая -часть этих детей попадает на прием к психиатру. Раттер указывает, что широта проблемы говорит о том, что в ее решении должны принимать участие педиатры и специалисты, не связанные с медициной, педагоги, психологи, социальные работники. Разумеется, они не могут поставить диагноз, но выделить симптомы и посоветовать, при необходимости, родителям ребенка обратиться к врачу — могут. Среди симптомов психических и психофизиологических расстройств Раттер выделяет, прежде всего, следующие:
ü неадекватность поведения ребенка нормативам, соответствующим его возрасту и половой принадлежности. Например, тревога при разлуке с близкими характерна для младенческого возраста, но весьма редка и поэтому ненормальна для подростков;
ü длительность сохранения расстройства. Кратковременные страхи, припадки, нежелание что-то делать могут испытывать большое количество детей. Но если эти и другие расстройства сохраняются длительное время, это уже отклонение от нормы. То же относится и к колебаниям в поведении и эмоциональном состоянии детей;
ü изменения в поведении ребенка, не характерные для него, особенно если их трудно объяснить только с точки зрения нормального развития и созревания;
ü повторяемость негативных реакций. Например, родители считают, что у ребенка появились ночные кошмары. Не следует обращать на это особого внимания, если об этом известно со слов ребенка. Другое дело, если он просыпается ночью в слезах и это повторяется часто;
ü ряд симптомов, присутствующих одновременно. Как правило, один, существующий изолированно, симптом не должен вызывать беспокойства, в отличие от ситуации, когда имеют место несколько симптомов, особенно если они одновременно касаются разных сторон психической жизни.
Разумеется, все перечисленное следует оценивать в соответствии со средой, в которой живет и развивается ребенок.
 Иногда психиатрический подход к проблеме отклоняющегося
поведения рассматривается как наиболее объективный. Так, широко распространена
концепция акцентуаций характера, то есть временных изменений характера, сглаживающихся
или, наоборот, обостряющихся по мере взросления (А. Е. Личко, 1985). Но этот
подход не может быть единственным, объясняющим причины нарушения поведения.
Девиантному поведению могут способствовать не сами психические аномалии, а, как
считают многие ученые, психологические особенности личности, которые формируются
под их влиянием.
Иногда психиатрический подход к проблеме отклоняющегося
поведения рассматривается как наиболее объективный. Так, широко распространена
концепция акцентуаций характера, то есть временных изменений характера, сглаживающихся
или, наоборот, обостряющихся по мере взросления (А. Е. Личко, 1985). Но этот
подход не может быть единственным, объясняющим причины нарушения поведения.
Девиантному поведению могут способствовать не сами психические аномалии, а, как
считают многие ученые, психологические особенности личности, которые формируются
под их влиянием.
Психологи и психиатры располагают методиками для точной диагностики типа и тяжести отклонения. Они же совместно с педагогом могут выработать меры педагогической коррекции поведения. Педагогам, даже если они считают себя осведомленными в медицине, ставить подростку диагноз ни в коем случае не рекомендуется. Если же учитель в силу профессиональной необходимости узнал диагноз, ему следует особо позаботиться о сохранении конфиденциальности для того, чтобы не усугубить и без того непростую ситуацию и не потерять доверие со стороны ребенка и его родителей.
Связи типов психических отклонений и акцентуации характера с определенными типами правонарушений не выявлено.
По данным В. В. Ковалева (1995), чаще всего совершают преступления подростки с остаточными явлениями органического поражения головного мозга (33,1 % преступлений от общего числа, совершенных детьми с психическими отклонениями), следом за ними — имеющие патологии характера (4,4%) и неврозы (2,6%).
Вопрос о влиянии психопатологии (в любом возрасте) на поведение личности остается дискуссионным. Проблема соотношения психических отклонений и антиобщественного поведения — одна из самых сложных и запутанных в психиатрии. В качестве наиболее распространенных аномалий, сочетающихся с девиантным поведением, называют следующие: психопатия; алкоголизм; невротические расстройства; остаточные явления черепно-мозговых травм и органические заболевания головного мозга; интеллектуальная недостаточность. Люди, имеющие психические расстройства, проявляют сниженную способность к осознанию и контролю своих действий вследствие интеллектуальной или эмоционально-волевой патологии. В то же время отклонения от медицинской нормы нельзя считать конкретными причинами преступных действий, хотя в ряде случаев они сочетаются (В. В. Ковалев, 1995).
М. Раттером (1999) было осуществлено лонгитюдное 30-летнее исследование развития детей, состоявших на учете в специальных детских клиниках в 1920-х годах в США. Автор обнаружил, что судьба детей, которых приводили в клинику с жалобами на асоциальное поведение, в общем-то, довольно печальна. Став взрослыми, они не только чаще подвергались арестам и заключениям, чем дети, составившие контрольную группу (родители которых никогда не обращались в клинику с жалобами на своих детей), но также испытывали гораздо больше трудностей в браке, имели более низкий заработок, весьма однообразные социальные отношения, худшие профессии, гораздо чаще злоупотребляли алкоголем.
Из группы детей с асоциальным поведением только один из шести во взрослом периоде жизни отличался психическим здоровьем; вместе с тем приблизительно в четвертой части случаев были выявлены психопатические расстройства личности. Эти последствия наиболее часто встречались у тех детей, асоциальное поведение которых было и частым, и разнообразным, проявлялось к тому же за пределами семьи или круга друзей ребенка. Дети, которые, став взрослыми, приобрели психопатические личностные расстройства, в детстве значительно чаще проявляли агрессивность по отношению к незнакомым людям или лицам, обладающим авторитетом (М. Раттер, 1999).
X. Ремшмидт (1994) в этиологии девиантного поведения подростков выделяет легкие эмоциональные повреждения без признаков других психических заболеваний; выраженные эмоциональные нарушения, которые манифестируются страхами, тоской или насильственным способом поведения.
Расстройства настроения в ряде случаев сочетаются с патологией влечений, например, патологическое поведение с периодическим неодолимым влечением к поджогам (пиромания) или воровству (клептомания). К этому же ряду расстройств влечений относятся склонность к побегам и бродяжничество. В целом синдром нарушенных влечений характеризуется импульсивностью, стойкостью, чужеродностью и неодолимостью. X. Ремшмидт (1994) говорит о чередовании состояний «усиления влечений и агрессии» и «абсолютной утраты влечений».
Причины, связанные с социальными и психологическими проблемами. Наиболее общей причиной социального характера, как ни странно, является отношение общества к подросткам. Известно, что проблемы подросткового возраста возникли только тогда, когда общество стало рассматривать подростков как особую группу людей и наделять их особыми правами. Приводятся данные исторических исследований, в которых доказано, что вплоть до XVIII в. проблемы трудных подростков, детского и подросткового возраста вообще не существовало ни в медицине, ни в философии, ни в педагогике. В Средние века дети включались во взрослый мир, начиная с семилетнего возраста, и переходного, трудного возраста не существовало.
Только в XVIII в. были сформулированы основные особенности детей как особой группы, требующей специального внимания. В этот период в обществе были определены обязанности родителей по отношению к духовному и физическому благосостоянию своих детей и, как следствие, развился особый тип эмоциональных отношений в семье. Для детей было введено обязательное посещение школы. В последующем веке термин «контроль» по отношению к подросткам постепенно сменился на термин «социализация», и были определены ее основные направления и критерии. Только после Первой мировой войны сформировался взгляд на родителей как на помощников и «слуг» детей. Как ни парадоксально, чем больше внимания общество уделяло подросткам и чем больше особых прав оно им предоставляло, тем острее становилась проблема трудного возраста (Воспитание трудного ребенка..., 2001).
Среди причин, связанных с психологическими и социальными проблемами традиционно выделяют следующие:
1) дефекты правового и нравственного сознания;
2) содержание потребностей личности;
3) особенности характера;
4) особенности эмоционально-волевой сферы.
Как правило, трудности в поведении подростка объясняются сочетанием результатов неправильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в которой он оказался, а также недостатками воспитания. Среди наиболее часто встречающихся причин девиантности в подростковом возрасте ряд ученых называют незавершенность процесса формирования личности, отрицательное влияние семьи и ближайшего окружения, зависимость подростка от требований, норм и ценностей группы, к которой он принадлежит. Кроме того, девиантное поведение у подростков зачастую является средством самоутверждения, протестом против действительности или требований взрослых.
Следует отметить, что агрессивное противостояние «взрослым» нормам, ценностям и требованиям со стороны взрослых, а также следование нормам и правилам референтной группы — наиболее распространенные причины кратковременного трудного поведения. Они же находятся в числе наиболее легко преодолеваемых. Взрослым стоит лишь пересмотреть свое отношение к подросшим детям, и проблема решится сама собой. Проблема молодежной и подростковой субкультуры и попыток с их стороны отгородиться от влияния взрослых выделялась исследователями во все времена, поскольку она связана с возрастными изменениями подростков. В возрасте 13-17 лет подростки и молодежь очень подвержены влиянию «своих» групп. Так, среди причин, побудивших ребенка попробовать наркотики, чаще всего называется нежелание отстать от компании, «быть как все» (31 %). То же самое относится к передаче преступного опыта (Л. М. Злобин, 1973).
Одной из основных причин психологического характера многие исследователи называют низкую самооценку детей, особенно подростков. Самооценка, то есть оценка человеком своих возможностей, качеств и места среди других людей, является важным регулятором поведения. От самооценки, прежде всего, зависят взаимоотношения человека с окружающими его людьми, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Расхождения между притязаниями человека и его возможностями ведут к психологическим срывам, повышенной конфликтности подростка, особенно со взрослыми, эмоциональным срывам и т. д. Подросткам в силу возрастных особенностей в некоторые периоды присуща неадекватная оценка своих возможностей и собственной ценности как личности. Кроме поведенческих и эмоциональных срывов такая ситуация может приводить к депрессии и, как следствие, нежеланию посещать школу, снижению успеваемости, употреблению никотина, алкоголя, наркотиков, поиску поддержки среди «сомнительных» друзей и иным отклонениям в поведении.
Одной из самых распространенных причин социального характера является влияние социального окружения, в котором живет и развивается ребенок. Развиваясь в социально неблагополучной среде, подросток усваивает ее нормы и ценности, даже если они противоречат принятым в обществе, для ребенка они — наиболее правильные, поскольку он не имеет опыта жизни в иной социальной среде.
Причиной может стать и социально благополучная, но низкая по уровню материального обеспечения среда. Если у ребенка, воспитанного в такой среде, не сформированы моральные нормы и ценности, навыки самостоятельного планирования жизни, он может преступить принятые в обществе нормы поведения — сначала в виде протеста против своих условий жизни, а затем нарушить закон с целью повышения материального уровня своего жизни (кражи, махинации и т. д.). Причиной может быть и социально, и материально благополучная среда. При несформированности моральных норм, отклонениях в развитии, конфликтах со взрослыми ребенок, воспитывающийся в благополучной атмосфере, может пуститься на «поиски приключений» или найти поддержку в неблагополучной среде и начать следовать ее законам и нормам.
Существуют концепции, в которых авторы перечисляют смешанные психофизиологические и социальные причины девиантности.
Так, В. Клайн выделяет шесть типов юных правонарушителей с психотерапевтической точки зрения (цит. по: Воспитание трудного ребенка..., 2001).
1. Он просто «валяет дурака». Есть подростки, поведение которых изобилует шалостями и неблаговидными поступками. Что имеется в виду? Поздние приходы домой, обман, школьные прогулы, безбилетное посещение кино. Такие подростки могут постоянно дразнить и обижать братьев и сестер, спустить соседу шину в автомобиле, подложить «дымовушку» на школьной дискотеке, попробовать наркотики. «Шутники» могут без разрешения, не имея прав, укатить на вашем автомобиле, «расписать» краской соседский забор или стену школьного здания.
2. Враг родителей. Причиной плохого поведения таких подростков может быть и месть одному или обоим родителям. С течением времени их враждебность по отношению к ним перерастает в настоящую войну. Нередко враждебность сына-подростка обрушивается на родителей как гром среди ясного неба. Они не понимают, что все эти годы он подавлял в себе негативные чувства, а теперь они вырвались наружу.
3. Испорченный ребенок. Такого ребенка зачастую называют личностью с асоциальной направленностью. Ни в интеллектуальном, ни в эмоциональном развитии у него нет отклонений. Но в поведении у него есть явное отклонение — контакты с правонарушителями. Как правило, это свидетельствует о том, что ребенок вырос в неблагополучной семье. И теперь он живет по нормам своего порочного окружения. Он принял нормы преступного мира и подчиняется им.
4. Органик. Это ребенок с мозговой травмой или задержкой умственного развития. Это «расторможенный» ребенок, у которого нарушения дисциплины объясняются ослабленным интеллектом и отсутствием способностей оценивать свои поступки. К несчастью, таких детей часто дразнят или мучают сверстники, потому что они не такие как все или кажутся беззащитными.
5. Психотики. Это умственно неполноценные, больные дети. Для них характерны галлюцинации, мания преследования, всевозможные навязчивые мысли. Один такой четырнадцатилетний подросток застрелил отца и мать. Объяснял он свой поступок просто: «Мне пришлось это сделать. Они не давали мне застрелить директора школы».
6. Дурное семя. Этот тип подростков называют еще первичными психопатами. Для них характерны хронические правонарушения в течение всей жизни, здесь уже ничего не поможет. Это отклонение проявляется с самого раннего возраста, часто еще в дошкольные годы. Обычно такой ребенок постоянно совершает асоциальные поступки, несмотря на то, что попадается и знает, что наказание неотвратимо. Бго не останавливает даже страх, и все дело в том, что он не в состоянии усвоить правила нормального, порядочного поведения. Он никого не может любить по-настоящему. У него нет чувства ответственности, ему нельзя доверять. Ему неведомы чувства стыда и вины. «Я кричу на него, — рассказывает отец, — я его наказываю, бью. Мне скоро предъявят обвинение, что я издеваюсь над ребенком. А ему все «как с гуся вода». Он как ни в чем не бывало опять принимается за свое».
Причины, связанные с возрастными кризисами. Возрастной фактор определяет своеобразие поведения на разных этапах онтогенеза. Возрастная динамика частоты правонарушений проявляется следующим образом: возраст большинства преступников колеблется в пределах от 25 до 35 лет; количество преступлений неуклонно растет от 14 до 29 лет; максимум случаев совершения преступлений приходится на 29 лет; с 29 до 40 лет наблюдается постепенное снижение; после 40 лет преступления редки.
Очевидно, что о девиантном поведении имеет смысл говорить лишь по достижении определенного возраста, не ранее 6-8 лет. Как правило, маленький ребенок не может достаточно осознавать свое поведение, контролировать его и соотносить с социальными нормами. Только в школе ребенок впервые и по-настоящему сталкивается с принципиальными социальными требованиями, и только с началом со школьного возраста от ребенка ожидается строгое следование основным правилам поведения.
Нарушения социального поведения на ранних этапах онтогенеза, вероятно, представляют собой проблемы психического развития ребенка или невротические реакции, носящие преходящий характер. Например, воровство ребенка пяти лет может быть связано с гиперактивностью, невротической потребностью во внимании и любви, реакцией на потерю близкого человека, задержкой в интеллектуальном развитии, невозможностью получить необходимые питание и вещи.
С момента поступления в школу ситуация принципиально изменяется — начинается этап интенсивной социализации личности в условиях возросших психических возможностей ребенка.
В младшем школьном возрасте (7-11 лет) нарушенное поведение может проявляться в следующих формах: мелкое хулиганство, нарушение школьных правил и дисциплины, прогулы уроков, побеги из дому, лживость и воровство.
Развитие ребенка в школьные годы не всегда происходит безболезненно. В возрасте от 7 до 17 лет растущий человек проходит несколько стадий возрастного развития, на каждой из которых происходят значительные изменения физического и психологического состояния, меняются эмоциональные коммуникативные восприятия. Далеко не все дети при этом хорошо владеют своими мыслями, чувствами и поступками. Часто ломка представлений и установок, изменение желаний и привычек происходит быстро. Ребенок не успевает осознать происходящие изменения и адаптироваться к ним, результатом чего становится появление неуверенности в себе, уменьшение доверия к другим людям, повышенная конфликтность или склонность к депрессии.
Таким образом, дети и подростки в течение школьного периода несколько раз оказываются в кризисных ситуациях (от греческого «сгл818» — поворотный пункт, решение, приговор). Соответственно, многие из них в эти периоды оказываются в разряде детей с трудностями в поведении. Возрастные кризисы рассматриваются как условные обозначения более или менее выраженных состояний конфликтности при переходе от одного периода возрастного развития к другому. Общей причиной кризисов при этом является несоответствие уровня развития личности реальным возможностям ребенка (в деятельности, общении, эмоционально-волевой сфере и др.).
Общеизвестно, что кризис при переходе от младшего школьного к подростковому возрасту связан с физиологическими изменениями организма, отношениями, складывающимися со взрослыми, и опережающим развитием интеллектуальной сферы по сравнению с личностным развитием.
Любой кризис несет в себе и конструктивное, и разрушительное начало. Негативное развитие — только оборотная сторона позитивных процессов, происходящих в переломные периоды. Разрушение прежних интересов, негативизм, оппозиционность — лишь способы, которыми Ребенок создает новую мораль и систему ценностей. От того, как взрослые отреагируют на негативные проявления, во многом будет зависеть качество изменений, происходящих с ребенком. Нельзя не замечать наиболее опасных негативных проявлений, поскольку они могут закрепиться и развиться, но нельзя и «перегибать палку» в излишней строгости и тотальном контроле: это может привести к закреплению негативных проявлений и патологическим изменениям характера.
В. Н. Кудрявцев (1998) считает, что преступная карьера, как правило, начинается с плохой учебы и отчуждения от школы (негативно-враждебного отношения к ней). Затем происходит отчуждение от семьи на фоне семейных проблем и «непедагогических» методов воспитания. Следующим шагом становится вхождение в преступную группировку и совершение преступления. На прохождение этого пути требуется в среднем 2 года. По имеющимся данным, 60% профессиональных преступников (воров и мошенников) начали этот путь в шестнадцатилетнем возрасте.
 Одним из наиболее прочно
связанных с расстройством поведения симптомов является серьезное отставание в
усвоении школьных знаний. Создается впечатление, что сам факт неуспеха
школьного обучения приводит детей к разочарованию и обиде, которые могут превратиться
в протест, агрессию и направленное против общества поведение. Интеллект многих
детей с расстройствами поведения является нормальным, но среди тех, чьи
показатели интеллектуального развития несколько ниже среднего, отмечается
тенденция к увеличению вероятности агрессивного асоциального или
противоправного поведения. Аналогичная картина наблюдается среди детей с органическим
нарушением мозга.
Одним из наиболее прочно
связанных с расстройством поведения симптомов является серьезное отставание в
усвоении школьных знаний. Создается впечатление, что сам факт неуспеха
школьного обучения приводит детей к разочарованию и обиде, которые могут превратиться
в протест, агрессию и направленное против общества поведение. Интеллект многих
детей с расстройствами поведения является нормальным, но среди тех, чьи
показатели интеллектуального развития несколько ниже среднего, отмечается
тенденция к увеличению вероятности агрессивного асоциального или
противоправного поведения. Аналогичная картина наблюдается среди детей с органическим
нарушением мозга.
Дети с нарушенным поведением часто происходят из семей, где применяются неадекватные средства воспитательных воздействий и где антиобщественные формы поведения усваиваются из непосредственного семейного окружения. Очень часто у таких детей нет отцов, поэтому у мальчиков отсутствует адекватный образец мужского поведения для идентификации, им не хватает обеспечиваемого отцом опыта мужских форм взаимоотношений. Среди таких детей наиболее часты случаи прогулов школы, а воровство обычно совершается совместно с другими детьми.
Нарушения
поведения почти всегда характеризуются плохими отношениями с другими детьми,
которые проявляются в драках и ссорах, или, например, агрессивностью,
демонстративным неповиновением, разрушительными действиями или лживостью. Они
также могут включать антиобщественные поступки, такие как воровство, прогулы
школы и поджоги. Между этими различными формами поведения существуют связи.
Они проявляются в том, что те дети, которые в раннем школьном возрасте были
агрессивными и задиристыми, с большой вероятностью станут проявлять склонность
к асоциальному поведению, став старше. С точки зрения этиологии сопутствующих
нарушений дети с социальной дезадаптацией имеют очень много общих черт, однако группа  таких расстройств является далеко не однородной.
таких расстройств является далеко не однородной.
Первое, что со всей очевидностью бросается в глаза, — это тот факт, что синдром нарушенного поведения гораздо чаще встречается среди мальчиков. Это особенно отчетливо проявляется в случаях антиобщественных поступков, где число мальчиков превосходит соответствующее число, девочек.
Несмотря на рост женской преступности, ее относительные показатели значительно ниже мужских, например женские преступления в России составляют 15% от общего числа зарегистрированных случаев.
Можно говорить о преступлениях, более свойственных женщинам или мужчинам. Такие деликты, как убийство детей, проституция, воровство в магазинах, чаще совершают женщины. Мужчины же чаще угоняют автомобили, учиняют разбои, кражи, наносят телесные повреждения, убивают. Существуют и типично мужские преступления, например изнасилование.
Следует отметить, что социально-экономический кризис в России способствовал росту антисоциального поведения, в том числе и в детской возрастной группе. Обнищание части населения, распад институтов общественного воспитания, изменение общественных установок — все это неизбежно приводит к тому, что беспризорный ребенок становится привычным героем городских улиц. Уличное хулиганство младших школьников (кражи кошельков и сотовых телефонов, вымогательство) сочетается с бродяжничеством, употреблением наркотических веществ и алкоголя. Очевидно, что в подобных случаях детское девиантное поведение закономерно переходит в противоправное поведение в подростковом и взрослом возрасте.
Противоправные действия в подростковом возрасте (12-17 лет) являются более осознанными и произвольными. Наряду с «привычными» для данного возраста нарушениями, такими как кражи и хулиганство — у мальчиков, кражи и проституция — у девочек, приобретают широкое распространение новые их формы — торговля наркотиками и оружием, рэкет, сутенерство, мошенничество, нападение на бизнесменов и иностранцев. По статистике, большая часть преступлений, совершенных подростками, — групповые. В группе снижается страх наказания, резко усиливаются агрессия и жестокость, снижается критичность к происходящему и к себе.
Таким образом, в подростковом возрасте в силу сложности и противоречивости особенностей растущих людей, внутренних и внешних условий их развития могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного становления, создавая объективные предпосылки для возникновения и проявления разных форм нарушения поведения.
1.2. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПОДРОСТКОВ
НА ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ
Подростковому возрасту свойственны специфические особенности реагирования на различные внешние воздействия и нарушения поведения, которые могут быть и проявлением психического заболевания, но возможны и у подростков, не страдающих тяжелыми психическими заболеваниями. Чаще всего такие нарушения свойственны подросткам с акцентуацией характера (А. Е. Личко, 1985). У многих подростков имеется явный диссонанс между физическим и социальным развитием. Некоторые стороны психического развития «не успевают» за ускоренным физическим развитием, могут сохраняться детские интересы и неустойчивость выражения эмоций, внушаемость, подверженность чужому влиянию, неразвитое чувство ответственности и долга, причудливо переплетающееся с внешней кажущейся «взрослостью».
Наиболее частые нарушения поведения в подростковом возрасте следующие:
Реакция протеста (оппозиции). Это одна из наиболее частых реакций в подростковом возрасте. Это непостоянная и преходящая реакция, характеризующаяся избирательностью и направленностью. Протестные формы поведения возникают у подростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие, недовольство требованиями или отношениями близких. Реакции протеста могут быть пассивными и активными. К реакциям пассивного про теста обычно относят отказ от еды, уходы, из дому, мутизм, суицидальные попытки, замаскированную враждебность, а также ряд нарушений соматовегетативных функций, особенно рвоту, энурез и эикопрез.
Реакции активного протеста проявляются в форме непослушания, грубости, вызывающего, а иногда агрессивного поведения в ответ на различные психологические трудности (неправильные методы воспитания, устрашение, ущемление самолюбия, эмоциональная депривация, конфликтная ситуация в детском коллективе и др.). Такие формы реакций наблюдаются только в психотравмирующей ситуации, имеют четкую направленность против определенных лиц, явившихся источником отрицательно окрашенных переживаний, относительно кратковременные и не склонны к фиксации. Чаще наблюдаются у подростков с чертами эмоциональной возбудимости. Активные реакции протеста выражаются и в стремлении делать назло, причинять вред человеку, который обидел подростка, с помощью оговоров, лжи, кражи, вплоть до жестоких поступков и даже убийства животного, принадлежащего этому человеку. Таким поведением подросток мстит обидчику. В отдельных случаях реакция протеста закрепляется и впоследствии распространяется на взрослых вообще. Тогда подросток проявляет протестную реакцию в разной обстановке, и сила его реакции не соответствует раздражителю.
Своими, подчас немыми, утрированными поступками подростки как бы взывают о помощи. Они не умеют это выразить словами, такое выражение эмоционального состояния вообще несвойственно подросткам, но этот безмолвный призыв о помощи отчетливо звучит в каждом их поступке.
Реакция отказа. Она проявляется в отказе от общения, игр, приема пищи, выполнения домашних обязанностей или школьных уроков и др. Особенно сильно реакция отказа выражается, если ребенок попадает в условия, где все разительно отличается от его домашних условий и где с ним чрезмерно строги, наказывают его и он лишен любви и заботы. Подросток переживает «потерю перспективы», испытывает чувство отчаяния, в его поведении отмечаются отсутствие стремления к контактам с окружающими, страх всего нового, пассивность, отказ от обычных желаний и стремлений («отказ от притязаний»), спонтанность, нередко бездумный характер: ответов. В некоторых случаях спонтанность подростка, снижение интереса к окружающему, бездумные ответы могут создавать впечатление умственной отсталости. Если ситуация меняется и подросток оказывается в благоприятных для него условиях, то его поведение нормализуется.
Реакция имитации. Это изменение поведения, связанное с подражанием поведению окружающих, которые обладают авторитетом в глазах ребенка или подростка. В детском возрасте чаще всего имитируется форма поведения родителей и воспитателей, в подростковом — формы поведения более старших подростков, особенно обладающих так называемыми лидерскими качествами, а также взрослых, имеющих какие-либо качества идеала, созданного воображением подростка. Реакциям имитации принадлежит важная роль в формировании характера и личности в целом. Вместе с тем они могут становиться источником возникновения асоциального поведения (сквернословие, бродяжничество, хулиганские поступки, мелкое воровство), а также многих вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.п. В отличие от взрослых, подростки еще не умеют использовать чужой негативный опыт. Они не осознают, что такое преступление, закон, тюрьма и все, с этим связанное. Подростки не знают и не боятся социальных последствий правонарушений. Склонность к возникновению социально отрицательных реакций имитации особенно велика у подростков с чертами эмоционально-волевой неустойчивости.
Реакции компенсации и гиперкомпенсации. Это усиление тех личностных проявлений и возникновение таких форм поведения, которые маскируют ту или иную слабую сторону личности или являются средством «психологической защиты» личности от переживаний собственной неполноценности, связанных с сознанием какого-либо физического или психического недостатка. При реакциях гиперкомпенсации защитные формы поведения приобретают гипертрофированный, а нередко карикатурный характер, в связи с чем могут стать источником трудностей поведения и социальной дезадаптации. Проявления реакций компенсации и гиперкомпенсации крайне разнообразны, но мало изучены. Сюда могут относиться компенсаторные фантазии замещающего характера, компенсаторные игры, бравада, нарушения школьной дисциплины, самооговоры из стремления завоевать недостающий авторитет и т. п. Реакции Данной группы чаще всего свойственны подросткам, которым родители уделяют мало внимания и любви, сиротам, детям, растущим в неполных или деформированных семьях, а также подросткам, страдающим комплексом неполноценности из-за физического дефекта, дефекта речи, подросткам-инвалидам и страдающим неврозами.
Реакция группирования со сверстниками. Эта реакция проявляется в стремлении подростков образовывать более или менее стойкие спонтанные группы, в которых устанавливаются определенные неформальные отношения, имеются свои лидеры и исполнители, происходит более или менее естественное распределение ролей, в основе которого чаще всего лежат индивидуальные особенности личности подростков. Склонностью подростков к группированию объясняют факт преобладания групповых правонарушений, совершаемых подростками. Повышенная склонность к объединению в группы с подростками, отличающимися асоциальным поведением, считается характерной чертой детей с так называемой педагогической запущенностью.
Делинквентное поведение. Обозначает различные проступки, провинности, нарушение общественных норм поведения, мелкое хулиганство и мелкое воровство.
|
|
От криминальных действий делинквентное поведение отличается незначительностью правонарушений и обычно не влечет за собой уголовного наказания. Причинами такого поведения подростков обычно бывают недостатки воспитания. Безнадзорность, отсутствие семейного контроля и внимания родителей — это основа для делинквентного поведения в подростковом возрасте.
Реакция эмансипации. Это борьба подростка за свою самостоятельность, независимость, самоутверждение. Он хочет освободиться от контроля и опеки взрослых любыми способами. Чем больше подавляют и контролируют подростка, тем больше он хочет избавиться от внимания взрослых. Наперекор им он начинает поступать «по-своему», демонстрирует, что он уже «самостоятельный». Это вполне закономерная реакция для этого возраста, и со временем она проходит. Крайние формы она приобретает при неправильном поведении родителей — чрезмерной опеке или проявлении деспотизма и требованиях беспрекословного подчинения. Если в младшем возрасте ребенок еще мог подчиняться такому давлению родителей, то в подростковом — возможны побеги из дому и бродяжничество.
Побеги из дому. Есть много причин для побегов подростков из дому, например когда с ними плохо обращаются в семье, унижают или бьют, когда родители — алкоголики, в случае сексуального насилия со стороны отчима или отца. Побеги можно рассматривать как реакцию протеста на недостаточное внимание родителей или на их чрезмерные требования и деспотизм. Сбежав из дому, подростки расценивают свою новую жизнь как «свободу от семьи и школы». Таким образом они избавляются от надоевшей опеки учителей и родителей, от всех обязанностей и принуждений. В некоторых случаях побег из дому случается после того, как подросток совершил проступок и боится наказания взрослых. Иногда подростки убегают из дому из-за недостаточного надзора или ради поиска развлечений, приключений и свободы. Убегают из дому и подростки, склонные к фантазерству и мечтательности, начитавшиеся книг о знаменитых путешественниках и дальних странах.
Реакции увлечения. Большинству подростков свойственны различные увлечения и хобби. Они могут быть устойчивыми, например коллекционирование, занятия спортом, но могут быть и нестойкими, когда подросток увлекается то одним, то другим. У некоторых подростков увлечения связаны со стремлением быть в центре внимания. Они участвуют в художественной самодеятельности, в школьных спектаклях, публикуют свои стихи в школьной стенгазете и т. п. Некоторые избирают изысканные, необычные хобби, чтобы выделиться среди сверстников. В большинстве случаев в этом нет никакой патологии, со временем эти увлечения проходят или сохраняются, но отрицательного воздействия на поведение подростка не оказывают. Патологией являются чрезмерно выраженные увлечения, когда из-за них подросток забрасывает школьные занятия и все свое свободное время отдает им. Бывает, что ради реализации хобби подросток совершает противоправные действия, например мелкое воровство, спекуляцию или может сойтись с асоциальными личностями.
Реакции,
обусловленные формирующимся сексуальным влечением. Сюда относят различные виды мастурбации у подростков,
раннее вступление в половую жизнь, беспорядочные половые язи, преходящие
гомосексуальные действия и др. В их возникновении ведущая роль принадлежит
повышенному но в то же время недостаточно дифференцированному половому
влечению, реализовать которое в естественных условиях  подросток не может. По этой причине для удовлетворения
сексуального влечения могут использоваться и сексуальные извращения.
подросток не может. По этой причине для удовлетворения
сексуального влечения могут использоваться и сексуальные извращения.
Малолетняя проституция. Многие девочки после побега из дому становятся малолетними проститутками. Не имея возможности зарабатывать на жизнь, чаще всего они попадают под влияние асоциальных личностей, которые приобщают их к пьянству и проституции. Бывает, что девочек из неблагополучных семей взрослый отрицательный лидер вовлекает в подростковую группу, затем «пускает по рукам», а когда они ему надоедают, «продает» сутенерам или сам становится сутенером, и девочки безропотно соглашаются и на это, не требуя ни денег, ни хорошего отношения.
Многие крайние нарушения поведения подростков (за исключением тяжелых психических заболеваний) вызваны неправильным поведением родителей. Бывает, что родители не только некритичны к своим «методам» воспитания детей, но чаще всего винят в этом самого ребенка или его сверстников, которые «втянули» его в плохую компанию. Большая часть вышеописанных поведенческих реакций — компенсации, увлечения, эмансипации, группирования со сверстниками, имитации — свойственны подавляющему большинству подростков и могут не принимать крайних форм.
Патологическим поведение становится, когда реакции распространяются за пределы той ситуации и микрогруппы, где они возникли, если они сопровождаются невротическими расстройствами и затрудняют или нарушают социальную адаптацию.
От того, как отвечает подросток на предъявляемые ему требования среды, какие способы и стили преодоления стресса у него проявляются и закрепляются, зависит развитие личности в подростковый период и ее дальнейшие перспективы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Приведите определения «девиантного поведения» разных отечественных и зарубежных авторов и проанализируйте их сходство и различие.
2. Объясните роль разных факторов и их взаимодействие в структуре девиантного поведения.
3. Опишите классификации причин девиантного поведения детей (медико-биологического, психологического и социального характера).
4. Дайте характеристику особенностей нарушений поведения в разные возрастные периоды развития ребенка.
5. Объясните, в чем специфика подросткового возраста и с чем связаны наиболее частые нарушения поведения подростков.
Глава 2
НАРУШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ - ОСНОВА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА
2.1. ПРИВЯЗАННОСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ
Привязанность можно определить как близкие, теплые, основанные на любви отношения между человеческими существами. Привязанности формируются между родителями и детьми, братьями и сестрами, мужьями и женами, друзьями и т. д. Некоторые из них сильны и продолжительны (Д. Боулби, 2003). Привязанность к взрослому человеку является биологической необходимостью и изначальным условием для развития ребенка. Наиболее значимым взрослым для младенца является мать. Специалисты рассматривают младенца как инициативное существо, играющее активную роль во взаимодействии с находящимися рядом, познающее окружающий мир и действующее в нем (Р. Ж. Мухамедрахимов, 1999; Л. М. Шипицына, 2005 и др.).
Известный американский исследователь Джон Боулби (2003) утверждал, что необходимым условием сохранения психического здоровья детей в младенческом и Раннем детстве является наличие эмоционально теплых, близких, устойчивых и продолжительных отношений с Матерью (или лицом, постоянно ее замещающим) — таких отношений, которые обоим приносят радость и удовлетворение. В то же время как человек, знающий практическую сторону жизни, Боулби понимал и всячески подчеркивал, что огромную роль в этом вопросе играет не только семья, но и общество в целом, поскольку только оно может создать макроэкономические условия, при которых возможны нормальные детско-родительские отношения.
Д. Боулби описал теорию привязанности как способ понимания предрасположенности человеческих существ к созданию сильных, основанных на любви связей с другими человеческими существами, и объяснения различных форм эмоциональных расстройств и проблем, таких как беспокойство, гнев, депрессии, эмоциональная неприязнь, становящихся причиной нежелательной разлуки и разрыва.
Ключевые положения теории Д. Боулби:
ü привязанности развиваются в направлении одного или нескольких человек, обычно в четко определенном порядке предпочтения;
ü привязанности не подвластны времени — новые привязанности могут формироваться, но это не значит, что старые легко забываются;
ü многие из самых сильных человеческих эмоций переживаются во время формирования, утверждения, разрушения и восстановления привязанностей (влюбленность, любовь, печаль и т. д.). Страх потери рождает беспокойство, непосредственно потеря — печаль, и оба эти чувства становятся причиной гнева. Утверждение привязанности может стать источником спокойствия и радости;
ü привязанность обычно развивается в течение первых девяти месяцев жизни и ее предметом, как правило, становится мама или человек ее заменяющий.
Одно из центральных понятий теории привязанности — понятие «рабочая модель», на основе которой происходит взаимодействие ребенка с миром (Е. О. Смирнова 1995). Рабочая модель включает модель себя и близкого человека (Я — Другой), при этом восприятие себя определяется тем, как человека воспринимает объект привязанности. Глубинная память сохраняет образы и образцы поведения с близкими людьми, которые постоянно повторяются и ситуациях взаимодействия с другими людьми. Стойкость и ригидность схем поведения, представляющих собой обобщенный опыт отношений с матерью, во многом объясняют те длительные кризисы, которые неизбежно возникают у детей из неблагополучных семей при адаптации в новой приемной семье. Необходим новый, достаточно длительный опыт иных позитивных отношений, чтобы прежние схемы перестроились.
Д. Боулби видел биологические корни в процессе установления привязанности, он считал, что младенцы предрасположены к инстинктивному формированию взаимоотношений привязанности, а также к избирательному реагированию, которое основано на особом аффективном настрое на другого.
Особое значение в теории привязанностей имеет то, что организация привязанности у младенца имеет в своей основе реальный опыт взаимодействий с объектом привязанности и внешним миром. Отсюда следует вывод, что этот Ранний опыт может быть различным и, соответственно, иметь различные качественные последствия. Поэтому стало возможным более глубоко и правильно понимать ранние поведенческие проявления младенца как его собственный вклад во взаимодействие со своей матерью. Такие ранние проявления, как плач, взгляд, слежение, протягивание ручек, хватание, гуление, прилегание, ползание и даже ранняя психосоматика, стали рассматриваться в контексте поведения привязанности, то есть как проявления, способные привлечь и удержать мать рядом с младенцем.
Действительно, сам облик младенца, его улыбка вызывают у матери положительные эмоции, укрепляют отношения между ними и могут пониматься как своеобразный «призыв к взаимоотношениям». Это своеобразные защитные механизмы, действующие внутри пары мать—дитя и укрепляющие привязанность.
2.2. ПОВЕДЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ
 Поведение привязанности Д. Боулби (2003) определяет как поведение,
результатом которого становится достижение или сохранение близости с другим —
определенным предпочитаемым человеком. Поведение привязанности особенно ярко
проявляется в детском возрасте, но оно необходимо для выживания и здорового
функционирования на протяжении всей жизни. Поведение привязанности включает в
себя стремление находиться рядом, следовать за человеком, просить его о помощи
и т. д. С возрастом степень проявления таких чувств уменьшается, но они
способны снова обостряться во времена стрессовых ситуаций, болезни или страха.
Поведение привязанности у младенцев или маленьких детей развивается под воздействием
определенных условий, таких как появление чего-то незнакомого, голод,
усталость и страх.
Поведение привязанности Д. Боулби (2003) определяет как поведение,
результатом которого становится достижение или сохранение близости с другим —
определенным предпочитаемым человеком. Поведение привязанности особенно ярко
проявляется в детском возрасте, но оно необходимо для выживания и здорового
функционирования на протяжении всей жизни. Поведение привязанности включает в
себя стремление находиться рядом, следовать за человеком, просить его о помощи
и т. д. С возрастом степень проявления таких чувств уменьшается, но они
способны снова обостряться во времена стрессовых ситуаций, болезни или страха.
Поведение привязанности у младенцев или маленьких детей развивается под воздействием
определенных условий, таких как появление чего-то незнакомого, голод,
усталость и страх.
Негативные эмоции, которые испытывает ребенок, исчезают при непосредственной близости предмета его привязанности, особенно при позитивном общении с ним, таком как прикосновения, объятия. В присутствии дорогого ему человека ребенок не будет стремиться демонстрировать поведение привязанности, а будет изучать окружающий его мир. Поведение привязанности, по мнению Д. Боулби, связано с одной из наиболее вероятных его функций — это защита от страха. Поиск младенцем защитной близости и контакта со взрослым резко активизируется в ситуациях опасности, тревоги или разного рода дискомфорта (боли, холода и т. д.): здесь взрослый становится источником успокоения и чувства защищенности, наличие которого позволяет ребенку активно осваивать полный новизны и разнообразия окружающий мир.
Теория Боулби раскрывает привязанность к матери одновременно и как определенное активное поведение Ребенка, и как эмоциональную связь с ней. Тяжелые страдания малыша, разлученного с матерью, объясняются, по мнению Д. Боулби, активированным состоянием его внутренней системы регуляции поведения привязанности и отсутствием привычных стимулов, прекращающих ее действие (контакт с матерью). В этих условиях у ребенка возникает состояние острой дезадаптации, когда угнетаются все другие формы поведения; в результате даже при самом хорошем уходе со стороны чужих для ребенка лиц он теряет интерес к окружающему, плохо ест и спит, испытывает тревогу, отчаяние или апатию, легко заболевает. Концепция привязанности позволяет объяснить чрезвычайно требовательное поведение малышей (в отношении присутствия матери), которое нередко воспринимается недостаточно опытными родителями как каприз и результат неправильного воспитания, когда ребенка просто «приучили цепляться за мать».
У людей поведение привязанности существует не только для того, чтобы удовлетворять физические потребности. Эти межличностные связи создают возможности для социального и интеллектуального развития. Наши привязанности связывают нас с другими людьми и помогают развить чувство самосознания и личности. Мы определяем самих себя как сыновей, дочерей, отцов и матерей, сестер и братьев, мужей и жен, друзей и т. д.
Поведение родителя или человека, заботящегося о ребенке, является дополнительным к поведению привязанности. Роль воспитателя — быть внимательным и способным ответить на просьбу ребенка. Д. Боулби отмечает четкую зависимость между детскими впечатлениями человека и его способностью строить отношения с людьми и воспитывать собственных детей. Дети, чьи родители заботились о них, вырастают уверенными, умеющими доверять другим, способными помочь людьми. И против, дети, родители которых не уделяли им достаточного внимания, становятся очень беспокойными и нервными. Пережитые в детстве отвержение и унижение со стороны родителей, непостоянное нахождение с родителями (периоды раздельного проживания), устрашения (типа «Я не буду тебя любить»), используемые как метод контроля, запугивания оставлением ребенка родителем, используемые для воспитания, устрашения уходом, самоубийством или убийством другого родителя, внушенное ребенку чувство ответственности за болезнь или смерть родителя, могут привести к возникновению у ребенка беспокойной привязанности. Это, в свою очередь, сформирует у него низкий порог демонстрации поведения привязанности (плач, стремление постоянно находиться рядом с кем-то). Такая модель поведения будет перенесена во взрослую жизнь и выразится в сильной бессознательной потребности в любви и поддержке. Ее продолжением могут стать попытки самоубийства, самоистязание, анорексия, ипохондрия.
Другой стиль поведения, который может выработаться, — это принудительная самоуверенность. Вместо того чтобы, переживая стрессовую ситуацию, искать любви и заботы, ребенок или взрослый, опасаясь невнимания или непонимания, стремится избежать дальнейших болезненных ощущений, а поэтому скрывает свои чувства, надеясь только на себя. Избирательный характер проявлений привязанности младенца недвусмысленно показывает, что он явно предпочитает тех лиц, которые не просто ухаживают за ним, но вступают с ним в активное и эмоциональное взаимодействие — привлекают внимание, ласково разговаривают, улыбаются, играют. В качестве главных факторов формирования привязанности ребенка к матери, согласно Д. Боулби, выступают, во-первых, чуткость ее реагирования на подаваемые ребенком сигналы, во-вторых, частота и длительность реального взаимодействия с младенцем. В свете теории привязанности многие специфические феномены детского развития в младенческом и раннем возрасте получили удовлетворительное объяснение. Это касается, например, непонятной прихотливой избирательности отношений младенца с основными и второстепенными лицами привязанности, или «странной» (на взгляд многих родителей) потребности маленьких детей постоянно иметь с собой какой-то предмет (обычно мягкую игрушку), или то усиливающейся, то ослабевающей боязни незнакомых людей и т. д.
2.3. НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ
Дж. Боулби (2003) ввел понятие «сепарация», с помощью которого обозначил ситуацию долговременной разлуки ребенка с матерью или другим, замещающим ее, лицом. Он выделил сопутствующие разлуке факторы, от которых зависит степень ее негативного влияния на психическое здоровье ребенка: глубина эмоциональной связи между матерью или другим объектом привязанности и ребенком до сепарации, внезапность или постепенность, а также длительность сепарации, наличие или отсутствие лиц, замещающих объект привязанности, возраст ребенка на момент разлуки с матерью.
Следует учитывать, что в формировании привязанности к матери наблюдается ряд стадий.
Первая — это недифференцированное стремление к взаимодействию с любым взрослым. Вторая — выделение из окружающих матери и, при сохранении дружелюбия к окружающим, более яркое влечение именно к ней. Третья — снижение активных неразборчивых приветствий в отношении окружающих, более того, появление некоторой тревоги по отношению к незнакомым людям и расширение репертуара реакций в отношении матери (слежение за ее уходом и приветствие прихода). К третьей стадии малыш обычно приходит в 6-7 месяцев.
Поэтому дети до шестимесячного возраста относительно спокойно переносят разлуку, быстро привыкают к новому объекту привязанности. Ребенок постарше, со сформированной привязанностью, реагирует на разлуку совершенно иначе — бурной вспышкой отрицательных эмоций, которая может иметь очень продолжительный характер и приводить к депрессии, в основе которой лежит явление госпитализма.
Впоследствии под госпитализмом стали понимать не только материнскую депривацию, но и социальную — в более широком смысле. Многочисленные исследования феномена госпитализма показали, что длительное пребывание в искусственных, изолированных от социума условиях (больница, заведения для инвалидов, престарелых) могут приводить к развитию синдрома госпитализма как у детей, так и у взрослых людей. Этот синдром выражается в недоразвитии и утрате социальных навыков, эмоциональном уплощении, утрате активности, инициативности.
Д. Боулби выделил 3 стадии в развитии реакции на разлуку ребенка с матерью, которые объясняют явление госпитализма:
ü стадия активного протеста, которая выражается в плаче, стремлении прижаться к родителям при их появлении, то есть в активном протестующем поведении; ребенок отказывается смириться со своим отделением от любимого объекта — он может кричать, биться головой, кидаться на пол, брыкаться и уходить от контактов с теми, кто пытается его успокоить или усмирить;
ü стадия отчаяния, наблюдаемая как переход от активного протестующего поведения к пассивному, вследствие доминирования чувства безнадежности (отказ от еды, бессонница, соматические и моторные нарушения, отказ от внешних контактов). Эта стадия может наступать через несколько часов или дней после первой, ребенок как бы теряет надежду. Он становится тихим и подавленным, его плач делается безысходным и монотонным;
ü стадия отчуждения, когда ребенок как бы восстанавливает отношения с окружающим миром и начинает опять проявлять к нему интерес. Однако если мать в этот момент навещает его, он может реагировать неожиданным равнодушием или отстранением. При восстановлении контакта с матерью на этой стадии долгое время поведение привязанности вообще не наблюдается, после чего ребенок начинает «липнуть» к своей матери, их взаимоотношения теперь проникнуты тревогой по поводу возможности новой разлуки.
Наряду с первичной привязанностью к матери или замещающей ее фигурой Дж. Боулби ввел понятие вторичной привязанности, которая формируется на месте исходной привязанности вследствие разлуки с матерью. Вторичными привязанностями называют также отношения, устанавливаемые человеком с другими людьми — друзьями, учителями, приемными родителями. Если потеря матери или замещающей ее фигуры продолжается длительное время, то возникает не только первичная тревожность, но и печаль, депрессия, а также агрессия, одна из функций которой заключается в попытке достижения повторной связи. Данная идея помогает понять природу агрессивности ребенка, лишенного родительской заботы, в отношениях с объектами вторичной привязанности — замещающими родителями — на первом этапе включения в семью.
Другой сторонник теории привязанности — М. Эйнсворт, которая вместе с соавторами изучала влияние качества отношений с матерью на последующие отношения с другими людьми.
Качество привязанности автор пыталась «измерить» с помощью процедуры, которую назвали «тест чужого человека». Она включает наблюдение за поведением ребенка в отношении незнакомого ему человека — сначала в присутствии матери, затем один на один и снова с матерью. Выделено три основных типа реакций, которые дали названия качественным характеристикам привязанности.
1. Уверенная привязанность. Дети этой группы позитивно реагируют на незнакомца в присутствии матери, огорчаются ее уходу и быстро успокаиваются после прихода.
2. Тревожно-требующая привязанность. Дети с такой привязанностью стремятся находиться только рядом с матерью, кричат в ее отсутствие, пугаются нового человека. Долго успокаиваются после ее прихода. Они как бы требуют, чтобы мать находилась только рядом с ними.
3. Тревожно-избегающая привязанность. Дети в этом случае не ищут близости с матерью, когда находятся с ней вместе, не огорчаются уходу. Не радуются приходу. Создается впечатление, что они безразличны к ее присутствию или же избегают привязываться, чтобы не почувствовать боль, когда их покинут.
Поскольку первый опыт взаимодействия с окружающими ребенок получает именно из общения с матерью, выработанные в нем паттерны поведения он использует и с другими людьми. Можно сказать, что поведение привязанности не исчезает по мере взросления и сохраняется на протяжении всей жизни в отношении тех людей, с которыми человек вступает в близкие взаимоотношения. Понятно, что репертуар его поведенческих реакций с возрастом расширяется и может меньше зависеть от качества привязанности. Однако у дошкольников он существует практически в чистом виде, поэтому во многом определяет их взаимодействие со значимыми взрослыми и сверстниками. Они либо доверяют им и чувствуют себя в их присутствии защищенными, либо беспокоятся и настойчиво требуют заботы и внимания, либо беспокоятся и уходят от близких отношений.
О. Хухлаевой и Г. Бубновой (2006) были проведены сравнительные исследования детей младшего школьного возраста, а также подростков, с учетом их ранней привязанности. Уверенно привязанные дети не имели значительных проблем в эмоциональной и социальной жизни. Те же, кто имел раннюю тревожную привязанность, демонстрировали поведенческие и эмоциональные проблемы (в основном в детском саду и начальной школе) (таблица 1).
Поведенческие проявления детей с различным типом привязанности
(по Хухлаевой О. и Бубновой Г., 2006)
|
Уверенная привязанность |
Тревожно-требующая привязанность |
Тревожно- избегающая привязанность |
|
|
||
|
1. Поведение детей в ответ на предложение |
||
|
взаимодействия со стороны взрослого |
||
|
Проявляет доверие к взрос-лым и чувство защищенности в их присутствии. Первым идет на контакт. Способен взаимодействовать с детьми в присутствии взрослого. Редко плачет. Понимает справедливость распределения внимания взрослого между всеми детьми |
Стремится к взрослому, но не может насытиться телесным контактом, боится потерять контакт. С восхищением, страстью воспринимает щекотку, объятия, кувырка-ния. Обижается на невнимание, ревнует к другим детям. В присутствии взрослого с другими детьми не взаимодействует, сам от взрослого не уходит |
Избегает тактильного контакта со взрослым и контакта глаз. В случае активности взрослого сжимается в комочек или легонько отталкивает руки, выкручивается
|
|
Уверенная привязанность |
Тревожно-требующая привязанность |
Тревожно-избегающая привязанность |
|
2. Поведение детей с целью избегания разлуки со значимым взрослым |
||
|
Получив ласку, дает возможность уделить внимание другому, не ревнует к другим |
Отказывается прекращать контакт, обижается, цепляется, плачет |
Не обращает внимания на приход и уход взрослого, остается как бы в стороне |
|
3. Поведение детей с другим человеком: а) взрослым на занятиях; б) детьми в свободное время |
||
|
а) способен к учебному взаимодействию с педагогом. б) спокойно играет с детьми без конфликтов |
а) не всегда способен к учебному взаимодействию. Иногда проявляют невнимание, неусидчивость; б) во взаимодействии с детьми склонен к
конфликтам. |
а) на занятиях отвлекается, выкрикивает, привлекает внимание; сидит тихо, невнимателен, не всегда выполняет задания, все делает медленно; б) с другими детьми играет шумно, с конфликтами, без слез; в одиночку конфликтов избегает, иногда плачет |
Экспериментальные исследования М. Эйнсворт показали, что характер ранних отношений с матерью далеко не всегда имеет фатальные последствия для дальнейшего развития и психического здоровья. Имеется целый ряд других факторов, также оказывающих свое влияние: врожденные особенности нервной системы ребенка (то, что фатально для одного, — переносимо для другого), степень травматизации, наличие компенсирующих воздействий в виде других объектов привязанности. Все это говорит о возможности компенсации нарушения привязанности при создании соответствующих условий. Наличие опыта позитивных и стабильных межличностных отношений, пусть даже на более поздних этапах развития, является важным условием последующей способности человека строить конструктивные отношения с другими людьми, с партнером по жизни и в собственной семье.
 От того, каким будет общение
между родителем (воспитателем) и ребенком, зависит их взаимная привязанность.
Теплое человеческое общение, включающее в себя улыбки, беседы, игры,
возможность поделиться чувствами, является очень важным. Исследования
показали, что для возникновения привязанности оно более значимо, нежели
удовлетворение физических потребностей ребенка. Общение помогает ребенку
почувствовать себя дорогим и любимым, увеличивает его самоуважение, что также
является очень важным для интеллектуального Развития (Е. О. Смирнова, 1995).
От того, каким будет общение
между родителем (воспитателем) и ребенком, зависит их взаимная привязанность.
Теплое человеческое общение, включающее в себя улыбки, беседы, игры,
возможность поделиться чувствами, является очень важным. Исследования
показали, что для возникновения привязанности оно более значимо, нежели
удовлетворение физических потребностей ребенка. Общение помогает ребенку
почувствовать себя дорогим и любимым, увеличивает его самоуважение, что также
является очень важным для интеллектуального Развития (Е. О. Смирнова, 1995).
У всех детей, испытавших или переживших отсутствие заботы, обнаруживаются проблемы привязанности, что приводит к появлению трудностей в поведении. Это особенно важно знать в тех случаях, когда необходимо научить ребенка выполнять правила, быть дисциплинированным. Дисциплинарные меры, которые весьма успешно применяются для большинства детей, могут совершенно не действовать на ребенка с проблемами привязанности.
Это происходит потому, что резко меняется социальная ситуация развития ребенка. Дети, привязанные к своим родителям, хотят сохранить эмоциональную близость с ними и учатся делать это, доставляя удовольствие родителям своим положительным поведением, послушанием и т. д. Способы управления поведением детей в таких ситуациях довольно понятны и легкоприменимы родителями и взрослыми. Взрослые создают физическую или эмоциональную дистанцию при нарушении норм и правил, невыполнении их требований (послали в другую комнату, высказали неодобрение, наградили за хороший поступок, лишили удовольствия), и они очень хорошо действуют на детей с нормальными привязанностями и самооценкой (Е. О. Смирнова, 1995).
Дети, у которых есть проблемы привязанности, имеют другую систему ценностей. Ребенок, переживший разлуку с родителями или их утрату, изъятие из семьи, многочисленные переезды из одного учреждения в другое, от одних родственников к другим, приравнивает разлуку к близости. Чтобы защитить себя от боли, которую ребенок испытывает при взаимодействии со взрослыми, он старается преодолеть эту боль, создавая барьер между собой и воспитателем и любым взрослым. В таком случае, если по отношению к ребенку взрослые принимают обычные дисциплинарные меры (например, отстранение, невнимание, лишение похвалы и т. д.), то они добиваются того, что хочет ребенок — возможности избежать эмоциональной близости, что не в интересах развития ребенка и его психического состояния.
Дети в ожидании, что их обязательно отвергнут, специально провоцируют взрослых своим поведением на такие поступки, что зачастую так и происходит: убеждая ребенка в том, что ошибся, взрослый обязательно отвергнет его за плохое поведение (Н. В. Искольдский, 1985).
Многие дети, перенесшие эмоциональные травмы, связанные с разлукой, отвержением их близкими, считают, что не заслуживают того, чтобы им кто-то уделял внимание, интересовался их делами. Появление комплекса неполноценности, связанного с помещением ребенка в учреждения социальной и психолого-педагогической помощи и поддержки, укрепляет в них уверенность в том, что они ничего не достойны, даже награда за хорошее поведение не радует их (Е. О. Смирнова, 1995).
В таких случаях эффективным становится постоянное физическое присутствие рядом с ребенком, которое способствует появлению у него уверенности в том, что какой бы проступок он ни совершил, взрослый всегда будет рядом и позаботится о нем. Для всех взрослых, которые оказывают помощь и поддержку воспитанникам таких учреждении, очень важно концентрировать внимание не на плохом поведении, а на положительных ожиданиях, которые возлагаются на ребенка. Они проявляются, например, в таких высказываниях взрослых: «Я верю, что ты можешь находить общее дело с детьми», «Я знаю, как хорошо у тебя может получиться эта работа», «Я уверена, что ты можешь Успешно учиться» т. д. (Л. Я. Олиференко и др., 2002).
Таким образом, дети, потребности которых в привязанности к близким взрослым не удовлетворялись, нуждаются в убеждении, что внимание и заботу взрослых она могут получить, не «зарабатывая». При проявлении у ребенка желания что-то делать гораздо важнее его поддержать, чем использовать запрет в качестве наказания. Построение взрослыми добрых отношений с ребенком позволит сформировать новые привязанности. Простые обращения к ребенку с вопросами о том, как он провел день, какие игры ему понравились, что читал, объятия перед сном и другие способствуют формированию добрых отношений и развивают эмоциональную близость. Взрослый должен общаться с ребенком, невзирая на то, что он ведет себя плохо. Для этого самому надо начинать общаться с ребенком, не ожидая инициативы от него.
2.4. МАТЕРИНСКАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ И ЕЕ НАРУШЕНИЕ
Известно, что первое чувство, которое проявляется в жизни живого существа, — любовь к матери, и полноценное развитие ребенка может осуществляться только в контакте с матерью.
В первые месяцы жизни младенца между ним и матерью существует особое состояние взаимности и неразделенности, которое называется нормальной симбиотической связью, то есть особой эмоциональной связью в диаде «мать—ребенок». Эту связь также обозначают термином «кинестетическая эмпатия», который описывает возникающую между матерью и младенцем общность чувств, а также глубинные ощущения и восприятия на эмоциональном уровне физиологического единства, существовавшего во время беременности.
Возникновение симбиотической связи биологически детерминировано, и она, видимо, носит защитный характер, что обеспечивает восприимчивость матери к потребностям своего ребенка, она воспринимает его чувства как свои собственные. Хорошая мать почти всегда знает что именно хочет сказать ее ребенок, когда плачет, и здесь не нужно вербальное или другое конкретное знаковое выражение коммуникативного послания.
Способность матери адекватно реагировать на потребности младенца благодаря симбиотической связи, можно обозначить словом отзывчивость. Отзывчивость характеризуется межличностной чувствительностью, эмпатическим осознанием, предсказуемостью, неназойливостью, эмоциональной доступностью, способностью быстро и гибко эмоционально реагировать.
У большинства детей со стойкой привязанностью к матери отмечаются теплые и нежные взаимоотношения. Такие дети более любознательны, социально независимы и компетентны, чем их ровесники в возрасте 2-5 лет.
Следовательно, ребенок отвечает на истинную любовь и заботу матери ответной любовью. При этом дети, которых любят, лучше развиваются.
Определенный глубинный стиль отношения матери к Ребенку, если он был в периоде младенчества, никуда не исчезает и в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. Вероятно, тот же стиль навязывания своего ибо отсутствие отзывчивости к нуждам ребенка проделает существовать в отношениях матери и ребенка и после младенчества — в дошкольном, младшем школьном подростковом возрасте и в юности, меняются лишь его внешние проявления.
Привязанность к матери и зависимость от нее — разные вещи. Слово «зависимость» обозначает функциональную связь, а «привязанность» — форму поведения. В то время как зависимость ребенка от матери при рождении максимальна и уменьшается по мере наступления зрелости, привязанность при рождении отсутствует и выявляется позднее, становясь все более сильной.
Поведение привязанности не исчезает по мере взросления, а сохраняется на протяжении всей жизни. Остаются прежние или появляются новые люди, в отношениях с которыми имеется близость и общение. И если результаты такого поведения в основном те же самые, то средства их достижения постепенно становятся все более многообразными.
Согласно теории привязанности, у детей с наличием надежной уверенной привязанности хорошо развиты социальные навыки, они доверяют другим людям. Для «ненадежно привязанных детей» характерна несговорчивость, сопротивление контролю, импульсивность, эмоциональная вспыльчивость и проявление физической агрессии, следовательно, разрушение эмоциональной привязанности между родителями и детьми ведет к развитию агрессивности у детей. Отцы часто сами демонстрируют модели агрессивного поведения. Матери агрессивных детей не требовательные к своим детям, часто равнодушны к их социальной успешности. Создается впечатление, что, прибегая к агрессивному поведению, дети борются за свое выживание, а, вырастая, своим девиантным поведением мстят этому миру, и в первую очередь своим родителям, за то, что их не принимали, не любили, не заботились об их внутреннем мире, поскольку в своей жизни они больше встречали осуждение, чем понимание и участие.
В качестве примера можно привести наблюдение Я Боулби (2003), который в процессе детального изучения 44 детей с нарушением поведения и склонностью к воровству описал так называемый безэмоциональный характер и установил, что по разным причинам большинство из этих детей потеряли мать в самом раннем детстве и не имели никакой постоянной замещающей привязанности.
Необходимость проявления эмоциональной теплоты, как ни странно, признается далеко не всеми. Часто даже любящие матери полагают, что детей надо держать в строгости, чтобы они не избаловались, росли самостоятельными. Такие матери стараются не брать младенцев на руки, кормить строго по часам, не подходить, когда они плачут. Последствия подобного воспитания печальны: когда детям исполняется 7-8 лет, они часто оказываются клиентами психологических и медицинских консультаций с жалобами на эмоциональное расстройство. А все дело в том, что на первом году жизни ребенок нуждается не в принципиальном отношении матери, не в собственной самостоятельности, а в постоянном, неуклонном, безусловном проявлении материнского тепла, любви, ласки (Р. К. Мухамедрахимов, 1999).
Обобщенный портрет личности, формирующийся у Ребенка, с рождения оказывающегося в условиях материнской депривации, можно представить таким образом: интеллектуальное отставание, неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе. По мнению ряда исследователей, этот тип личности отличается от типа личности человека, лишенного материнской заботы не с рождения, а позже, когда тесная эмоциональная связь уже возникла. В таких случаях разрыв с матерью начинается с тяжелейшего эмоционального переживания ребенка (Л. М. Шипицына и др., 1997).
Уже полугодовалый младенец в первые месяцы разлуки плачет, требуя мать, ищет кого-нибудь, кто мог бы ее заменить. Второй месяц разлуки характеризуется возникновением реакции избегания: если кто-нибудь подходит к ребенку, он начинает кричать. Третий месяц знаменуется тем, что ребенок начинает избегать всяких контактов с миром, у него развивается апатия и аутизм (замкнутость в себе). Так ведут себя дети, не только отданные в детский дом, но и оказавшиеся в больницах, санаториях, других подобных учреждениях. Обычно после возвращения в семью последствия депривации постепенно проходят, однако в ряде специальных исследований было установлено, что в случае разлуки с матерью длительностью свыше 5-6 месяцев изменения оказываются необратимыми (Р. К. Мухамедрахимов, 1999).
В отличие от ребенка, с рождения оказавшегося без материнской заботы, развитие личности ребенка, имевшего мать, но в какой-то момент лишившегося ее, идет по так называемому невротическому типу, когда на передний план выступают разного рода защитные механизмы. Дети, разлученные с матерью, приспосабливаются новым условиям жизни, часто как бы забывают мать и же начинают относиться к ней негативно: не хотят узнавать, ломают полученные от нее игрушки (И. В. Дубровина, 1999).
Подобные невротические реакции ярко проявляются в рисунках покинутых детей. Литовский психолог Г. Т. Хоментаускас (1989), анализирующий рисунки семилетних детей, живших в семьях, а потом отданных в интернат, считает, что первое, с чем должен справиться ребенок в подобной ситуации разлуки, это назойливые мысли, что он обманут, что он никому не нужен, нелюбим, что он оставлен всеми — совсем один в этом мире. Такие мысли провоцируют реакции протеста и последующее, практически полностью подавленное, настроение. В этот период ребенок высказывает либо недоумение, либо сильное недоверие ко взрослым: «Все они такие. Они могут обмануть и оставить в любой момент». Дети замыкаются в себе, не делятся своими переживаниями со взрослыми — они как бы переваривают обиду в себе. Если в этот момент попросить ребенка сделать рисунок семьи, то он всякими способами будет отказываться, неосознанно пытаясь избежать травмирующего переживания. Ребенок придумывает самые разнообразные защитные вопросы: «А зачем?», «А что такое семья?» или просто отговаривается: «Я не умею рисовать людей». Даже тогда, когда он приступает к выполнению задания, то долго сидит молча, смотрит по сторонам и, в отличие от ребенка с хорошими эмоциональными отношениями в семье, начинает изображать неодушевленные предметы. Для детей в такой ситуации характерно достаточно типичное детальное изображение дома, солнца, туч и отсутствие членов семьи. На первый взгляд кажется парадоксальным, что в рисунках детей, оторванных от семьи, отсутствуют ее члены. Их нет не потому, что ребенок о них не помнит или они для него незначимы. Члены семьи, точнее воспоминания о них, связаны с негативными эмоциональными переживаниями — чувствами «покинутости», «нелюбимости», и ребенок избегает такой темы. Наряду с этим дети утрачивают доверие к самым близким ранее людям, да и к другим взрослым тоже. Они не чувствуют себя в безопасности, им неуютно в окружающем мире.
Г. Т. Хоментаускас (1989) рассматривает возможные пути преодоления ребенком сложившейся ситуации, ее внутренней переработки. Он видит два таких пути. Ребенок расценивает отделение от семьи как наказание за то, что он плохой, в результате он теряет самоуважение, начинает испытывать постоянное чувство вины, что и становится основной характеристикой его личности. Это первый путь. Второй — признание того, что во всем виновата семья, родители. Внутреннее состояние такого ребенка — это смесь злости, обиды и любви к родителям, что ведет к субъективному разрыву с семьей, повышению агрессивности ребенка.
Согласно А. Адлеру, в идеале мать проявляет истинную любовь к своему ребенку — любовь, сосредоточенную на его благополучии, а не на собственном материнском тщеславии. Эта здоровая любовь проистекает из настоящей заботы о людях и дает возможность матери воспитывать у своего ребенка социальный интерес. Ее нежность к мужу, к другим детям и людям в целом служит ролевой моделью для ребенка, который усваивается благодаря этому образцу понимание, что в мире существуют и другие значимые люди, а не только члены семьи. Если же она предпочитает исключительно своего мужа, избегает детей и общества, ее дети будут чувствовать себя нежеланными и обманутыми, и потенциальные возможности проявления их социального интереса останутся нереализованными. Любое поведение, укрепляющее в детях чувство, что ими пренебрегают и не любят, приводит их к потере самостоятельности и неспособности к сотрудничеству.
Следовательно, с одной стороны, научные исследования подтверждают устойчивость многих психических черт и свойств личности, формирующихся в раннем детстве, под влиянием отношений ребенка с родителями, особенно с матерью. С другой стороны, доказано, что это влияние нельзя считать фатальным, что личность развивается и меняется на протяжении всей жизни, под воздействием множества разных людей и обстоятельств. Люди, воспитанные в патриархальном духе и убежденные в том, что формирование личности осуществляется в основном и даже исключительно в первые пять лет жизни, обычно не сомневаются во всемогуществе родителей, приписывая все трудности и недостатки воспитания, главным образом, некомпетентности или небрежности родителей. Однако дело обстоит гораздо сложнее. Как утверждает И. С. Кон (1989), во-первых, родительское отношение к детям органически связано с общими ориентациями культуры и собственным прошлым опытом родителей; ни то ни другое нельзя изменить «по мановению волшебной палочки»; во-вторых, при всей их значимости, родители никогда не были и не будут единственными и всемогущими вершителями судеб своих детей. На детей оказывает влияние множество других, на первый взгляд, посторонних факторов.
Ребенок, лишенный родительской любви, имеет меньше шансов на высокое самоуважение, теплые и дружеские отношения с другими людьми, устойчивый положительный образ «Я» (И. С. Кон, 1989). Недоброжелательность или невнимание со стороны родителей вызывают враждебность у детей. Эта враждебность может проявляться как явно, по отношению к самим родителям, так и скрытно.
 Даже ежедневные коррекционные занятия
с детьми в раннем возрасте не способствуют установлению близких эмоциональных
отношений и формированию у ребенка привязанности (Р. Ж. Мухамедрахимов, 1999).
Попытки улучшения развития детей за счет кратковременных педагогических
воздействий не проявились положительно в их социально-эмоциональной сфере, что
подчеркивает невозможность реализации возможностей детей вне постоянного
непрерывающегося общения с отзывчивым и эмоционально доступным близким
человеком.
Даже ежедневные коррекционные занятия
с детьми в раннем возрасте не способствуют установлению близких эмоциональных
отношений и формированию у ребенка привязанности (Р. Ж. Мухамедрахимов, 1999).
Попытки улучшения развития детей за счет кратковременных педагогических
воздействий не проявились положительно в их социально-эмоциональной сфере, что
подчеркивает невозможность реализации возможностей детей вне постоянного
непрерывающегося общения с отзывчивым и эмоционально доступным близким
человеком.
2.5. ОТЦОВСКАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ И ЕЕ НАРУШЕНИЕ
Один из признаков нашего времени — большое число детей, растущих без отца, только с матерью. Статистик показывает, как много внебрачных детей, сколько случаев распада семей, разводов и смерти и какое развитие получили эти показатели в последнее время. Картина, которую нам рисуют цифры, совсем не утешительна. Но ведь статистика ничего не может рассказать о тех случаях, когда семья формально сохраняется, но практически не существует, и воспитательный вклад отца настолько незаметен, что его можно не принимать во внимание.
Проблема отцовства является относительно новой и фрагментарно изученной отечественной психологией. Большинство работ, затрагивающих процесс формирования личности ребенка, посвящено или роли матери, или роли родителей, и не раскрывают специфику влияния отца на развитие ребенка, тем более роли отцовской привязанности.
Первые психологические и социологические исследования, убедительно показавшие значение отца как воспитательного фактора, были посвящены не столько отцовству, сколько эффекту безотцовщины. Сравнивая детей, выросших с отцами и без оных, исследователи обнаружили, что «невидимый», «некомпетентный» и часто невнимательный родитель на самом деле очень важен. Во всяком случае, его отсутствие весьма отрицательно сказывается на детях.
Отец является одной из ключевых фигур в жизни ребенка. Он вносит большой вклад в воспитание ребенка, в развитие его способностей, приобретение им различных навыков. Отец, в силу значимости своей роли, не может быть заменен никем другим без ущерба для ребенка. Не случайно даже дети, приписывающие своим отцам негативные характеристики, воспринимающие их отношение как враждебное, отчужденное, все равно говорят, что отец это тот человек, в котором они сильно нуждаются которого они любят и ненавидят одновременно.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих влияние отца на ребенка, на их будущую взаимную привязанность, является как можно более раннее начало их общения. Решающими могут быть первые 2-3 дня (или даже первые часы) после рождения, когда в мозгу новорожденного запечатлеваются первые следы внешних событий (Б. И. Кочубей, 1990). Между тем в зарубежных работах установлено, что за исключением кормления грудью, отцы способны обеспечить полный уход за ребенком. Они могут купать, пеленать, кормить и качать так же умело, как мать. Отцы способны улавливать сигналы ребенка столь же чутко, как матери, и младенцы могут привязаться к отцам не меньше, чем к матерям. У отцов, которые посвящают много времени заботам о грудном ребенке, устанавливаются с ним прочные отношения привязанности, и детям это приносит большую пользу.
Доказано влияние отцов на раннее развитие ребенка. Данные многих исследований говорят о том, что отцы, державшие ребенка на руках сразу после рождения, и в дальнейшем продолжали больше играть со своими подрастающими детьми и заботиться о них. Эта новая роль заботливого отца благоприятно сказывается на развитии семьи. По результатам одного из исследований, младенцы, чьи отцы активно участвовали в их воспитании, показали более высокие оценки по тестам моторного и умственного развития. При этом такие младенцы вырастают более отзывчивыми в социальном плане.
Г. Крайг (2002) замечает, что отцы, у которых установись сильные эмоциональные связи с грудными детьми оказываются более чуткими к изменяющимся потребностям и интересам своих детей и когда они взрослеют. Такие отцы имеют большее влияние на своих детей, дети чаще прислушиваются к ним и хотят походить на них, благодаря установившимся между ними тесным разнообразными отношениям (Г. Крайг, 2001).
Некоторые американские исследователи отмечают даже, что у отцов, которые недосягаемы для маленьких детей, могут возникнуть трудности в налаживании с ними прочных эмоциональных связей в дальнейшем. Однако даже наличие явной корреляционной зависимости между заботой отцов о новорожденных детях и их взаимоотношениями в более позднем возрасте ребенка (например, в подростковом) еще не говорит об их причинно-следственной связи. Скорее всего, более глубоким фактором является общее отношение мужчины к близким, к семье (и к ребенку) и к самому себе (А. И. Кочетов, 1989).
По мнению американских ученых, косвенное влияние отца на младенца и на семью имеет весьма большое значение. Многочисленные исследования показывают, что поддержка отцом матери во время ее беременности и раннего младенчества очень важна для начала установления позитивных отношений. Отсутствие отца в периоде младенчества создает немалые трудности для функционирования семейной системы.
Предполагается, что чем раньше отец приобщается к уходу за младенцем и чем более увлеченно он это делает, тем сильнее становится его родительская любовь. Во многих родильных домах за рубежом, а в последние годы и в нашей стране, отцы даже присутствуют при родах. Сказывается не только привычка, но и ответный эмоциональный отклик ребенка, к которому мужчины весьма чувствительны.
Социологические исследования показали, что функция отца в последние десятилетия изменилась гораздо значительнее, чем матери. И изменилась к лучшему. Эти перемены вытекают из большей вовлеченности отцов в заботу о детях. Сегодня отцы несравненно больше проводят времени с детьми. Они глубже переживают интимность семейной жизни, чем их деды. Раньше основная роль отца заключалась в том, что он обеспечивал семью пропитанием, силой и ловкостью защищал от внешней опасности. Сегодня его обязанности гораздо более направлены внутрь семьи, чем вовне. Внешняя опасность потеряла свое значение, и ее место заняла внутренняя. Семье давно уже не грозит нападение зверей или враждебного племени, ей грозят недоразумения, недостаток любви и внимания друг к другу (А. И. Кочетов, 1989; Т. В. Андреева, 2004).
Доказано, что у детей развивается привязанность не только к матери, но и к отцу. Особенно заметное влияние на ее развитие оказывает игра с отцом. Отцы проводят в игре с детьми в 4-5 раз больше времени, чем в процессе ухода за ним. Привязанность к отцу особенно важна для формирования у ребенка сексуальной идентичности своего «Я». Привязанность отца к ребенку разъединяет диаду «мать—ребенок», давая ребенку альтернативный объект любви (Д. Боулби, 2003).
В ходе наблюдений за взаимодействием матерей и отцов с грудными детьми установлено, что, даже играя с ребенком мать старается, прежде всего, успокоить, унять его; материнская игра — своего рода продолжение и форма ухода за ребенком. Напротив, отец, и вообще мужчина, предпочитает силовые игры и действия, развивающие собственную активность ребенка, роль отца в воспитании ребенка, утверждают педагоги, психологи, важна необычайно. Как выразился Аристотель в свое время: «отец учит, мать растит», безусловно отдав важнейшую роль в формировании личности ребенка мужчине. С тех пор в жизни слишком многое изменилось, но отец по-прежнему остается для своих детей первым и главным источником представлений о мужчинах. А отцовское отношение к матери — модель для изучения и чаще всего повторения. Именно подражание — самый характерный способ познания действий для ребенка. Так, холостяк чаще всего выращивает в сыне свое подобие. А мальчик, растущий в неполной семье, с одной только матерью, особенно легко воспринимает женские качества и женский стиль поведения.
Отечественные педагоги и психологи также постоянно подчеркивали значение отца в семейной социализации. Отмечалось, например, что в воспитании сына отцу принадлежит особая роль. Значимость личности отца, прежде всего, в том, что для сына он представляет эталон мужчины (Т. В. Андреева, 2004). Образцы поведения отца, копируемые ребенком, формируют нравственный облик, способы поведения мальчика. От отца он перенимает мужественные черты, учится мужскому достоинству, рыцарству (Л. Ф. Островская, 1990).
Ребенок
обучается своей будущей роли, мысленно отождествляя себя с родителем того же
пола. Особая от ветственность возлагается на отца за воспитание своего
сына, так как большое значение имеет опыт общения с отцом, и более того — опыт
наблюдения за поведением отца по отношению к матери.
ветственность возлагается на отца за воспитание своего
сына, так как большое значение имеет опыт общения с отцом, и более того — опыт
наблюдения за поведением отца по отношению к матери.
Нормальное развитие мужских интересов, мужского самосознания у детей тесно связано с участием отца в их воспитании. Традиционная точка зрения приписывает отцу, в первую очередь, дисциплинирующее влияние. Многие считают, что в основе развития нравственности ребенка лежит страх отцовского наказания, но наиболее мужественные сыновья вырастают отнюдь не у отцов, которые являются сторонниками спартанской суровости, а у нежных и заботливых. Данные научных исследований, равно как и повседневных наблюдений, собранные в разных странах Европы, и Америки, говорят об отсутствии связи между строгостью отца, его склонностью к наказаниям, с одной стороны, и уровнем развития нравственных качеств сына — с другой. Если же такую связь и находят, она скорее носит противоположный характер: у чрезмерно суровых отцов сыновья порой лишены способности к сочувствию и со страданию, агрессивны, а иногда и асоциальны.
Сыновья добрых, мягких отцов очень рано начинают, предпочитать мужские (технические) игрушки и отвергать женские (куклы), тогда как сыновья суровых отцов долго не могут выбрать игрушку «своего пола». Мальчики, отцы которых занимают по отношению к ним холодную и отвергающую позицию, могут противиться подражанию мужскому стилю поведения. Сердечные, эмоциональные отношения отца с сыном облегчают воспитание ребенка, создают возможности для руководства его поведением, так как ребенок не захочет потерять дорогие ему чувства отца или встретить с его стороны даже мягко высказанное неодобрение (Б. И. Кочубей, 1990).
Зачастую мы сталкиваемся с глубокими различиями между понятиями лидерства отца в семье, с одной стороны, и жестокой авторитарностью — с другой. Авторитарность отца, его тяга к строгому порядку в семье мешают развитию мужского самосознания сына. А главенство в решении наиболее важных и ответственных вопросов семейной жизни является важным положительным моментом. Отец, пассивный в принятии решений, вытесняемый из воспитательного процесса энергичной матерью и (или) бабушкой ребенка, создает ситуацию, в которой развитие подлинных мужских черт у сына затруднено и искажено.
Маленький мальчик пользуется отцовской моделью поведения. Если отец выражает свое недовольство агрессивно, его сын будет пытаться поступать подобным же образом. Если отец скрывает свое раздражение под маской молчания, сын будет считать это нормой мужского поведения. Общие игры, секреты, симпатии и привязанности между отцом и сыном будут для сына гораздо лучшей моделью мужского поведения, чем прямые жесткие попытки воспитать «настоящего мужчину». Мудрое, щедрое на ласку отцовское воспитание способствует формированию более мужественных мальчиков и женственных девочек (Д. Виткин, 1996).
Роль отца в усвоении ребенком половой роли может быть особо значимой. Отцы даже в большей степени, чем матери, приучают детей к половым ролям, подкрепляя развитие женственности у своих дочерей и мужественности — у сыновей. Одно время считалось, что влияние отцов сказывается только на обучении сыновей маскулинным моделям поведения, и это утверждение верно для детей дошкольного периода.
Мальчик, отец которого покинул семью до того, как ему исполнилось пять лет, впоследствии оказывается более зависимым от своих ровесников и менее уверенным в себе, чем мальчик из полной семьи. Если мальчик ведет себя, опираясь на готовую модель отцовского поведения, то в результате его поведение и психика становятся более стабильными (Д. Виткин, 1996).
Дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень притязаний. У них, особенно у мальчиков, выше уровень тревожности и чаще встречаются невротические симптомы. Мальчики из неполных семей труднее налаживают контакты со сверстниками. Отсутствие отца отрицательно сказывается на учебной успеваемости и самоуважении детей, опять же особенно мальчиков. Таким мальчикам труднее дается усвоение мужских половых ролей и соответствующего стиля поведения, поэтому они чаще других гипертрофируют свою маскулинность, проявляя агрессивность, грубость, драчливость.
А. И. Захаров (2000) указывает на факт снижения эмоциональной чувствительности у мальчиков при наличии отца злоупотребляющего алкоголем (по сравнению с мальчиками, у которых отцы не пьют). Отец и дочь дополняют друг друга. Отец часто находит в дочери то, что он искал, но не мог найти в жене. Явление, названное Фрейдом «комплекс Электры», — тяготение дочери к отцу — бессознательно провоцируется отцом, неудовлетворенным и разочарованным общением с женой. Такой отец воспитывает в дочери то, что он хотел бы видеть в жене и в этом воспитании отдает ей себя.
Однако если между дочерью и отцом есть отчуждение, то оно может стать абсолютным. Оно превращается в неспособность общения — в стену, разделяющую мужчину и женщину, между которыми не должно быть сексуальных отношений.
Почему девочке необходим отец? Потому что ей очень важно усвоить способы поведения матери по отношению к отцу. А если отца в семье нет, то у девочки может появиться бессознательная установка, что отец не нужен, а это повлияет на ее семейные ожидания, формирование представлений о семье как главной ценности жизни.
На девочках отсутствие отца сказывается, в первую очередь, в подростковый период. Хорошие отцы способны помочь своим дочерям научиться взаимодействовать с представителями противоположного пола адекватно ситуации.
Говорят: «Мать учит ребенка жить в доме, отец помогает ему выйти в мир», другими словами, мать ответственна за эмоциональные привязанности, а отец — за эмоциональную независимость. Если же в семье происходят постоянные конфликты или же один из родителей отсутствует (физически или эмоционально), ребенок не получает необходимого воспитания (Д. Виткин, 1996).
Отец должен готовить детей, особенно сыновей, к семейной жизни, причем готовить их с первых сознательных шагов. Никто, кроме отца, не научит сына, как надо относиться к женщине, никто, кроме него, не приучит к чисто мужским делам: заботиться о семье, ремонтировать квартиру, владеть простейшими инструментами, бытовой техникой, делить с супругой бремя хозяйственных дел. Своим примером он учит, как надо создавать дружную семью, разрешать конфликты, выполнять отцовские обязанности. Нельзя забывать: полноценная подготовка к семейной жизни осуществляется лишь в полноценной семье.
Девочки, выросшие без отцов, могут стать хорошими работниками, неплохими товарищами, но лишь после немалых трудностей — хорошими женами. Мальчики, выросшие без отцов, могут стать настоящими людьми, но так трудно им устроить семейную жизнь: перед ними не было живого примера мужского поведения. Особенно наглядны в этом плане примеры наблюдений за детьми, чьи отцы находились на фронте (во время Второй мировой войны) или воевали в Афганистане, Чечне и других «горячих точках» (в современный период).
Так, наблюдения за детьми, отцы которых во время Второй мировой войны находились на фронте, показали, что эти дети в сравнении с теми, кто в ранний период жизни воспитывался обоими родителями, проявляли больше нарушений в поведении. У них была более слабая приспособляемость к ситуации вне дома, большая зависимость от взрослых, пугливость и неприязненное отношение к другим детям. Отмечалось также, что тематические игры мальчиков дошкольного возраста, у которых отцы долгое время находились вне дома, были менее мужскими по сравнению с играми мальчиков, отцы которых постоянно жили в семье. Внимание к ребенку, а не пресловутая отцовская строгость, теплота и откровенность отношений между отцом и сыном, отцом и дочерью, отсутствие резких перепадов от вседозволенности к суровым наказаниям — вот «приводные ремни», направляющие развитие душевных качеств ребенка. Теплые и дружественные отношения с четким осознанием границ, что можно и чего нельзя, — оптимальные условия для формирования таких качеств, как честность, откровенность, отсутствие эгоизма. Отцовские запреты действуют только на фоне отцовской любви.
В прошлом сила отцовского влияния коренилась, прежде всего, в том, что он был воплощением власти и инструментальной эффективности. В патриархальной крестьянской семье отец не ухаживал за детьми, но они, особенно мальчики, проводили много времени, работая с отцом и под его руководством. В городе положение изменилось. Как работает отец, дети не видят, а число и значимость его внутрисемейных обязанностей значительно меньше, чем у матери.
По мере того как «невидимый родитель», как часто называют отца, становится видимым и более демократичным, он все чаще подвергается критике со стороны жены, а его авторитет, основанный на внесемейных факторах, заметно снижается. Ослабление и даже полная утрата мужской власти в семье отражаются в стереотипном образе отцовской некомпетентности.
Еще больше снижается влияние отца в случае развода. По данным опроса большой группы разведенных жен и мужей, только треть таких отцов, по их словам, достаточно часто видят своих детей и могут в какой-то степени заниматься их воспитанием. Жены оценивают положение еще пессимистичнее, вдвое чаще говоря об отсутствии каких бы то ни было отношений между отцом и ребенком. Однако дело тут не только и, может быть, даже не столько в нежелании отцов, сколько в настроении самих женщин. Только 17% разведенных жен считают, что они хотели бы более частых контактов отца с детьми, тогда как 41% предпочли бы, чтобы таких контактов не было вовсе.
Американская статистика свидетельствует, что после развода 90% детей остаются с матерью, а общение отцов с детьми ограничивается или совсем прекращается. Около трети американцев после развода практически перестают общаться с детьми, отчасти потому, что мужчины сами теряют к ним интерес, а отчасти потому, что бывшие жены препятствуют таким контактам. В результате на макросоциальном уровне безотцовщина не уменьшается, а растет.
Отсутствие в подавляющем большинстве систематических контактов с отцом, живущим вне семьи, не позволяет компенсировать влияние неблагоприятных факторов на развитие ребенка. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (таблица 2). Чем устойчивее контакты ребенка из неполной семьи с отсутствующим отцом, тем лучше отношения ребенка с матерью и его поведение в целом (Л. М. Шипицына, 2005).
Влияние характера контактов с отцом на поведение ребенка
|
Характер контактов |
Особенности поведения ребенка |
|
|
Натянутые отношения с матерью (%) |
Частые неблаговидные поступки (%) |
|
|
1. Отсутствующего родителя ребенок не знает |
25 |
37 |
|
2. Контактов нет |
20 |
33 |
|
3. Эпизодические контакты |
5 |
16 |
|
4. Систематические контакты |
3 |
2 |
В семейном воспитании детей без отца могут быть выделены три типа отношений (Д. Боулби, 2003):
Первый тип определяется стремлением матери никогда не упоминать об отце и строить воспитание так, как будто его никогда не было. Такой стиль можно считать целесообразным лишь в ситуации, когда ребенок действительно не знал отца и мать приняла решение о рождении ребенка и его будущем воспитании самостоятельно. Однако и в такой ситуации матери следует дать определенные разъяснения ребенку, когда он будет способен их понять. И чем раньше мать это сделает, тем лучше. Если же дети знали своего отца, помнят его, строить воспитание, делая вид, что его просто нет и не было, вряд ли разумно.
Второй тип поведения характеризуется попытка матери обесценить отца. В этом случае мать старается изгладить из детских воспоминаний даже самые незначительные положительные впечатления об отце. Мать всеми силами стремится убедить ребенка, что отец был плохим человеком, и поэтому семья стала неполной. Каким бы ни было истинное положение вещей, подобную воспитательную позицию следует считать при всех условиях неблагоприятной. Если ребенок не знал отца или не помнит его, то негативное отношение к нему матери он может истолковать как несправедливое. Более того, по мере взросления в такой семье, дети, вместо того чтобы больше уважать и ценить мать, начинают смотреть на нее критически и, возможно, переносить на отношение к ней свои обиды за отсутствие отца. Часто то негативное, о чем упоминала мать по отношению к отцу, дети начинают замечать, фиксировать в самой матери. Так возникают глубокие внутренние конфликты и нарушается контакт между ребенком и матерью, который особенно необходим неполной семье.
Третий тип воспитания без отца, наиболее разумный и благоприятный, связан с созданием у детей представления об отце как об обычном человеке, у которого имеются определенные достоинства, но были и недостатки и слабости. Эта самая трудная позиция для матери, но самая приемлемая для воспитания ребенка. Она требует от матери необыкновенной выдержки, самоконтроля, умения подавлять свои непосредственные эмоции, может быть, преодолеть горечь от пережитой несправедливости или обиды. Если мать последовательно и сознательно реализует такую позицию в отношениях с ребенком, это позволяет в значительной степени преодолеть основные трудности воспитания, связанные с отсутствием отца. Подобная ситуация не только не вызовет осложнений, но и создаст правильный эмоциональный фундамент для воспитания. Ребенок сможет спокойно и благоразумно воспринимать материнский авторитет, независимо от сложившихся семейных обстоятельств. Чем устойчивее контакты ребенка из неполной семьи с отсутствующим отцом, тем лучше отношения ребенка с матерью и его поведением в целом.
Большинство социальных характеристик детей, переживающих развод, свидетельствует о негативном характере его последствий на личность ребенка. Так, все без исключения практикующие психологи и специалисты, работающие с последствиями распада семьи, отмечают высокий уровень тревожности, свойственный детям после развода. Специалисты отмечают более выраженные негативные последствия ситуации в неполной семье у детей после развода, в отличие от детей, потерявших родителей в результате преждевременной смерти. Если последние пережили потерю родителя как следствие несчастного случая, то у переживших развод родителей уход одного из них связан с представлениями о предательстве, отсутствии любви и собственной незначимости. Дети после развода больше подвержены психологической деформации личности, они чаще имеют низкие самооценки, выше индекс тревожности, больше подвержены комплексам.
Ребенок из неполной семьи после развода родителей чаще оказывается объектом нравственно-психологического давления со стороны детей из благополучных полных семей, что может привести к формированию чувства неуверенности, а нередко избалованности и девиантного поведения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Изложите концепцию привязанности Д. Боулби, ее специфичность.
2. Объясните особенности поведения привязанности детей раннего возраста.
3. Опишите стадии формирования привязанности и реакций ребенка на разлуку с матерью.
4. Объясните, что такое «сепарация» и «госпитализм».
5. Проанализируйте поведенческие реакции ребенка в зависимости от качества привязанности.
6. Дайте характеристику материнской привязанности и ее роли в развитии личности и поведения ребенка.
7. Дайте характеристику отцовской привязанности и особенностей поведения детей разного пола в зависимости от ее нарушения.
8. Объясните, каким образом влияет контакт с отцом на поведение ребенка.
Глава 3
СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ПРИЧИНА ДЕТСКОЙ
ДЕВИАНТНОСТИ
Любой тип семейной дезорганизации изначально предрасположен к формированию личностных и поведенческих отклонений у детей, так как приводит к возникновению психотравмирующих ситуаций для ребенка в семье.
Усугубляют семейное неблагополучие просчеты воспитания в семье. Наиболее типичны из них следующие:
ü неприятие ребенка, его явное или скрытое эмоциональное отторжение родителями;
ü гиперопека, когда ребенку не дают проявить элементарную самостоятельность, изолируют от окружающей жизни;
ü непоследовательность и противоречивость воспитания, которая характеризуется разрывом между требованиями к ребенку и контролем над ним, несогласованностью педагогических действий родителей, бабушки, что дезориентирует ребенка; непонимание закономерностей и своеобразия личностного развития детей, и несоответствие требований и ожиданий родителей возможностям и потребностям детей;
ü негибкость родителей в отношениях с детьми, которая выражается в недостаточном учете ситуации, в заданности и запрограммированности требований, в отсутствии альтернатив в решениях, в навязывании ребенку собственного мнения, в резкой смене отношения к ребенку в различные периоды , его жизни (недостаток заботы сменяется ее избытком или наоборот);
ü
избыток родительского раздражения,
недовольства, беспокойства, тревоги по отношению к детям что создает в семье
эффект суматохи, хаотичности,
всеобщего возбуждения;
ü тревожность и страх за детей, которые приобретают навязчивый характер и лишают родителей жизнерадостности и оптимизма, заставляют их прибегать к постоянным запретам и предостережениям, что заражает детей таким же беспокойством;
ü авторитарность воспитания — стремление подчинить ребенка своей воле; категоричность суждений, приказной тон; навязывание своего мнения и готовых решений; стремление к строгой дисциплине и ограничению самостоятельности детей; использование принуждения и репрессивных мер, включая физические наказания; постоянный контроль действий ребенка;
ü гиперсоциальность, когда родители пытаются строить воспитание по определенной (пусть и позитивной) заданной схеме, не учитывая индивидуальности ребенка, предъявляя к нему завышенные требования, без надлежащего эмоционального контакта, отзывчивости и чуткости.
Таким образом, по всей совокупности причин и факторов, ведущих к семейному неблагополучию в отношении ребенка, определяющими являются субъективные факторы и причины психолого-педагогического свойства то есть нарушения в межличностных внутрисемейных отношениях и дефекты воспитания детей в семье. Другими словами, патогенным фактором выступает не состав и структура семьи, не уровень ее материального благополучия, а сформировавшийся в ней психологический климат.
В основе эмоциональной привязанности ребенка к родителям первоначально лежит зависимость от них, причем мать в этом отношении детям ближе, чем отец. Нарушение эмоциональной связи ребенка с матерью является одной из главных причин девиантного поведения. Постоянство материнской заботы служит предпосылкой возникновения у ребенка чувства доверия к миру, которое необходимо для нормального развития личности.
Очевидно, что разрыв или ослабление эмоциональной связи с матерью существенно деформирует индивидуальное развитие ребенка. Прекращение эмоционального взаимодействия с матерью порождает у него первичную тревогу, которая с течением времени усиливается. На фоне выраженного чувства тревоги протекает дальнейшее формирование личности ребенка. Соответственно и его развитие приобретает все более отчетливый дисгармоничный характер.
Наблюдение за детьми из неблагополучных семей свидетельствует о том, что эти дети значительно отстают в физическом и психическом развитии от своих сверстников из благополучных семей.
Дети из неблагополучных семей испытывают состояние сильного неудовлетворения своих основных психических потребностей. Некоторые исследователи считают, что в неблагополучных семьях степень депривации, даже сильнее, чем в детских учреждениях интернатного типа.
![]() Нарушение материнской привязанности, представляющее
собой материнскую депривацию, вызывает у ребенка эмоциональные нарушения.
Отсутствие отца ребенок переживает гораздо менее болезненно, чем отсутствие
матери. Однако ребенок без отца не имеет примера регуляции поведения, страдает
от недостатка авторитета и контроля. Родительская
любовь способствует возникновению и укреплению чувства собственного
достоинства и самоуважения у человека. Ребенок, лишенный любви, чувствует себя
неудовлетворенным, недостойным и униженным недоброжелательностью или
невниманием со стороны родителей, что вызывает осознанную враждебность.
Безотчетная, немотивированная жестокость может проявляться по отношению к
другим людям. Если эта бессильная агрессия направлена внутрь, она вызывает
чувство вины, тревоги.
Нарушение материнской привязанности, представляющее
собой материнскую депривацию, вызывает у ребенка эмоциональные нарушения.
Отсутствие отца ребенок переживает гораздо менее болезненно, чем отсутствие
матери. Однако ребенок без отца не имеет примера регуляции поведения, страдает
от недостатка авторитета и контроля. Родительская
любовь способствует возникновению и укреплению чувства собственного
достоинства и самоуважения у человека. Ребенок, лишенный любви, чувствует себя
неудовлетворенным, недостойным и униженным недоброжелательностью или
невниманием со стороны родителей, что вызывает осознанную враждебность.
Безотчетная, немотивированная жестокость может проявляться по отношению к
другим людям. Если эта бессильная агрессия направлена внутрь, она вызывает
чувство вины, тревоги.
Изучение зависимости агрессивного поведения детей от характера наказаний, а также контроля родителями поведения своих детей показало, что жестокие наказания связаны с высоким уровнем агрессивности у детей (малолетние преступники, как правило, происходят из семей где физическая жестокость идет «рука об руку» с безразличием к чувствам детей), а минимальный контроль детей коррелирует с высоким уровнем асоциальности. Часто эти два типа воспитания (чрезмерная строгость наказания и отсутствие контроля: «эмоциональное отвержение» и «гипопротекция») встречаются в одной семьей. Первый тип в основном прослеживается по линии отца, а второй — по линии матери.
Дети черпают знания о моделях девиантного, в том числе агрессивного и аддиктивного поведения, в основном из трех источников. Во-первых, семья может одновременно демонстрировать эти модели и обеспечивать их подкрепление. Вероятность асоциальных форм поведения детей зависит от того, сталкиваются ли они с их проявлениями у себя дома. Во-вторых, нарушенному поведению они также обучаются при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах, например, агрессивного поведения во время игр. И наконец, в-третьих, дети учатся асоциальному поведению не только на реальных примерах (поведение сверстников и членов семьи), но и на символических, предлагаемых в средствах массовой информации.
В основе тех проблем, которые
осложняют и искажают отношения детей и родителей, лежит отсутствие желания
понять друг друга. При проведении опроса учащихся старших классов было
выявлено, что в способах реагирования на непослушание подростков до
тируют запретительные и насильственные меры наказания.
Жизнь многих детей протекает в неполных семьях Они часто становятся свидетелями и участниками таких семейных событий или обстоятельств психотравмирующего характера, как распад родительской семьи, иногда без формального развода, проживание с отчимом или мачехой, жизнь в конфликтной семье и др. Все это, естественно, негативно сказывается на воспитательном потенциале семей, способствует формированию разных нарушений поведения.
По экспертной оценке специалистов, несовершеннолетние правонарушители более чем в 2 раза чаще происходят из неполной, чем из полной семьи (С. В. Дармодехин, 2001).
Согласно обобщенным за последние годы данным доля подростков-правонарушителей из неполных семей составляет от 32 до 47%, в их числе 30-40% подростков, успевших пристраститься к алкоголю или наркотикам, 53% — занимающихся воровством (Л. М. Шипицына, 2005).
Существенно больше в неполных семьях педагогически запущенных детей. Дети в неполных семьях в 2 раза чаще, чем в полных, остаются без всякого присмотра, то есть материальные и другие проблемы жизнедеятельности неполной семьи нередко приводят к безнадзорности детей со всеми вытекающими отсюда последствиями. В неполной семье значительно чаще возникают конфликты между матерью и детьми-подростками. Ребенок, воспитанный в такой семье, обычно недостаточно подготовлен к созданию собственной семьи и семейной жизни. Вероятность распада брака у воспитанных в неполных семьях значительно выше, чем у выросших в обычных (Воспитание трудного ребенка, 2001).
О детях, которых воспитывают одинокие матери, можно услышать удивительно противоположные мнения. Одни утверждают, что это всегда плохо, другие говорят, что это не имеет значения, третьи убеждают, что очень много успешных и выдающихся людей было воспитано одинокой матерью и, в сущности, это даже полезнее. По крайней мере, материнское воспитание еще никому не повредило. И всем известны примеры, когда некоторые женщины сознательно и обдуманно хотят иметь ребенка, но не хотят создавать семью и не признают совместной жизни с мужем.
В неполных семьях, кроме отсутствия отца, имеются и другие проблемы: материальные трудности, суженный круг внутрисемейного общения, от которого немало зависят воспитательные возможности. Женщина-мать, лишенная мужской поддержки, часто психологически травмирована, что отражается и на ее отношении к детям. Имитируя отцовскую строгость и требуя от детей дисциплины, некоторые одинокие матери больше заботятся о формальном послушании, успеваемости, вежливости и т. п., нежели об эмоциональном благополучии ребенка. Другие, напротив, прямо признают свое бессилие. Третьи чрезмерно опекают детей, особенно единственных, пытаясь оградить их от всех действительных и воображаемых опасностей. Хотя такое стремление кажется бескорыстным и даже жертвенным, оно крайне эгоистично и отрицательно сказывается на ребенке. Чрезмерно опекаемый, заласканный ребенок сплошь и рядом вырастает пассивным, физически и морально слабым или же начинает бунтовать. Как показывают психологические исследования, сильная зависимость от матери часто сочетается с чувством враждебности к ней. Иногда дети идеализируют отсутствующего отца и т. д.
Одинокий отец, который сам заботится о ребенке - большая редкость. Но все же такие бывают. Количество мужских неполных семей составляет примерно 6,5% от всех неполных семей. Судебная практика лишь в исключительных случаях доверяет ребенка отцу, а не матери.
![]() То, что мать может успешно вырастить
и воспитать ребенка и без отца, — известно давно. Но существует опыт «одиноких
отцов». В Англии отцы составляют 12% всех одиноких родителей. Одиноких отцов и
одиноких матерей характеризует ряд общих особенностей: более ограниченная
социальная жизнь, несколько более демократический стиль семейной жизни и
наличие определенных трудностей при вступлении в новый брак. Наряду с этим у
них есть свои специфические социально-психологические трудности. Одинокие отцы
получают больше помощи со стороны друзей и родственников, зато у них в
значительно большей степени, чем у одиноких матерей, суживается круг
социального общения. Если одинокие матери испытывают трудности с дисциплиной
детей, то отцы озабочены недостаточной эмоциональной близостью с ними,
особенно с дочерьми. Но хотя в обоих случаях неполная семья создает трудности
(разного порядка), отсутствие одного из родителей не исключает возможности
нормального развития ребенка и какой-то компенсации недостающего отцовского
или материнского влияния.
То, что мать может успешно вырастить
и воспитать ребенка и без отца, — известно давно. Но существует опыт «одиноких
отцов». В Англии отцы составляют 12% всех одиноких родителей. Одиноких отцов и
одиноких матерей характеризует ряд общих особенностей: более ограниченная
социальная жизнь, несколько более демократический стиль семейной жизни и
наличие определенных трудностей при вступлении в новый брак. Наряду с этим у
них есть свои специфические социально-психологические трудности. Одинокие отцы
получают больше помощи со стороны друзей и родственников, зато у них в
значительно большей степени, чем у одиноких матерей, суживается круг
социального общения. Если одинокие матери испытывают трудности с дисциплиной
детей, то отцы озабочены недостаточной эмоциональной близостью с ними,
особенно с дочерьми. Но хотя в обоих случаях неполная семья создает трудности
(разного порядка), отсутствие одного из родителей не исключает возможности
нормального развития ребенка и какой-то компенсации недостающего отцовского
или материнского влияния.
Изучение феномена семейного неблагополучия позволяет отметить, что в последние годы нарастает отчуждение между родителями и детьми.
В одних семьях воспитание детей ограничивается заботой об их материальном благополучии. В других — критерием успешного воспитания считают адаптацию ребенка в обществе. В третьих ценят, прежде всего, способность детей устанавливать контакты с другими людьми. В четвертых родители хотят воспитать человека, стремящегося к самосовершенствованию и т. д. Отношение родителей к проблемам воспитания детей отражает систему ценностей семьи, то, к чему она стремится и на какой основе складывается ее образ жизни. Поэтому за уровнем осознания своей ответственности за судьбы детей стоят культура и атмосфера семейной жизни. Соответственно, меры, направленные на усиление ответственности родителей за воспитание и обучение детей, в определенной мере влияют на весь уклад семейной жизни, помогают преодолеть ряд социальных проблем.
В зависимости от степени ответственности родителей воспитание и обучение детей можно выделить несколько типов семей: «проблемную», «некомпетентную», «благополучную» (Родители в ответе..., 2002). Рассмотрим особенности каждой из них более подробно.
3.1. ПРОБЛЕМНАЯ СЕМЬЯ
Казалось бы, существование детей уже само по себе делает родителей более ответственными и заставляет принимать более разумные решения в кризисных ситуациях. Однако это далеко не так. В этом убеждает так называемая «проблемная семья» или, точнее, «семья группы риска». В обыденном сознании чаще всего к этому типу семьи относят неполную семью на том основании, что отсутствие одного из родителей является источником серьезных отклонений в поведении детей. Данные исследований не обнаруживают подобной прямой связи. Они фиксируют, с одной стороны, жизненную неудовлетворенность родителя, в одиночку воспитывающего ребенка, низкую материальную обеспеченность подобной семьи, но, с другой, высокую степень самостоятельности ребенка, раннее проявление чувства ответственности. Серьезной предпосылкой отклонений в поведении детей неполная семья становится в том случае, если дети испытывают дефицит внимания со стороны матери (или отца).
Работа с «проблемной» семьей, нацеленная на усиление ответственности родителей, должна начинаться с выявления неблагополучных детей. Подобная диагностика осуществляется социальными работниками, психологами и педагогами на протяжении достаточно длительного времени и включает сбор информации, общение с детьми и родителями. В итоге она позволяет зафиксировать характер и виды отклоняющегося поведения и на этой основе выделить две группы подростков:
1) нуждающихся в защите от семьи;
2) нуждающихся в восстановлении утерянных контактов с семьей и школой.
Технология работы с детьми, принадлежащими к первой группе, обусловлена, прежде всего, характером семейных проблем. В зависимости от них разрабатывается план реабилитации, включающий широкий комплекс мер: от сокращения сроков пребывания ребенка в семье до помещения ребенка в центры детской реабилитации на основе решения органа местного самоуправления.
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применять к родителям административные меры (объявить общественное порицание или предупреждение, наложить денежный штраф за причиненный ущерб и т. д.) в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены следующие специальные нормы уголовной ответственности родителей:
ü За вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем обмана, угроз или иным способом.
ü За вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков и одурманивающих средств.
ü За вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством.
ü За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния соединены с жестоким обращением.
Работа с детьми, отнесенными ко второй группе, нацелена на восстановление утерянных контактов с семьей и школой. Она осуществляется психологами, педагогами социальными работниками, родителями, самими детьми. Если ребенок бросил школу, первостепенная задача — возвратить его. Учебные затруднения, вызванные прогулами, остро ощущаемый неуспех рождают агрессию, поиск поддержки среди неустойчивой части подростков и стремление вновь бросить школу. В этом случае целесообразно не настаивать на возвращении ученика в прежний класс, а по согласованию с родителями перевести его в профессиональное училище или вечернюю школу.
Участие школы в восстановлении семейных контактов преследует следующие цели:
ü формирование у родителей отношения к подросткам как к самоценным личностям, имеющим сильные стороны и необходимые возможности для достойной жизни;
ü развитие заинтересованного взаимодействия, требующего не столько дополнительного времени, сколько умения проявлять искренний интерес к нуждам ребенка и его состояниям;
ü освоение подростками навыков конструктивного взаимодействия с родителями (умение понимать родителей, умение вести себя достойно в конфликтных ситуациях с родителями и т. д.).
Сказанное позволяет еще раз подчеркнуть, что объективные неблагоприятные факторы формируют негативное или индифферентное отношение к детям в «семьях риска» не сами по себе, а во «взаимодействии» с социальной и моральной неустойчивостью родителей.
3.2. НЕКОМПЕТЕНТНАЯ СЕМЬЯ
Подобное определение подчеркивает неумение родителей взаимодействовать с детьми, их неспособность понять истинные потребности ребенка и создать возможности для их удовлетворения, неумение видеть перспективы развития ребенка, постоянное подчеркивание своего авторитета и т. д. Отсюда появление ряда социальных проблем, прямо или косвенно влияющих на отношение детей к родителям, окружающим, школе; достаточно низкий уровень ответственности детей за себя, свои поступки и их последствия. Можно заключить, что воспитательная некомпетентность имеет далеко идущие социальные последствия, в частности опасность превращения подобной семьи в «семью группы риска». Поэтому работа по повышению родительской компетентности носит профилактический характер.
На основе анализа отношения родителей к своей подготовке в области воспитания детей выделяются три группы семей (Родители в ответе..., 2002):
Первая группа. Родители из этой группы не ощущают своей некомпетентности.
Они уверены в том, как надо «воспитывать» и в хорошем знании себя и ребенка. Убеждены
в праве «писать сценарий» его будущей жизни. В основе подобной позиции лежит
опыт собственного детства, принятые тогда методы и формы воспитания![]() ; негативное отношение к «словесной
педагогике»; понимание воспитания как манипулирования, коррекции поведения и
отношения к переживанию как к тому, что не заслуживает внимания взрослых. Отсюда
скрытый или явный конфликт со школой, если педагоги в той или иной мере
критически оценивают отдельные поступки ребенка или рекомендуют что-либо самой
семье.
; негативное отношение к «словесной
педагогике»; понимание воспитания как манипулирования, коррекции поведения и
отношения к переживанию как к тому, что не заслуживает внимания взрослых. Отсюда
скрытый или явный конфликт со школой, если педагоги в той или иной мере
критически оценивают отдельные поступки ребенка или рекомендуют что-либо самой
семье.
Представителей семей этого типа нельзя упрекнуть в пониженной ответственности за воспитание детей. Однако она базируется на стремлении родителей воспитывать детей по своему образу и подобию. Навязывание родителями своих ценностей и идеалов рано или поздно приводит к подавлению ребенка, нередко и к его сопротивлению, которое выражается либо активно (в форме конфликта), либо пассивно (в форме депрессивного состоянии).
Второй группа. Некомпетентность семей из этой труппы обусловлена «гиперсоциализирующим воспитанием» когда родители концентрируются на успехах детей, стремятся загрузить и перегрузить их всевозможными занятиями. При этом реальные возможности ребенка подчас переоцениваются или игнорируются. Недовольные родители начинают упорно бороться с «непослушанием», «неорганизованностью», «ленью» и другими недостатками детей. Вначале ребенок борется с отдельными стрессовыми событиями, затем сопротивление ослабевает, и из ребенка начинает «выплескиваться» то «дурное», с точки зрения родителей, которое до поры до времени сдерживалось - грубость, резкость, агрессивность.
Третья группа. Семьи, отнесенные к этой группе, ощупают свою неподготовленность к воспитанию детей. Для них характерно остро переживаемое чувство беспомощности, подавленности, раздражения, сознание невозможности найти «общий язык» с ребенком, повлиять на него. Осознание ответственности за сегодняшний и завтрашний день детей, тревога за их будущее, с одной стороны, и затруднения в установлении контактов по мере их взросления, с другой — становятся источником напряженности, крайнего недовольства собой, интенсивного поиска выхода из складывающейся ситуации.
Представители третьей группы родителей, ощущая свою неуверенность, активно ищут пути повышения компетентности. Особенно остро эта проблема ощущается в молодых семьях. Стремление родителей разрешить конфликты, найти общий язык с детьми диктует потребность в практических знаниях. Но родители далеко не всегда знают, чего они хотят. Поэтому, прежде всего, необходим профессиональный подход, позволяющий определить общие вопросы, прямо или косвенно касающиеся проблемы ответственности родителей за воспитание детей.
Деятельность по повышению воспитательной компетентности родителей направлена на решение следующих задач:
ü определение места, которое занимает ребенок жизни родителей, насколько он ощущает свою безопасность и защищенность;
ü достижение более глубокого взаимопонимания представителей разных поколений;
ü осознание родителями значимости своей родительской деятельности, появление родительской ответственности не только за своих, но и за других детей
ü формирование оптимистического взгляда родителей на жизнь, на возможность решения проблем обучения и воспитания детей;
ü проявление родительской солидарности и сплоченности. Рост компетентности родителей и изменения в характере взаимоотношений в семье являются мощным стимулом к саморазвитию, при этом семья может преодолеть опасности различных «рисков» и обогатить потенциал полноценного воспитания ребенка.
3.3. БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЫ
В семьях подобного типа дети — источник радости в жизни родителей. Они стимулируют здоровый образ жизни, предприимчивость, удовлетворенность жизнью. Такие семьи заинтересованы в высоком качестве знаний, получаемых детьми, и создают для этого необходимые условия с учетом материальных возможностей, которыми она обладает в данный момент.
Привычная ориентация администрации образовательного учреждения на работу с проблемной семьей оставляет в стороне семью благополучную на том основании что на успешно решает вопросы обучения и воспитания детей. Но благополучная семья — самый строгий заказчик и самый строгий «эксперт» в оценке деятельности школы. Семья подобного типа создает репутацию школы, формирует общественное мнение. В решение проблемы усиления ответственности родителей семья подобного типа может внести большой вклад.
Укрепляя и развивая контакты с «благополучной» семьей, школа расширяет свое влияние на «проблемные» семьи; предупреждает негативные тенденции в семье, связанные со снижением благополучия; создает условия для реализации прав ребенка, способствует его полноценному развитию; содействует формированию потребности родителей в повышении своей общей и воспитательной культуры.
Самое важное, что есть у ребенка, — это родители. Отдать ему большую часть самих себя, по-видимому, лучший способ решения его проблем. Не назойливая опека, а дружеское, горячее, живое участие, благодаря которому он почувствует, что родители — СВОИ люди. Только в этом случае у ребенка притупится чувство враждебности и он сможет найти способ излить неизбежную агрессивность социально приемлемым образом.
Еще недавно считалось, будто детская преступность — наследственная болезнь. Некоторые социологи предложили использовать так называемое игровое поле и, к всеобщему изумлению, доказали, что когда у ребенка появляется возможность проявить свою потребность в активной деятельности, то сразу же резко падает и коэффициент преступности. Хорошо организованная семья способна предложить ребенку бесконечное количество вариантов выражения его активности без нарушения общественного порядка.
![]() Только в том случае, если ребенок почувствует, что
родители любят его и он по-настоящему любит их, он захочет быть таким,
как они, и подражать им. Никакие призывы к ограничению желаний, разумеется, не
воздействуют на него. И если ребенок действительно захочет быть похожим на
родителей и заслужит их расположение, он станет понимать пользу контроля своих
поступков. Вот почему так важно, чтобы он был хорошего мнения о родителях.
Иначе он останется непослушным. Не чувствуя опоры, поддержки и уверенности в
себе, которые дает ему родительская любовь, он вынужден будет красть то, что
не может приобрести естественным путем. Вещи, которые ворует ребенок, сами
по себе не имеют для него никакого значения, но они как бы олицетворяют то
другое, что ему отчаянно хочется иметь.
Только в том случае, если ребенок почувствует, что
родители любят его и он по-настоящему любит их, он захочет быть таким,
как они, и подражать им. Никакие призывы к ограничению желаний, разумеется, не
воздействуют на него. И если ребенок действительно захочет быть похожим на
родителей и заслужит их расположение, он станет понимать пользу контроля своих
поступков. Вот почему так важно, чтобы он был хорошего мнения о родителях.
Иначе он останется непослушным. Не чувствуя опоры, поддержки и уверенности в
себе, которые дает ему родительская любовь, он вынужден будет красть то, что
не может приобрести естественным путем. Вещи, которые ворует ребенок, сами
по себе не имеют для него никакого значения, но они как бы олицетворяют то
другое, что ему отчаянно хочется иметь.
Дети в семьях, где не принято выражать свои чувства и где ценятся сдержанность и сила, испытывают дефицит любви, тепла и понимания. Типичная проблема в семьях бизнесменов — детское домашнее воровство. Среди психотерапевтов существует метафора, что дети таким образом «воруют любовь». Это форма протеста против холодного, рационального мира взрослых. «Мои сыновья должны быть такими же сильными, как я, иначе они мне не нужны», — говорит настоящий мужчина, обратившийся в семейную консультацию по поводу воровства своего ребенка. При изучении неблагополучных семей, обладающих теми или иными криминогенными характеристиками и способствующих формированию у детей аморальных, а подчас и противоправных ориентации, было установлено что около 75% родителей из них сами воспитывались в нравственно и социально неблагоприятных семейно-бытовых условиях, аналогичных тем, в которых затем оказались их дети.
Отношение к семье в ходе взросления ребенка меняется. В процессе социализации группа ровесников в значительной степени замещает родителей, или, как говорят некоторые специалисты, происходит «обесценивание» родителей. Перенос центра социализации из семьи в группу ровесников приводит к ослаблению эмоциональных связей с родителями.
Имеются данные, что, хотя родители, как центр ориентации и идентификации, действительно отступают в этом возрасте на второй план, это все-таки относится лишь к определенным областям жизни. Для большинства молодых людей родители, и особенно мать, остаются главными эмоционально близкими лицами. Так, в психологическом исследовании было показано, что в проблемных ситуациях наиболее эмоционально близким, доверенным лицом для подростка служит, прежде всего, мать, а затем в зависимости от ситуации, в разной последовательности отец, подруга или друг. Старшеклассники ранжировали, с кем они предпочли бы проводить свое свободное время — с родителями, с друзьями, в компании сверстников своего пола, в смешанной компании и т. д. Родители оказались у юношей на последнем (шестом) месте, у девушек — на четвертом. Однако отвечая на вопрос: «с кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуации?» и те и другие поставили на первое место мать. На втором месте у мальчиков оказался отец, у девочек — друг, подруга. Иначе говоря, с друзьями приятно развлекаться, но в трудную минуту лучше обратиться к маме. Это общая, нормальная тенденция поведения в подростковом и юношеском возрасте. Однако проблема состоит в том, что многие так называемые «уличные дети» и «подростки группы риска» не имеют таких нормальных семейных отношений и таких нормальных родителей, к которым они могли бы обратиться в сложных, проблемных жизненных ситуациях. Последние данные, полученные в ходе социально-психологических исследований современной молодежи, подтверждают идею о важнейшей роли родителей и уровня семейного доверия в нормальном развитии личности — как в подростковом, так и в юношеском возрасте.
Как правило, семьи с высоким уровнем доверия отличаются следующими особенностями:
ü в них не бывает домашних краж или они случаются крайне редко;
ü дети сами рассказывают, на что они потратили или собираются тратить деньги;
ü дети открыто высказывают свои потребности в деньгах;
ü дети получают честные, исчерпывающие ответы на свои вопросы, связанные с деньгами, эта информация не является закрытой;
ü дети рано узнают, как добываются деньги и чего они стоят;
ü дети не склонны скрывать свои дополнительные источники дохода.
В
исследовании «Преступность несовершеннолетних: тенденции и перспективы» М.
Раттер и Д. Гидлер (1998) указывают на четкую связь между особенностями раннего
детского развития в семье и последующей степенью послушания индивида, но
утверждают, что механизмы такого влияния семьи по-прежнему неясны. Авторы исследования
отмечают корреляцию между социальными переменами и ростом преступности, вновь
подчеркивая недостаточность знаний относительно механизмов этой связи. На
примере несовершеннолетних исследователи приходят к заключению, что для
преступного поведения существуют множественные причины, включая влияние
семьи, групп сверстников, социального контроля и социального научения,
биологических и ситуационных факторов. Поэтому абсурдно искать единственное
объяснение или единую стратегию профилактики девиантного поведения детей и подростков
и, в частности, его наиболее распространенной формы — воровства.
Таким образом, ранняя профилактика девиантного поведения детей должна, по существу, начинаться с первых же дней рождения ребенка. Она заключается в правильной организации систематического, целенаправленного воспитательного воздействия, которое осуществляется в основном в семье.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните психолого-педагогические причины вызывающие семейное неблагополучие в отношении ребенка.
2. Опишите модели девиантного поведения детей в семье и приведите конкретные примеры.
3. Объясните, в чем особенности формирования девиантного поведения ребенка из неполной семьи.
4. Дайте определение «проблемной семье» и опишите виды отклоняющегося поведения у детей в таких семьях.
5. Объясните особенности «некомпетентной семьи» и дайте классификацию нарушений в воспитании детей в подобных семьях.
6. Объясните, почему в «благополучных семьях» могут быть неблагополучные в поведении дети?
Глава 4
ВОРОВСТВО КАКТИПИЧНАЯ ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
4.1. ПОНЯТИЕ ВОРОВСТВА
Воровство — присвоение или потребление не принадлежащих личности материальных и духовных ценностей без предварительного разрешения или уведомления обладателя этих ценностей. Отягощающим обстоятельством воровства является непринятие мер личностью по предотвращению или уменьшению реального или возможного ущерба, который могут понести пострадавшие от воровства.
Воровство возможно и в мире животных, которое проявляется как одно из средств за выживание. Но у животных оно имеет случайный, эпизодический характер, например воровство пищи. Там нет видов или индивидов, специализирующихся на воровстве, причина которого ясна животный мир не так уж богат материальными Ценностями, нет постоянных и возобновляемых запасов Ценностей, а духовные ценности там вообще не имеют места.
У людей этот порок получил наивысший расцвет. Воруют должностные люди и без должностей, мужчины и женщины, взрослые и молодые, умные и не очень. Воруют даже такие абстрактные вещи, как время, идеи, доверие, даже счастье. Люди могут воровать редко, эпизодически, часто и постоянно. Есть специализированные индивиды и группы людей (постоянные или временные) занимающиеся исключительно воровством. Этот порок так глубоко укоренился в общественном сознании как неистребимый, неизбежный, что отдельные проявления воровства как бы легализовались, считаются даже не воровством, люди стали относиться к таким воровским действиям снисходительно и с «пониманием».
Некоторые виды воровской деятельности получили собственные обозначения. Например, браконьерство — воровство природных, естественных ресурсов; плагиат — использование чужого литературного творчества под свои именем; присвоение — объявление своей собственностью, принадлежащие другим материальные, финансовые, научные ценности и поступки; расхитительство, казнокрадство — вид воровства, когда используется служебное или должностное положение личности; пиратство — покушение на интеллектуальную собственность других людей (попирание авторских прав на аудио-, видеопродукцию, компьютерные программы и др.); мошенничество — разновидность легального воровства с использованием обмана корыстных целях; контрабанда — уклонение от уплаты налога за провоз товаров, продукции из другой страны; «несун» — тот, который периодически или при всякой возможности ворует небольшие материальные ценности с места работы. Последний вид воровства был характерен в основном для «советского народа» и до сих пор не искоренен.
В основе всякого воровства лежит сильно развитый эгоизм и крайне слабо развитая нравственность. Исключение составляют особые случаи, которые аналогичны воровству среди животных, когда к нему принуждает крайняя материальная нужда.
Люди, доведенные до отчаяния, стоят перед дилеммой: или они должны украсть, чтобы не умереть от голода или действительно умереть (моральный принцип «не укради», способы заработать на пропитание с помощью работы — по разным причинам им не приходят в голову из-за состояния крайнего отчаяния). Встречаются и профессиональные воры, люди, выбравшие такой путь социального паразитизма и способа обогащения (жить за счет других).
Мотивация воровства у людей очень проста. Это получение нужных для личности ценностей кратчайшим и быстрым путем, которое иным способом или затруднительно, или вообще невозможно, при этом «временно» не принимаются во внимание правовые и морально-этические нормы. Определение «временно» выбрано не случайно, так как всякий вор знает, что воровство незаконно, неэтично, поэтому возмущается, когда кто-то другой таким же способом у него самого что-то ворует. Чаще всего воруют в личных или семейных интересах. Воровство для нужд общества или группы людей встречается редко. Именно соблазн полезности, «окупаемости» воровских действий вдохновляет индивида на такие поступки, надежной преградой которому может быть только внутреннее отвержение такого поступка, полное отрицание воровства как одного из средств решения личных проблем сформированных посредством воспитания.
Сколько вокруг нас воров? Точного ответа на данный вопрос не знает никто — ни статистика, ни милиция, даже «воры в законе». Для этого есть много объективных и субъективных причин. Во-первых, многие случаи воровства не только не регистрируются обществом, они проходят как бы «бесследно». Во-вторых, воруют не только «свои люди» — из этой сферы деятельности. Дело в том что среди обычных граждан всякого общества всегда есть некоторое количество потенциальных воров. Они никогда в жизни могут и не совершать воровство, но по причине упущений в воспитании на предыдущих этапах становления личности успели накопить багаж психологической и моральной предрасположенности к воровству. И в располагающих условиях, обстоятельствах («никто не знает, никто не видит») неожиданно не только для окружающих, но даже и для себя, могут совершить воровство. И наконец, во избежание отрицательного общественного или политического резонанса, отдельные случаи воровства частного или общественного достояния не афишируются или даже скрываются от общественности.
Общество морально осуждает и рассматривает воровство как преступление и требует справедливого наказания, так как в любом случае существует альтернатива — не воровать. Какие бы причины ни существовали в тех случаях, когда человек переступает черту моральных запретов воровства, цель одна — украсть и воспользоваться этой ценностью или вещью для своей выгоды.
Тем не менее наблюдения состояния общества, статистика известных случаев воровства, отношение людей к воровству позволяют достаточно уверенно утверждать что воры всяких мастей и «сортов» составляют небольшую часть общества, то есть их немного, во всяком случае, серьезных воров.
Сколько вреда от воровства — тоже точно неизвестно, хотя он может быть огромным и в экономическом отношении и для нравственного климата в обществе. Одно известно точно — общечеловеческие ценности, порядочность – яд для воровской среды. В воровской среде (будь о «воры в законе» или облаченные властью и полномочиями «люди в галстуках») наблюдаются низкий уровень нравственности, подлость, продажность, обман, трусость.
Сейчас нередко можно услышать, что в России народ вообще вороватый, что это якобы в его крови испокон веков. В доказательство цитируют Н. М. Карамзина — будто на вопрос, при помощи какого одного слова он охарактеризовал бы Россию, великий историк ответил: «Воруют». Ну и конечно, приводят множество примеров крупного и мелкого расхищения государственного имущества.
Однако самым большим предметом, украденным когда-либо человеком (в одиночку, без помощников) был пароход «Ориент Трейдер» грузоподъемностью 10639 тонн. Летней ночью 1966 г. некий мистер Н. Уильям Кеннеди, пробравшись в бухту залива Святого Лаврентия, что в Канаде, перерубил причальные тросы, и судно благополучно отдрейфовало к буксиру, стоявшему наготове. Этот Факт занял свое место в Книге рекордов Гиннесса. Масштабность акции воистину достойна восхищения, смотря на то, что в основе ее лежит уголовно наказуемое действие — воровство («Аргументы и факты»,)
В общественном сознании советского периода существовало резкое разграничение государственной общенародной собственности и собственности личной, принадлежащей другому человеку. Но вот по поводу того, что воровство в крови русского народа, хотим уверенно возразить. Когда какая-то черта, что называется, исконная она проявляется уже в детстве. Причем в детстве даже более отчетливо, чем в зрелом возрасте, ибо еще не «замаскирована», не скорректирована, не уравновешена воспитанием. Если бы народ у нас был вороватый, то и дети, как минимум через одного, норовили бы что-нибудь стащить. Но ничего подобного, к счастью, не наблюдается.
Тем не менее известны случаи, когда человек имеет все необходимое и все же сознательно совершает кражи, а потом его одолевают и раскаяние и чувство вины и муки совести, но все же он продолжает совершать немотивированные кражи.
По данным МВД, около 20% краж из магазинов совершается именно немотивированно (мотивы не осознаются, они — в подсознании); 70% краж совершают профессиональные воры и только около 5% краж совершают люди, находящиеся в ситуации отчаяния, 5% краж совершают клептоманы.
Во всех этих случаях люди понимают и осознают, что происходит, и могут последовательно описать, какие действия они совершали.
Совершенно особые случаи совершения краж — в состоянии невменяемости, когда какое-либо психическое состояние мешает человеку отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Такие случаи очень редки, и рассматривать их — прерогатива врачей-психиатров в рамках судебно-психиатрических экспертиз.
Естественно, если есть воры, то есть и страдающие от них. Общество еще с незапамятных времен придумало различные способы борьбы с воровством, которые либо помогают, либо нет. Это и юридические (наказание за воровство), и моральные (презрение, отвержение воров обществом), и организационные (контрольно-ревизионные службы, сторожевая служба, включая животных), и технические (различные замки, сигнализации, сейфы и т. Д.). Все эти средства, конечно, помогают предотвратить многие случаи воровства, но не всегда они могут быть препятствием для находчивого вора.
4.2. ДЕТСКОЕ ВОРОВСТВО
Хочет ли кто-нибудь из вас, дорогие родители, чтобы ваш ребенок вырос вором? «Да не дай бог!» — скажете вы. И расскажете ребенку о том, что воровство — это плохо, за это сажают в тюрьму. Но через час, в раздражении от рекламы дорогих туров и автомобилей, обрушившейся на вас в разгар интересного фильма, невольно воскликните, что честный человек и за всю жизнь столько не заработает... А потом зайдет к вам «на огонек» ваш знакомый и расскажет, как его сосед хорошо устроился: «гонит» за границу медную проволоку и уже построил дом на Кипре. Станете смотреть новости, и кто-нибудь обязательно скажет, что в нашей стране порядок может навести только мафия. И дети все это слышат и «наматывают на ус». Как же в такой ситуации воспитывать честность?
Согласно общероссийской статистике воровство и кражи наиболее «популярны» среди несовершеннолетних Взрослым принимать этот факт крайне тяжело, говорит, вслух — стыдно, бороться — сложно.
Изменить тут что-либо вряд ли возможно. Многократно усиливается это аморальное желание, если мы на сто процентов убеждены, что за проступок никто не накажет С точки зрения психологов, кстати, это вполне нормально. И все-таки один человек действительно решается на воровство, другому же достаточно «помечтать» об этом или найти способ получить вещь законным путем. А все потому, что у него с детства выработан жесткий иммунитет — не брать чужого.
Каждая семья, так или иначе, сталкивается с детским воровством, но вот как от этой проблемы «избавиться», как сформировать у родного чада тот самый иммунитет?
И действительно, трудно понять взрослому человеку, почему его ребенок, которому заповедь «не укради» вкладывалась в уши с самого нежного возраста, вчера принес из детского сада чужого резинового зайчика. Сегодня он тянет мелочь из папиного бумажника, а завтра, возможно, опустошит семейную кассу. Бросаться в такой ситуации на дитя с ремнем и потоком ругательств — не выход. Лучше всего постараться поговорить с ним «по душам». Зная, что именно крадет ребенок и как потом распоряжается своими трофеями, можно ответить на вопрос, зачем он это делает.
Воровство можно рассматривать в трех аспектах:
— социальном;
— медико-биологическом;
— психологическом.
Социальный аспект. Воровство — это правонарушение. Но уголовная ответственность за него наступает с совершеннолетием. Самое эффективное, что может последовать - постановка на учет в детскую комнату милиции с последующими беседами со стороны работников милиции или социальных педагогов. Это вполне оправданно, если ребенок с помощью воровства пытается социализироваться в асоциальной семье или подростковой группе. Такому ребенку действительно необходимо расширение социальных контактов, создание увлечений, приобретение профессии. В некоторых случаях, если ребенок ворует у членов семьи, то родители всеми силами стараются избежать огласки. И этому находится логичное объяснение, поскольку имеется много случаев, когда воровство служило причиной отчисления из специализированных классов или престижных государственных школ. Поэтому обязательным условием работы в таких случаях является строжайшее соблюдение конфиденциальности.
Медико-биологический аспект. Данный аспект касается такого заболевания, как клептомания. Диагностические критерии:
ü Периодически возникающие у субъекта непреодолимые импульсы украсть предметы, которые ему не нужны для личного пользования и которые не имеют материальной ценности.
ü Повышенное чувство напряжения непосредственно перед совершением кражи.
ü Удовольствие или облегчение во время совершения кражи, хотя потом может возникнуть чувство вины или тревоги.
ü Кража не совершается как акт гнева или мести.
ü Кража не связана с нарушением поведения или расстройством личности антисоциального типа.
Клептомания встречается у детей крайне редко. Чаще клептомания встречается у ребенка с органическим поражением головного мозга. Проявляется это, как правило, церебрастеническим синдромом (снижение памяти внимания, повышенная утомляемость, головные боли) инфантилизмом, импульсивностью и расторможенностью в поведении и импульсивными расстройствами других влечений. Характерно, что в отечественной литературе клептомания рассматривается в рамках импульсивных расстройств, которые, в свою очередь, не носят самостоятельного характера, а лечатся в рамках более общей нозологической единицы: шизофрении, олигофрении, психопатии. Воровство закрепляется по типу условного рефлекса. Причем мотив переносится на цель, и само по себе воровство приносит удовлетворение. Чаще воровство может быть симптомом невротической или патохарактерологической реакции.
Психологический аспект. Психоаналитики обращают особое внимание на воровство детей и подростков, особенно на его символический аспект. Так, А. Фрейд считала, что первое воровство из кошелька матери указывает на степень, до которой оно укоренилось на начальной стадии единения матери и ребенка.
Выделяют 6 категорий, объединяющих воровство:
— способ восстановления утраченных взаимоотношений «мать—ребенок»;
— акт агрессии;
— защита от страха;
— способ получить наказание;
— способ восстановления или повышения самооценки;
— реакция на семейную тайну.
В отношениях со значимыми другими дети в сложных ситуациях демонстрируют беспомощность и зависимость, склонны к разным формам реагирования, одной из которых вполне может быть воровство. На первый взгляд, мотивы отсутствуют, на самом деле мотивы совершения краж в таких случаях не осознаются и спрятаны глубоко в подсознании.
Приведем в пример одну историю, случившуюся в первом классе, в котором учились дети-семилетки.
В классе два друга — Вова и Саша. Недавно Вова потихоньку взял у Саши часы. Бовина мама стала гладить рубашку и с удивлением обнаружила в кармашке дорогие ручные часы. Она тут же показала часы мужу, и они вместе стали выяснять у сына, откуда они у него. Мальчик сначала сказал, что часы дал ему Саша. Тогда Бовины родители позвонили родителям Саши, и те очень обрадовались, узнав, что часы нашлись. Отец Вовы сказал ему, что в его же интересах открыть всю правду. Тогда Вова признался, что часы он увидел на парте и взял их, а потом забыл про это; родителям же солгал, потому что испугался.
Учительницу волновало, имеется ли тут факт воровства и как ей надо поступить в этой ситуации. Мать Вовы беспокоило то же самое. Они с мужем никак не могли представить себе, что их сын может украсть.
Из разговора с матерью стало ясно, что фактически с раннего возраста мальчик не знал слово «нельзя». А потом вдруг разом многое стало нельзя и все эти ситуации как-то были связаны с детским садом и школой. Отец, возмущаясь тем или иным проступком сына, как правило, прибегал к помощи ремня, и мальчик начал обманывать, чтобы избежать наказания.
Кроме того, у Вовы было довольно странное отношение к вещам: он мог отдать любому свою любимую игрушку, но так же спокойно мог взять чужую вещь и принести ее домой. Из рассказов матери у учительницы создалось впечатление, что Вова не различает понятия «мое» и «чужое». Источник этого следовало искать в особенностях воспитания ребенка и жизненного уклада семьи.
Возникшая
гипотеза еще больше укрепилась после того, как учительница вспомнила историю
со значками. У Вовы была большая коллекция значков, которую он давно собирал и
которой очень гордился. Учительница предложила ему принести
коллекцию в класс и показать всем детям. Каково же было ее удивление, когда
после урока Вова стал тут же раздаривать ребятам те экземпляры, которые им
понравились. Скоро от коллекции ничего не осталось, а Вова побежал в коридор
играть как ни в чем не бывало. Когда учительница рассказала эту историю
Вовиной маме, та была поражена, так как коллекция была предметом гордости.
Взвесив все обстоятельства, учительница пришла к выводу, что воровства в психологическом смысле не было. Скорее всего, имела место несформированностъ волевого поведения, когда ребенок не думал ни о чем, кроме часов. Нельзя также забывать, что у мальчика практически отсутствовало понятие «собственность». Не испытывая особых сожалений при расставании с принадлежащими ему вещами, он, вероятно, не понимал, что другие люди могут испытывать в подобной ситуации неприятные эмоции.
Но если это не было воровством, то почему мальчик скрывал свой поступок? Почему он не сказал другу, что взял его часы, почему солгал родителям? Здесь возможны две версии. Первая — изложенная выше, — что Вова не считал предосудительным взять что-то не принадлежавшее ему, поскольку для него не существовало четких различий между понятиями «мое» и «чужое». Саше он ничего не сказал, так как, вероятно, понимал, что тот может не захотеть дать ему часы; родителям же солгал от страха, поняв по их «допросу», что сделал что-то плохое и за этим последует наказание.
Вторая версия заключается в том, что, взяв часы, поддавшись так называемому ситуативному поведению, мальчик затем осознал все, что произошло, и хотел как можно незаметнее исправить ситуацию, отдав часы назавтра в школе, но мать случайно нашла их раньше.
Через год, когда Вова учился уже во втором классе, не только ничего подобного не повторилось, но он сильно изменился в лучшую сторону во всех отношениях, и учительница вместе с матерью мальчика были очень рады, что тогда не раздули ту историю.
Другая похожая история.
Учительница, работавшая во втором классе, пришла посоветоваться к школьному психологу по поводу семилетнего ученика-непоседы. Этот ребенок, начиная с первых дней в школе, отличался тем, что на уроках вертелся, что-то ронял и поднимал, доставал из портфеля и убирал обратно, в общем, все время был чем-то занят, но большей частью не тем, чем весь класс. Угомонить его было сложно, а сосредоточиться на какой-то работе было для него серьезной проблемой. В тот день учительницу привела к психологу тревога по поводу происшедшего только что в классе неприятного инцидента, участником которого был этот мальчик — Алеша. Произошло следующее.
На школьный завтрак ученикам дали творожные сырки, которые они решили взять домой. Два мальчика, сидевшие на первых партах, положили свои сырки на парты и вышли из класса. Алеша хотел спрятать свой сырок, но тут к нему подошел Павел, учившийся в том же классе и как-то давший Алеше что-то из своего завтрака с условием, что Алеша затем отдаст ему то, что тому понравится. И вот час расплаты настал: и Павел забрал у Алеши сырок. Алеша, проходя, мимо парт с сырками, взял их и спрятал в свой портфель. Но он не знал, что это видел кто-то из учеников.
Когда кончилась перемена и все дети вернулись в класс, обнаружилась пропажа сырков. Учительница обратилась к ребятам с вопросом. Все молчали, но тут один из ребят сказал, что видел, как Алеша положил сырки к себе в портфель. Учительница попросила Алешу открыть портфель, увидела там два сырка и спросила, где же третий (то есть сырок самого Алеши). Тогда мальчик поведал ей всю историю про Павла, отнявшего у него сырок.
Формально, как и в первом описанном случае, Алеша украл, так как взял чужое, не принадлежащее ему. Но рассмотрим ситуацию с психологической точки зрения. Что произошло?
К индивидуальным особенностям Алеши можно отнести слабое развитие волевого поведения, процессов торможения и сильно выраженное ситуативное поведение. Ребенок с большим трудом сознательно управляет своими действиями, он каждый раз оказывается во власти того или иного предмета, попавшегося ему на глаза.
В описанной ситуации, когда у него только что отняли завтрак, притягательная сила этого сырка еще более усилилась. В этом случае мы, скорее всего, имеем дело с ситуативным поведением. Конечно, причина описанных поступков — не только в слабом развитии волевого поведения, но и в неразвитости нравственного сознания детей, что и позволило им поступать таким образом. Если подходить с чисто психологической точки зрения к оценке целого ряда преступлений окажется, что это ситуативное поведение. Тем не менее преступление от этого не перестает быть преступлением
В описанных случаях мы стараемся не употреблять слово «воровство», поскольку имеем дело с детьми 7-й лет. Безусловно, уже и в этом, и в более раннем возрасте многие дети никогда не возьмут чужого, так как эта нравственная норма буквально впитана ими с молоком матери. Но ведь многие дети воспитываются в семьях, где вопросам нравственности не уделяется никакого внимания, а нередко дети видят, как взрослые приносят что-то с работы домой, не считая это предосудительным.
![]() Вырастая в такой обстановке,
да еще имея склонность к импульсивному поведению, когда он действует, не рассуждая
и не задумываясь о последствиях своих поступков, ребенок очень легко может
совершить действие, которое можно квалифицировать как воровство.
Вырастая в такой обстановке,
да еще имея склонность к импульсивному поведению, когда он действует, не рассуждая
и не задумываясь о последствиях своих поступков, ребенок очень легко может
совершить действие, которое можно квалифицировать как воровство.
К чему это приведет? Если в классе узнают, что такой-то мальчик или такая-то девочка что-то украли и учитель громогласно даст этому поступку соответствующую моральную оценку, то за ребенком закрепится репутация вора. Естественно, что родители других учеников не захотят, чтобы их дети дружили с вором.
И очень скоро школьник, совершивший такой поступок останется в изоляции. Куда ему деваться, ведь ему нужно общение? И это общение он найдет среди тех детей (чаще всего старше его), по мнению которых его поступок не только не является проступком, а, наоборот, позволяет занять определенное положение в кругу новых друзей. Чтобы эти новые друзья не отвернулись от него, ему теперь придется жить по их законам. Таким образом, он может стать на путь сознательного воровства.
Если же проступок ребенка, подобный описанным выше, не квалифицировать сразу как воровство, а постараться помочь ученику преодолеть его нежелательные особенности, развивая его личностно и духовно, то гораздо больше шансов, что развитие школьника не пойдет асоциальным путем, хотя к этому и были предпосылки.
В случаях, подобных описанным выше, взрослые обязательно должны поговорить с ребенком, но только наедине и не в форме отчитывания и нотации, а в форме доверительной беседы. Надо попробовать донести до ученика нравственный смысл его поступка и открыть ему переживания других людей (потерпевшего, родителей, учительницы), вызванные содеянным. Ребенок должен чувствовать, что взрослый очень огорчен, так как считает его хорошим человеком (Н. И. Гуткина, 1991).
Тем не менее следует дать ясно понять ребенку, что ему этого делать не позволят. Ребенок должен вернуть украденное другому ребенку или в магазин, где он взял. Если он украл в магазине, тактичнее будет пойти с ним туда и объяснить, что ребенок взял вещь, не заплатив, и хочет вернуть ее. Учитель может вернуть украденное владельцу, чтобы спасти ребенка от публичного стыда (Б. Спок, 1990).
Проблема детского воровства практически не изучена психологами и педагогами. Особенно мало информации о такого рода сложностях в поведении детей из благополучных семей, а не малолетних правонарушителей поставленных на учет в милиции.
Многие родители испытывают растерянность и даже страх, столкнувшись с детским воровством. Оно относится к так называемым «стыдным» проблемам. Взрослым чаще всего неловко говорить на эту тему, им нелегко признаться психологу, что их ребенок совершил «ужасный» проступок — украл деньги или какую-то вещь. Такое поведение воспринимается родными как свидетельство его «неизлечимой» аморальности. «У нас в семье никто никогда ничего подобного не совершал!» — часто слышишь от потрясенных родных. Мало того, что такой малыш позорит семью, родственникам его будущее представляется исключительно криминальным. Хотя в большинстве случаев все не так страшно (М. Кравцова, 2001, 2002).
Практически каждый из нас хоть раз в жизни испытал сильное желание присвоить нечто, ему не принадлежащее. Сколько же человек не смогли устоять перед искушением и совершили кражу — мы никогда не узнаем. О таких проступках редко рассказывают даже самым близким людям.
Известная американская актриса Николь Кидман в одном из интервью призналась, что, будучи пятилетней девочкой, украла в магазине куклу Барби. Об этой кукле они с сестрой страстно мечтали, и хотя их родители были так богаты, что могли бы купить им весь магазин с этими куклами, но мама Николь — ярая феминистка — была категорически против этих игрушек, считая их появление на рынке оскорбительным для женщин, и Николь ничего не оставалось, как украсть столь желанную куклу. Так об этом рассказывают журналисты. К сожалению, мы не знаем ни о чувствах, которые испытывала при этом будущая актриса, ни о том, как отреагировали на ее поступок родители, но нам наверняка известно, что, несмотря на этот случай, она не стала воровкой.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните, что такое воровство и каковы его мотивы.
2. Дайте характеристику медико-биологического, социального и психологического диагностических аспектов воровства.
3. Приведите примеры детского воровства, в основе которого лежат различные психологические причины.
Глава 5
ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА
Освоение социальных норм, нравственное развитие ребенка происходит под влиянием окружающих — сначала родителей, а потом и сверстников. Все зависит от шкалы предлагаемых ценностей. Если родители своевременно не объяснили своим детям разницу между понятиями «свое» и «чужое», если ребенок растет слабовольным, безответственным, не умеет сопереживать и ставить себя на место другого, то он будет демонстрировать асоциальное поведение.
Ребенок, не получивший в семье навыка доверительного, интересующегося, принимающего общения, вряд ли попадет в благополучную компанию.
Когда родители замечают, что их любимый ребенок, который вроде бы ни в чем не нуждается, потихоньку таскает у мамы из сумочки деньги, они обычно впадают в панику. Между тем, по свидетельству специалистов, детское воровство — очень распространенная семейная проблема.
В сознании большинства взрослых намертво спаяны два мифа: ребенок — невинный ангел, а воровство — примета криминального мира, для нормальных людей далекого и чуждого. Когда ребенок попадается на краже родители обычно чувствуют себя совершенно растерянными. Одни при этом впадают в истерику, собираясь то ли застрелиться самим, то ли спустить всех собак на свое незадачливое чадо, другие предпочитают сделать вид, что ничего не произошло, потому что как реагировать — не знают. Специалисты считают, что единственно правильной реакцией на воровство не существует: она зависит от причин, по которым ребенок ворует.
Анализируя поступки детей, можно выделить три наиболее часто встречающиеся причины воровства (М. Кравцова, 2001):
1. Сильное желание владеть понравившейся вещью, вопреки голосу совести (импульсивность).
2. Серьезная психологическая неудовлетворенность ребенка.
3. Недостаток развития нравственных представлений и воли.
Так же можно выделить четыре основные причины детской лжи. Чаще всего ребенок прибегает к помощи лжи, чтобы достичь следующих целей:
1. Избежать неприятных для себя последствий.
2. Добыть то, чего иным способом получить не может или не умеет (обычно это внимание и интерес окружающих).
3. Получить власть над окружающими (иногда отомстить им).
4. Защитить что-то или кого-то значимого для себя (в том числе и право на свою личную жизнь).
Как видим, причины совершения детьми данных проступков лежат в сфере эмоционального неблагополучия во многом сходны. Поэтому большое внимание следует уделить работе с родителями ребенка, так как часто именно в семье находится «корень проблем».
5.1. ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
Первая причина воровства — сильное желание владеть понравившейся вещью — связана с детской импульсивностью (А. Фенько, 2002). Ребенок может украсть потому, что это сделать очень легко, а удержаться от соблазна, наоборот, трудно.
Обычно события разворачиваются следующим образом. Ребенку очень нравится какая-то вещь, и он не может побороть соблазн.
М. М. Кравцова (2001) приводит такой пример. В начале учебного года во втором классе случилось ЧП. У Васи пропала с парты купленная в школьном буфете шоколадка. Вася очень расстроился, поэтому учительница сочла необходимым провести расследование, в ходе которого выяснилось: шоколадку съел Паша. В свое оправдание: Паша сказал, что нашел шоколадку на полу и решил, что она ничья. При этом Паша нарушил правило: все найденное в классе надо отдавать учителю, если самостоятельно не можешь найти хозяина.
На самом деле мальчик все прекрасно знал. Он также знал, что Васю бесполезно просить поделиться. Родители давали Паше деньги только на обеды и не поощряли самостоятельные покупки шоколадок, конфет и жвачек, а Паше так хотелось попробовать такую шоколадку. Он утешал себя мыслью, что Вася купит себе новую и вообще он и так ест их каждый день. Он ворует шоколадку и при этом испытывает целую гамму чувств. Радость обладания желанной вещью — только одно из них. Одновременно он испытывает страх быть застигнутым на месте преступления, стыд, боязнь разоблачения.
Анализируя поступок ребенка в данном примере М. М. Кравцова предполагает возможные последствия содеянного. Скажем, Паша после кражи обнаруживает что он не может свободно пользоваться присвоенной вещью, если не объяснит факт ее появления. Если его родители бдительны, это может быть совсем непросто и очень неприятно. Еще через некоторое время ребенок может стать свидетелем горя бывшего хозяина украденной вещи. Горя, которое причинил лично он, в этом у Паши нет сомнений. Он слышит, как единодушно осуждают вора окружающие люди, и его еще сильнее охватывают стыд и страх разоблачения. Этого может быть достаточно, чтобы ребенок больше никогда не захотел присвоить чужую вещь, — даже если он уверен, что его не поймают. Если же воришку уличат и он пройдет все стадии разоблачения и прилюдных извинений, это, как правило, станет уроком на всю жизнь. Важно только правильно выбрать меру наказания. С одной стороны, не подорвать у ребенка веру в то, что он все-таки любим, что он может быть прощен и сможет вновь добиться уважения окружающих и доверия друзей. С другой стороны, ребенок должен почувствовать, насколько его проступок серьезен.
Такие кражи чаще всего не имеют последствий, они обычно не повторяются. Их отличают некоторые особенности.
![]() Ребенок прекрасно понимает, что совершает нехороший
поступок, но сила искушения так велика, что он не может устоять У такого ребенка
уже достаточно сформированы нравственные представления, поскольку он понимает,
что брать чужое нельзя. Он осознает, что, идя на поводу своих желаний, наносит
вред другому человеку, но находит различные оправдания своему поступку. Такое
поведение напоминает поведение человека, забравшегося в чужой сад, чтобы
съесть немного фруктов: «Съем несколько яблочек, от хозяина не убудет, а мне уж
очень хочется». При этом человек не считает, что совершает нечто
предосудительное. Ему, конечно, было бы очень неловко, если бы его застали «на
месте преступления». И скорее всего, ему неприятна мысль, что кто-то вот так
же может покуситься на его собственность.
Ребенок прекрасно понимает, что совершает нехороший
поступок, но сила искушения так велика, что он не может устоять У такого ребенка
уже достаточно сформированы нравственные представления, поскольку он понимает,
что брать чужое нельзя. Он осознает, что, идя на поводу своих желаний, наносит
вред другому человеку, но находит различные оправдания своему поступку. Такое
поведение напоминает поведение человека, забравшегося в чужой сад, чтобы
съесть немного фруктов: «Съем несколько яблочек, от хозяина не убудет, а мне уж
очень хочется». При этом человек не считает, что совершает нечто
предосудительное. Ему, конечно, было бы очень неловко, если бы его застали «на
месте преступления». И скорее всего, ему неприятна мысль, что кто-то вот так
же может покуситься на его собственность.
|
,еМУ |
Итак, самая распространенная причина детского воровства — это детская импульсивность. Всем маленьким детям тяжело контролировать свои желания. Если пятилетнему ребенку хочется взять пирожное, лежащее на столе, то единственное, что может его остановить, это страх наказания. Если же он уверен, что никто этого не заметит, бесполезно требовать от него проявления «сознательности». Даже если он знает, что нельзя брать чужое, он может непроизвольно это сделать, если вещь ему очень понравилась.
Произвольное поведение, подчиненное внутренним социальным нормам, обычно формируется к 6-7 годам. Но « некоторых детей с этим возникают трудности. Обычно эти дети более подвижны, возбудимы, им трудно не только сдерживать свои желания, но и просто спокойно сидеть на уроке и внимательно слушать учителя. Причиной импульсивности могут быть и серьезные психические отклонения (например, умственная отсталость), и особенности темперамента (повышенная активность), и временные невротические реакции на какие-либо психические травмы (развод родителей, переезд, поступление в школу). Импульсивное воровство («не мог удержаться», «очень захотелось») иногда путают с клептоманией.
Импульсивных детей необходимо строго контролировать и приучать к ответственности. Ребенок, даже импульсивный, никогда не совершит поступка, за которым немедленно последует наказание. Поэтому нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не стоит и раздувать случившееся до масштабов вселенской катастрофы. Если ребенок взял что-то у сверстников или в чужой семье, то сама по себе процедура выяснения обстоятельств кражи (с участием потерпевших и их родителей), извинения и возвращения похищенного достаточно болезненна. Неприятное воспоминание, которое останется у ребенка от такого разбирательства, поможет ему в следующий раз удержаться от соблазна.
5.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Вторая причина воровства — психологическая неудовлетворенность ребенка — включает множество разнообразных мотивов. Прежде всего, это связано с нарушением материнской или отцовской привязанности и, в связи с этим, затруднениями в общении с родителями. Детям кажется, что их не любят родители и мало обращают на них внимания. Когда они присваивают себе их вещи или берут деньги, то это символический акт воссоединения с родителями, которые начали отдаляться.
Дети воруют для того, чтобы привлечь внимание родителей или воспитателей, причем делают это именно в тех случаях, когда взрослые очень болезненно воспринимают воровство ребенка. Деньги или купленные на них сладости он может воспринимать как символическое замещение родительской любви или радости в его жизни. В этом случае детские кражи говорят о том, что ребенок не получает достаточно внимания или что отношения в семье напряженные и супруги объединяются вместе только перед лицом «общей опасности» — воровства.
Воровство может быть оценено как месть и наказание родителей за то, что не уделяют внимания ребенку, не посвящают ему свое время и не принимают его.
Бессознательно ребенок восстанавливает справедливость. Мотивируя тем, что родители украли у него любовь, внимание, принятие, заботу, он украдет то, что значимо для них, например деньги. Также может быть мест и за нанесенные обиды, боль.
Приведем пример из работы А. Фенько (2002), который она назвала «бунт против одиночества».
Мама 12-летнего Виталика обратилась к психологу-консультанту с очень деликатной проблемой. Уже несколько раз сын попадался на кражах. Но если раньше он таскал вещи из дому и деньги из маминой сумочки, то в последний раз украл большую сумму у знакомых, которые пришли в гости. Кража раскрылась, и всем взрослым было страшно неловко. Своего родного отца Виталик почти не помнил.
Пять лет назад его мама второй раз вышла замуж, и они переехали из маленького подмосковного городка в огромную квартиру на Чистых Прудах, с книжными шкафами до потолка и остатками фамильного серебра в буфете. Новый мамин муж был сыном крупного ученого и сам тоже делал блестящую карьеру. Вскоре в семье родился младший брат. Мама была поглощена заботами о малыше и к тому же изо всех сил старалась соответствовать высокому культурному уровню своего нового окружения: читала книги, училась в вечернем институте, а через некоторое время устроилась работать бухгалтером, поскольку, несмотря на научные успехи мужа, денег в семье не хватало. Разумеется, времени на старшего сына у нее практически не оставалось. Он с трудом привыкал к новой обстановке: плохо спал, неважно учился и был замкнутым и неразговорчивым, в отличие от своего младшего брата, купавшегося в лучах родительской любви и излучавшего ответную жизнерадостность.
Единственным человеком в семье, с которые Виталик общался, была бабушка. Именно у нее он впервые два года назад украл часы. Бабушка заметила пропажу, но сделала вид, что ничего не случилось. Она вообще жалела Виталика, понимая, что не он любимец в семье. Но вскоре мальчик украл деньги из письменного стола отчима. Эта кража тоже скоро раскрылась. Отчима больше всего волновало, на что именно Виталик потратил деньги. Выяснилось, что половину он прокутил в «Макдональдсе», а половину подарил другу, «потому что его мама — медсестра и ей приходится работать по ночам».
Все остальные кражи носили
такой же «нерасчетливый» характер. Чаще всего Виталик дарил деньги и вещи,
взятые из дому, нищим на Курском вокзале. Психотерапевт рекомендовал родителям
выдавать Виталику определенную сумму на карманные расходы, а остальные деньги
хранить в недоступном для него месте. Он также посоветовал
один раз в месяц всей семьей делать в доме ревизию: отбирать старые вещи,
относить в ближайшую благотворительную организацию. Виталика назначили
ответственным за это. А главной рекомендацией для родителей было — проявлять к
сыну побольше любви и внимания.
Попытки ребенка восстановить утраченную связь с родителями достаточно часто становятся причиной воровства. Когда родители слишком поглощены собственными проблемами, ребенок чувствует себя одиноким заброшенным. Ему начинает казаться, что родители уделяют ему меньше внимания, чем другим детям, или что его не любят, или что к нему несправедливы. И тогда он может взять у мамы из сумки деньги или какую-то вещь, но всегда таким образом, что пропажа легко обнаруживается. Сами деньги ребенку не очень-то и нужны. Он бессознательно стремится привлечь внимание родителей, пусть даже это будет гнев, возмущение и наказание. Когда тебя наказывают, это все же лучше, чем когда тебя вообще не замечают.
Тех детей, которые с помощью воровства добиваются внимания родителей, шумные скандалы и строгие наказания лишь убеждают в правильности избранной ими стратегий. В таких случаях психологи советуют игнорировать факт воровства или относиться к нему как к рядовому событию.
Иногда полезно вместо скандала похвалить ребенка за какие-нибудь успехи или сделать подарок, о котором он давно мечтал. Даже если в ответ на ваше великодушие ребенок не признается в краже, то он надолго запомнит ощущение стыда и неловкости.
Наиболее серьезный повод для беспокойства дает ребенок, который периодически крадет деньги или вещи, принадлежащие его родным или близким друзьям семьи. Чаще всего кражи такого рода совершают подростки и младшие школьники, хотя истоки подобного поведения могут находиться в раннем детстве.
Обычно в процессе разговора с родителями выясняется, что в раннем детстве ребенок уже совершал кражу, тогда с ним «разобрались» домашними средствами (к сожалению, часто очень унизительными для ребенка). И только в подростковом возрасте, когда воровство начинает выходить за пределы семьи, родители понимаю что ситуация выходит из-под контроля, и обращаются за помощью к психологу.
Исследования психолоров Т. П. Гавриловой (2001) Э. X. Давыдовой (1995), проведенные в семьях ворующих детей, показали что кража — это реакция ребенка на травмирующие его обстоятельства жизни.
Опыт психолога М. М. Кравцовой (2001, 2002) подтверждает, что в семьях ворующих детей наблюдается эмоциональная холодность между родственниками. Ребенок из такой семьи либо чувствует, что его не любят либо в раннем детстве пережил развод родителей, и, хотя отношения с отцом сохраняются, он чувствует отчужденность, даже враждебность между родителями.
О причинах детского воровства известный педиатр Б. Спок (1990) пишет следующее: «Например, крадет семилетний мальчик, хорошо воспитанный сознательными родителями, имеющий достаточно игрушек и других вещей и небольшие карманные деньги. Крадет он, вероятно, небольшие суммы денег у матери или товарищей, авторучки у учителей или карандаши у соседа по парте. Часто его кража совершенно бесцельна, потому что у него может быть такая же вещь. Очевидно, дело в чувствах ребенка. Его как будто мучает потребность в чем-то, и он пытается удовлетворить ее, беря у других вещи, которые на самом деле совсем ему не нужны. Что же ему нужно. В большинстве случаев такой ребенок чувствует себя несчастным и одиноким. Может быть, ему не хватает родительской ласки или он не может найти друзей сред своих сверстников (это чувство покинутости может в никнуть даже у ребенка, который пользуется любовью и уважением товарищей). Я думаю, тот факт, что воруют чаще всего семилетние дети, говорит о том, что в этом возрасте дети особенно остро чувствуют, как они отдаляются от родителей. Если они не находят настоящих друзей то чувствуют себя покинутыми и никому не нужными. Вероятно, поэтому дети, ворующие деньги, либо раздают их товарищам, либо покупают конфеты для всего класса, то есть стараются «купить» дружбу товарищей по классу. Мало того, что ребенок несколько отдаляется от родителей, но и родители часто бывают особенно придирчивы к детям в этом не очень привлекательном возрасте. »
В
раннем подростко![]() вом периоде ребенок может также почувствовать себя
более одиноким из-за возросшей застенчивости, чувствительности и стремления к
независимости.
вом периоде ребенок может также почувствовать себя
более одиноким из-за возросшей застенчивости, чувствительности и стремления к
независимости.
В любом возрасте одна из причин воровства — неудовлетворенная потребность в любви и ласке. Другие причины индивидуальны: страх, ревность, недовольство» (Б. Спок, 1990).
Если же, несмотря на положительные усилия родителей, кражи продолжаются, необходимо посоветоваться с детским психиатром.
Психологический портрет ворующего ребенка: прежде всего, это неуверенные в себе, уязвимые дети, которым необходима поддержка и эмоциональное принятие со стороны близких. В этом основная беда, ведь своим поведением такие дети, наоборот, все дальше и дальше отталкивают от себя окружающих, настраивают их против себя.
Больше всего родных злит и раздражает, что совершивший проступок ребенок как бы не понимает, что он сделал, он отпирается и ведет себя как ни в чем не бывало. Такое его поведение вызывает у взрослых праведный гнев: украл — покайся, проси прощения, и тогда мы будем пытаться наладить отношения. В результате между ним и близкими вырастает стена, ребенок представляется им монстром, не способным к раскаянию.
Такие кражи не имеют своей целью ни обогащение, ни месть. Чаще всего ребенок почти не осознает, что он сделал. На гневный вопрос родных: «Зачем ты это сделал?», он совершенно искренне отвечает: «Не знаю». Взрослые не могут понять, что кража детей — крик о помощи, попытка достучаться до них.
Мотивы воровства среди детей невротического склада, как правило, не связаны напрямую с непреодолимой жаждой владеть украденным. Не связаны они и со слабым осознанием тяжести проступка. Иными словами, это мотивы опосредованные. Они бывают самыми разными. Тут и отчаянная попытка привлечь к себе внимание, я жажда самоутверждения, и проверка себя («Могу ли я преступить запретную черту?»), и желание приобщиться к миру взрослых, и бунт против гиперопеки. А част и все вместе.
Мать девятилетнего Лени Д. начала разговор с психологом со слов:
— Я
ни на что не надеюсь. Все перепробовала — и как горох об стенку. Короче,
мой сын — кандидат в колонию. Это однозначно. А к вам я пришла
просто так, для очистки совести...
Леня стал заниматься в центре, и очень быстро выяснилось, что он безумно привязан к матери. А мать вторично вышла замуж и уже два года жила отдельно от сына.
— Муж у меня нервный товарищ, — объяснила она, — до сорока лет жил с горячо любимой мамочкой и детей не выносит.
Впрочем, она призналась, что и ее ребенок тяготит, что она не любит с ним играть, заниматься и вообще ей все это неинтересно.
Очевидно, мальчик остро переживал равнодушие матери и предпочитал вызывать, пусть отрицательные, но сильные эмоции с ее стороны. Воровством он этого добивался. Мать впадала в состояние неистовства, кричала, плакала, проклинала Леньку и весь белый свет. А он... он почти блаженствовал. Мать же еще больше ужасалась, видя такую странную реакцию, и обзванивала аптеки в поисках таблеток, прописанных психиатром.
По рекомендации психолога эта женщина начала уделять сыну больше внимания, даже пыталась неуклюже приласкать его (чего раньше не делала никогда!). Воровство стало случаться реже — раньше мальчик воровал чуть ли не каждый раз во время встреч с матерью или непосредственно накануне.
Но в одном мать была непреклонна: Ленька по прежнему жил с бабушкой и дедушкой. К счастье в дело вмешалась судьба. Придя на очередное занятие, Ленька с восторгом оповестил всех присутствующих, что теперь он живет с мамой.
— Мои родители его просто выгнали, — пояснила, оставшись наедине с психологом мать. — он их «до ручки довел»... А папа недавно перенес инфаркт. Так что теперь мое сокровище со мной!
После этого психолог видел Леню с интервалами в полгода и год. За все время он совершил кражу всего один раз — в летнем лагере, где ему очень не нравилось и куда мама за месяц ни разу не приехала. Кстати, его отчим оказался не таким уж страшным «детоненавистником», а, напротив, принял самое деятельное участие в воспитании пасынка. Мотивом воровства для ребенка часто является просто незнание «правил игры». Ребенок, выросший в детском доме, может не знать ничего о назначении денег, о том, что они имеют определенную ценность, что их количество ограничено, что они кому-то принадлежат. Хороший способ в этом случае — ввести ребенка в курс дела — выделять ему карманные деньги и помогать ими распоряжаться, постепенно предоставляя все большую самостоятельность. Также необходимо подключать ребенка к планированию бюджета семьи, прививать ему отношение к деньгам как к ресурсу, которым нужно разумно распоряжаться.
Часто родители сами провоцируют воровство путем немотивированных запретов или оставляя на видном месте драгоценности, вещи как предмет соблазна. Поощрением воровства служат также жестокое наказание и сообщение окружающим о воровстве ребенка. Нередко воруют дети, родители или воспитатели которых уверены, что они лучше знают, «что ему в действительности нужно», и без достаточных оснований отказывают в покупке модной одежды, предметов увлечений (кассет, билетов на концерты и т. д.). Это заставляет ребенка чувствовать себя «белой вороной» среди сверстников, что для подростка очень тяжело. Причиной воровства в этом случае является систематическое пренебрежение потребностями ребенка.
Наконец, ребенок может воровать от безвыходности: если у него вымогают деньги путем угроз или он страдает наркозависимостью. Задача воспитателя — построить такие отношения с ребенком, чтобы в подобных ситуациях он мог обратиться за помощью к взрослым, а не скрывал от них тяжесть своего положения.
5.3. НЕРАЗВИТОСТЬ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ВОЛИ
Третьей важной
причиной детского воровства является неразвитость нравственных представлений и
воли, то есть стремление самоутвердиться. Когда в семье ребенку не хватает
самостоятельности и родители не передают ему ответственность, тогда он находит
деструктивный способ самоутверждения — украсть. Эти дети начинают воровать,
чтобы не чувствовать своей неполноценности, чтобы убедить самих ![]() себя
и окружающих в своей хитрости, ловкости, смелости, «крутизне».
себя
и окружающих в своей хитрости, ловкости, смелости, «крутизне».
Нельзя, но очень хочется. Воровство может быть также потребностью пережить острые ощущения, поскольку в семье чрезмерные требования к послушанию, правильному поведению, и у ребенка возникает желание самоутвердиться.
Воровство как способ самоутверждения тоже является свидетельством неблагополучия ребенка. Он таким образом хочет обратить на себя внимание, завоевать расположение кого-либо (различными угощениями или красивыми вещами).
Э. X. Давыдова (1995) отмечает, что условием счастья такие дети называют хорошее отношение к ним родителей, одноклассников, наличие друзей и материального достатка.
Например, маленький ребенок, укравший дома деньги и накупивший на них конфет, раздает их другим детям, чтобы таким образом «купить» их любовь, дружбу, хорошее отношение. Ребенок повышает собственную значимость или пытается обратить на себя внимание окружающих единственно возможным, по его мнению, способом.
Не найдя поддержки и понимания в семье, ребенок начинает воровать вне семьи. Создается ощущение, что он делает это назло вечно занятым и недовольным родителям или мстит более благополучным сверстникам.
Одна восьмилетняя девочка постоянно прятала и выбрасывала вещи своего младшего брата. Она делала это потому, что в семье явно предпочитали ей младшего сына и возлагали на него большие надежды, а она, хоть и училась очень хорошо, но не смогла стать лучшей в классе. Девочка замкнулась в себе, у нее не было близких отношений ни с кем в классе, а единственным другом стала ее ручная крыса, которой она поверяла все свои горести и радости. Причинами ее воровства были родительская холодность по отношению к ней и, как следствие, этого, ревность и желание отомстить родительскому любимчику — младшему брату.
Некоторые дети воруют совершенно особым, «нелепым» образом. Они берут вещи вовсе им не нужные, иногда сущую ерунду, которую гораздо проще попросить или которая у них уже есть.
Например: школьник периодически приносил домой чужие шариковые ручки (часто самые дешевые), ластики, хотя и того и другого у него было более чем достаточно, а однажды украл женскую косметичку. Другой мальчик восьми лет отличился тем, что к тому килограмму мандаринов, который для него покупала мама, украл еще один.
Часто украденными вещами дети совсем или почти совсем не пользуются. Их могут прятать, выбрасывать, а могут, набравшись смелости, пытаться вернуть хозяину.
Мама ребенка, о котором шла речь выше, однажды нашла за его кроватью колоду карт, которые он украл у своего дяди, живущего в той же квартире. При этом у мальчика были свои карты, играть ему не запрещали, и дядиной колодой он так и не воспользовался.
Воровство не планируется и часто совершается «глупо» - почти на виду или в тех случаях, когда вора легко вычислить. Например, ребенок просит разрешения вернуться в группу во время прогулки, чтобы сходить в туалет, и в это время крадет. Естественно, вора легко определяют. Примечательно то, что подобные глупости могут делать вполне интеллектуально развитые дети в возрасте старше пяти лет. То есть тогда, когда они вполне могли бы отдавать себе отчет, что будут уличены.
Будучи пойманными, дети переживают случившееся. Они действительно выглядят очень расстроенными, страдают из-за своего позора и преисполнены отчаяния от того, что их родители и друзья могут отвернуться от них.
Так, восьмилетний мальчик крал у одноклассников «плохо лежавшие» игрушки и деньги. Но он не пользовался ими, а прятал в укромном месте, которое потом было обнаружено учителем. Такое его поведение было похоже на месть, как если бы он хотел наказать окружающих его людей.
В процессе психологической работы с ним и его семьей выяснилось, что дома у мальчика не все благополучно. Отношения в семье были холодные, отчужденные, практиковались физические наказания. Мальчик не мог рассчитывать на поддержку в трудной ситуации, даже его успехам радовались формально: соответствует стандартам — и хорошо. Все поощрения сводились к материальным, давались деньги или покупалась какая-либо вещь. Отношения между родителями были напряженными, видимо с частыми конфликтами, взаимными обвинениями. Старшую сестру (кстати, очень одаренную) ни папа, ни мама не любили, считая ее причиной своей неудачной семейной и профессиональной жизни.
Мальчик был очень способный, начитанный, наблюдательный, но непопулярный. В классе у него был один приятель, по отношению к которому мальчик занимал доминирующую позицию: придумывал, во что им играть, чем заниматься, в играх был главным.
Вообще, было похоже, что ребенок не умеет общаться наравных. Ему не удавалось завести дружбу со сверстниками, не было ни доверия, ни любви в отношениях с учителями.
Чувствовалось, что он тянется к людям, ему одиноко, но он не умеет строить теплые, доверительные отношения. Все строилось на основе страха, подчинения. Даже с сестрой они были союзниками в противостоянии родительской холодности, а не любящими родственниками.
Кражи дома он совершал, чтобы досадить родителям, а в классе, чтобы сделать плохо другим, чтобы не одному ему было плохо...
Приведем другой пример.
Во втором классе у ребят стали пропадать учебные принадлежности (ручки, пеналы, учебники) и отыскивались они в портфеле мальчика, среди учителей имевшего репутацию хулигана из-за своего плохого поведения, но популярного среди одноклассников.
Самое интересное, что он сам обнаруживал пропавшие вещи у себя в ранце и с неподдельным удивлением сообщал о находке окружающим. На все расспросы он отвечал с искренним недоумением а то не понимая, как эти вещи оказались у него ч чем было этому мальчику воровать у ребят вещи потом притворяться удивленным, обнаружив их у себя? Учительница не знала, что и подумать.
Однажды, когда все ребята были на физкультуре, она, заглянув в пустой класс, увидела следующую картину. Освобожденная от физкультуры девочка собирала с парт разные вещи и прятала их в портфель этого мальчика.
Девочка, самая младшая в классе, поступила в школу как «вундеркинд», но уже в начале первого класса начала испытывать большие трудности в учебе. Родители заняли позицию, что «учеба не самое главное», и считали, что учителя излишне придираются к их дочке.
Отношения с одноклассниками у девочки тоже не сложились, она претендовала на главные роли, но авторитета у одноклассников не имела, часто ссорилась с ними. Учителей боялась и говорила им, что забыла тетрадку или дневник, когда ей грозила плохая оценка.
О мотивах подобного воровства можно только догадываться. Возможно, поскольку правду об этих загадочных пропажах знала лишь она, эта тайна делала ее более значимой в собственных глазах. Заодно она мстила тому мальчику, который несмотря на хромающую дисциплину и проблемы с учителями, был успешен и в учебе, и в дружбе. «Подставляя» его, она, видимо, надеялась опорочить его в глазах окружающих.
Возможно, всех воришек отличает недостаточное развитие воли. Но если в описанных случаях дети понимали что совершают нечто предосудительное, то некоторые дети присваивают себе чужое, даже не задумываясь о том как это выглядит в глазах окружающих, ни о последствиях. Они берут понравившиеся им ручки, угощаются без спроса чужими конфетами. Совершая «кражи» дети не ставят себя на место «жертвы», не представляют себе ее чувства, в отличие от ребенка, мстящего кражей своим «обидчикам».
Подобное поведение детей является следствием серьезного пробела в их нравственном воспитании. Ребенку с ранних лет надо объяснять, что такое чужая собственность, что без разрешения брать чужие вещи нельзя, обращать его внимание на переживания человека, утратившего какую-либо вещь.
Иногда родители сами подталкивают детей к воровству своими бессознательными установками.
Мама 16-летнего Максима вырастила сына одна и мечтала, что со временем он станет ей опорой. Она восхищалась предприимчивыми и состоятельными мужчинами и всячески поощряла в мальчике наклонности к «суперменству». Максим был развит не по годам, дружил с ребятами постарше и все свободное время занимался каким-то «бизнесом». В суть этого бизнеса мама предпочитала не вникать и гордилась тем, что сын не клянчит у нее карманные деньги. Она была потрясена, когда ее вызвал следователь и дал прослушать запись телефонного разговора ее сына с одноклассником. Максим требовал у приятеля $500, угрожая рассказать всем о его гомосексуаных наклонностях.
На суде выяснилось,
что основным бизнесом Максима и двух его друзей сначала были кражи денег в
школьной раздевалке, которыми они промышляли с десяти лет. Потом они наладили
скупку и перепродажу вещей, которые по их заданию приносили из дому младшие
ребята. Самое потрясающее, что в эти махинации были вовлечены не
сколько десятков детей, но никто из родителей не встревожился тем, что из дому
пропадают книги, компьютерные диски и
драгоценности. А если и встревожился,
то держал проступок своего ребенка в тайне. В результате юные бандиты
почувствовали себя абсолютно безнаказанными. Они практически открыли в школе
подпольный пункт
по скупке краденого и погорели случайно, когда решили шантажировать своего
одноклассника, которого подозревали в
гомосексуализме. Они не рассчитывали, что мальчик обратится за помощью
к папе. Папа записал их телефонный разговор
и отнес пленку в милицию. Двум приятелям Максима дали
условный срок. Сам он отделался легким испугом
и был сразу же отправлен в Испанию, — очевидно, для продолжения
воспитания.
Многие родители хотят видеть своего ребенка сильной личностью. Однако ребенок может иметь свое представление об исключительности и выбрать для воплощений родительской мечты свой собственный путь. Например! решить, как Максим, что он слишком умен, чтобы подчиняться правилам.
Иногда ребенок начинает воровать из «классовых» соображений, завидуя более обеспеченным детям и стремясь отомстить «богатеньким». Такое возможно, например, если подобная «классовая ненависть» культивируется у него в семье. Как правило, родители вскоре теряют контроль над юным «суперменом». Ребенок убеждается в своей безнаказанности и начинает верить в что законы существуют не для него. Но рано или полно он попадает в поле зрения правоохранительных органов.
Некоторые дети воруют многократно. Среди них есть те кто не чувствует ни любви, ни даже симпатии со стороны окружающих людей и уже не надеется их когда-либо ощутить. Они полагают, что в глазах людей им нечего терять. В этом случае неразоблаченная кража — чистый выигрыш. Такие воруют обдуманно и осторожно, принимают меры, чтобы не быть застигнутыми на месте преступления, придумывают правдоподобные легенды, оправдывающие появление у них вещей. Из-за «пустяков» стараются не рисковать.
Особенно обидно бывает встречать среди детей этой категории тех, кто на самом деле любим, но кого взрослые из теоретических соображений решили воспитывать «в строгости — чтобы не избаловать».
В этом случае, необходимо повысить самооценку ребенка, дать ему понять, что есть люди, которые его любят, которым небезразлична его судьба и что все плохое еще может быть исправлено и забыто.
![]() Некоторые
дети воруют, чтобы «отомстить» родителям, заставить их изменить отношение к
себе. Это может происходить в тех случаях, когда взрослые, демонстрируя на
людях свои родительские чувства, на само деле игнорируют ребенка, отдавая все
свои силы и во мя карьере — «светской» жизни, другим детям в семь экзотическому
крокодильчику в террариуме. Кражам» ребенок сигнализирует окружающим: у нас все
совсем не так хорошо, как они говорят, они «все врут», помогите мне.
Одновременно это является сигналом и для родителей: если вы не измените свое
поведение, я не позволю вам притворяться перед окружающими, что вы хорошие
родители.
Некоторые
дети воруют, чтобы «отомстить» родителям, заставить их изменить отношение к
себе. Это может происходить в тех случаях, когда взрослые, демонстрируя на
людях свои родительские чувства, на само деле игнорируют ребенка, отдавая все
свои силы и во мя карьере — «светской» жизни, другим детям в семь экзотическому
крокодильчику в террариуме. Кражам» ребенок сигнализирует окружающим: у нас все
совсем не так хорошо, как они говорят, они «все врут», помогите мне.
Одновременно это является сигналом и для родителей: если вы не измените свое
поведение, я не позволю вам притворяться перед окружающими, что вы хорошие
родители.
Дети идут на воровство либо в собственной семье, либо вне ее. Причем такой поступок является объективно обусловленным: ребенок хочет что-либо купить или добиться чьего-либо расположения (например, в классе, в компании старших детей), поэтому начинает решать свою проблему криминальным образом. В подростковом возрасте сильно развито желание «быть как все». Ребенок говорит себе: «У всех есть деньги, и это позволяет им покупать сладости, игрушки, мелочи, общаться и веселиться. Я тоже хочу быть как все. Чем я хуже?»
Естественно, далеко не все дети, лишенные денег, идут на грабеж, но практика показывает, что случаи эти стали привычными практически в любой школе. Особенно если в семье есть проблемы кража может быть способом мести не только родителям, но и другим людям. Например, ребенок может украсть вещь, которую он просил на время, но получил отказ. «Я у тебя просил, и ты не дал. Так вот тебе!». Такая месть может закрепиться и стать патологической привычкой. Чаще это происходит с детьми, которые не выражают открыто свои обиды, негодование, оскорбленное самолюбие. Отрицательные эмоции требуют выхода и находят его в кражах и других подобных поступках (например, порче вещей обидчика). Если научить ребенка открыто выражать свои чувства приемлемыми способами, потребность красть вещи постепенно уменьшится и исчезнет.
Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкуп ровесников, которые готовы общаться с ним, только если у него есть сладости или игрушки. В этом случае причиной воровства является одиночество ребенка в кругу сверстников, его неумение строить с ними дружеские и приятельские отношения.
Это особенно бывает свойственно детям, которых детский коллектив отторгает из-за физических или других недостатков: полноты, маленького роста, заикания и т. д. В подобных случаях нужно, прежде всего, помочь ребенку завести друзей, научить его обходиться в отношениях с ровесниками без подкупа, повысить его самооценку и укрепить в нем уверенность, что он может быть интересен сам по себе.
Подросток может красть по требованию своей группы. В этом случае прекратить кражи можно только оторвав ребенка от асоциальной компании.
В психиатрии описаны случаи, когда люди крадут для того чтобы испытать сильные чувства, даже несмотря на то, что эти чувства — тревога и страх. Если вдуматься, это не так уж и удивительно. Ведь известно, что по меньшей мере, некоторым из тех, кто воевал, трудно приспособиться к мирной жизни именно потому, что она лишена такого острого ощущения опасности и необходимости борьбы за жизнь.
Кража может быть интересным приключением для скучающего, ничем не занятого ребенка и свидетельствовать, что в обычной жизни он не находит применения своим силам (о таких случаях принято говорить «с жиру бесится»). «Лечение» в таком случае сводится к тому, чтобы освободить ребенка от излишней опеки, дать ему возможность вкладывать собственные силы в борьбу за свою жизнь и благополучие.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Перечислите основные причины лжи и воровства у детей и объясните, в чем их сходство.
2. Опишите особенности детской импульсивности как одной из причин воровства.
3. Приведите примеры воровства, связанные с психологической неудовлетворенностью ребенка.
4. Проанализируйте причины неблагополучия ребенка в связи с воровством как способом самоутверждения. Приведите примеры.
Глава 6. ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ ВОРОВСТВА
Каждый родитель мечтает видеть своего ребенка самым счастливым, умным, честным. Но что делать, если надежды не оправдываются? И сын растет не аккуратным» благовоспитанным мальчиком, а неуправляемым трудным ребенком? И мать вдруг сталкивается с такими проблемами, о которых раньше и подумать-то было страшно... И снова встает, наверное, самый древний родительский вопрос: «Откуда это?»
6.1. ВОРОВСТВО В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Как сказано выше, в педагогике существует такое понятие — «детское воровство». Оно отличается от «взрослого» тем, что ребенок не может еще в полной мере осознать, насколько плохо поступает. В его представлении он «просто берет» то, что ему нравится. Ведь для двух-трехлетнего малыша вполне естественно взять на улице чужую игрушку и начать играть ею. Следовательно, взрослые не должны ругать детей за «воровство» как за преступление. Детям нужно объяснить, в чем заключается их ошибка.
Маленькие дети воруют из любопытства, в их систему ценностей еще не входит воровство как деструктивное поведение. Они познают мир и не считают свои действия воровством.
Среди мотивов, толкающих дошкольников на воровство, возможны следующие:
— желание владеть чем-либо (чаще всего игрушкой)
— желание сделать приятный подарок кому-то и' близких;
— желание привлечь внимание сверстников к себе как обладателю какого-либо предмета;
— желание отомстить кому-либо.
Все перечисленные группы мотивов не имеют под собой криминальной подоплеки.
Наиболее часто среди дошкольников встречаются кражи, мотивированные желанием завладеть чем-либо. Ребенок видит новую игрушку у сверстника, о которой он давно мечтал, и уносит. Причина такого поведения кроется в особенностях сознания дошкольника: для него понятие «чужое» и «мое» абстрактны и малодоступны. Такие понятия постигаются ребенком из опыта повседневной жизни, и именно взрослый раскрывает их смысл и содержание.
Маленькие дети не воруют в том смысле, как мы это понимаем. У них совсем другие взгляды на «свое» и на «чужое», отличные от наших, не такие как у нас.
Ребенок не ворует, а берет. Берет при всех, чтобы доиграть, насладиться вещью, не понимая разницы между общественной и личной собственностью человека, не понимая вообще, что такое собственность. Зачем она нужна и для чего. Малыш еще незрел, и опыт жизни пока не научил его такому понятию. «Мое», «твое», «свое», «чужое» — пустые звуки для него, пока ему не раскроют и смысл (А. И. Баркан,1996).
Какая разница между «моим» или «твоим», когда обычно маленькие дети в игре обмениваются игрушками друг с другом так, словно это общие игрушки и в то время каждого из них. Поэтому, когда малыш «случайно» захватит домой чью-то новую игрушку или же ту которой нет у него, он не придаст этому значения, если хозяин взятых им игрушек, заметив это, не начнет их отбирать. А дети — разные: не только лишь берущие, но и дающие. Дающие особенно тогда, когда им хочется хотя бы такой ценой найти себе друга.
Забрав чужое и немного поиграв с ним, малыш навряд ли будет возражать, когда узнает, что «не его игрушки» необходимо все же отдавать. Отдаст. И снова на глазах у многих возьмет без спросу то, что вдруг понравилось ему, чего нет дома, то, что соблазнило.
И все-таки, воруя «напоказ» — ребенок не ворует. Он убежден, что все принадлежит ему, если оно перед глазами и до него можно дотронуться рукой, тем более еще доиграть. Он убежден и будет так считать, пока от родителей однажды не узнает, как это плохо, как нехорошо, как некрасиво. Надо объяснить ребенку, что чувствуют Другие дети, когда лишаются чего-то, что будет чувствовать он сам, когда другой ребенок неожиданно присвоит себе его любимую игрушку или вещь.
Ребенку в этом возрасте еще сложно понять, в чем ценность вещи и почему мама рассердилась на него, когда он вытащил из сумки деньги, но только пошутила, чтобы он примерил папин галстук, который самовольно взял из шкафа. Чем отличаются его поступки? Он взял без разрешения и то и это. И деньги не его, и галстук не его. Так почему же мама прореагировала все-таки по-разному? Как будто деньги важнее галстука.
Малыш еще не понимает, с чем связано то, что воспитатель может разрешить ему забрать домой все, что он сегодня сделал на занятиях, — рисунки или что-то, сделанное им из пластилина, — а вот карандаши, которыми он рисовал, или сам пластилин — не разрешит.
«Мое», «твое», «свое», «чужое» — ребенок, подрастая, должен знать, что это означает. Какая разница между своими и чужими вещами и игрушками. Надо объяснять ему это все время. Не просто объяснять, а запрещать без спросу брать чужое.
Представление о том, что такое «мое» и «чужое», появляется у ребенка после трех лет, когда у него начинает развиваться самосознание. Никому и в голову не придет называть вором двух-трехлетнего малыша, взявшего без спросу чью-либо вещь. Но чем старше ребенок, тем вероятнее, что подобный его поступок будет расценен как попытка присвоить чужое, иными словами — как «кража».
Возраст ребенка является в такой ситуации неоспоримым доказательством осознанности совершаемого, хотя это и не всегда верно. (Известны случаи, когда дети семи-восьми лет не осознавали, что, присваивая себе чью-то вещь, они нарушают общепринятые нормы, но бывает, что и пятилетние дети, совершая кражу, прекрасно сознают, что поступают плохо.)
Можно ли, например, считать воришкой пятилетнего мальчика, который, испытывая огромную симпатию к своей сверстнице, подарил ей все мамины золотые украшения? Мальчик считал, что эти украшения так же принадлежат ему, как и его маме.
Большинство психологов считает нормальным, если ребенок в трех-пятилетнем возрасте что-то тащит в дом с улицы. Например, совок из песочницы. Даже если в ней тот момент сидел еще один мальчик (о чем вам удалось знать позже), не нужно торопиться отшлепать малыша. Это пока не воровство, а просто социальная незрелость. Главное, нужно не полениться взять ребенка за руку и вместе отнести совок обратно в песочницу — его законному владельцу. То же надо сделать и когда ребенок постарше приносит с именин друга, к примеру, красивую запонку, «валявшуюся в углу на полу и никому не нужную». Не тратьте зря время на выяснение, действительно ли она валялась, и стенания типа: «Украл — так имей мужество в этом признаться!» (заведомо оскорбляя ребенка недоверием). В этот момент важнее — ведь он не спрятал от вас свою находку! — объяснить ребенку, почему нельзя брать чужие вещи, пусть даже они лежат в мусорном ведре. Скажите, что в вашем доме должно быть только заработанное своим трудом и что чужую вещь вы тут же заметите и в любом случае потребуете отнести ее обратно владельцу. Сделав это однажды и натерпевшись стыда (не очень-то приятно кому-то доказывать, что ты не вор), ребенок в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем подбирать то, что «плохо лежит».
Ошибка ребенка — это родительская ошибка, чего, как правило, не хотят признавать сами родители. Не объяснили ему вовремя, что хорошо, что плохо, не откликнулись на его просьбу один раз, другой, не заметили что он стал скрытным и неразговорчивым (не пристает и слава богу!) — ждите рано или поздно «грозы».
Потребностью, перерастающей в стойкое желание (а это гораздо сильнее, чем просто потребность), заполучить то что имеют все его сверстники, ребенку уже не справиться! И он в любом случае решит свою проблему — с помощью родителей или без нее...
Нравственные нормы ребенок постигает постепенно в процессе развития. Совсем еще маленький ребенок различает хорошее и плохое только благодаря реакции на его поступки родителей, которые, прежде всего, мимикой и интонацией дают ему понять, какое поведение они поощряют, а какое — нет. Не случайно наказание имеет смысл применять, только когда кроха способен понять, за что его наказали.
Как говорилось выше, маленький ребенок еще не способен понять, что такое собственность. Он активно исследует окружающую его среду, знакомится с миром, и в нем все «принадлежит» ему.
Именно слабое развитие воли и нравственных представлений чаще всего отличает воришек 5-7 лет. Эти дети испытывают сильное желание получить ту или иную вещь, но при этом даже не задумываются о сути и последствиях своего поступка. Они не могут поставить себя на место «жертвы», не представляют ее чувства. Пока их не призовут к ответу, они часто даже не понимают, что совершили нечто предосудительное. Нередко подобное поведение детей является следствием серьезного пробела в их нравственном воспитании. Ребенку с ранних лет необходимо объяснять, что такое чужая собственность, что без разрешения брать чужие вещь нельзя, обращать его внимание на переживания чело века, утратившего нечто. Очень полезно разбирать вместе различные ситуации, связанные с нарушением и соблюдением моральных норм (М. М. Кравцова, 2002; тд Г- Антипова, 1995).
Вторая группа мотивов (желание сделать подарок кому-то из близких) также связана с отсутствием отрицательной оценки краж дошкольником. Он стремится тем или иным образом сделать добро.
Третья и четвертая группы мотивов характерны для детей старшего дошкольного возраста, хотя и с отрицательной окраской, их можно отнести к социальным. В 6-7 лет детям уже небезразличны способы целенаправленного достижения желаемого доступными способами, что может проявляться как во вредительстве (украсть у того, кто обидел), так и мести. Во втором случае ребенок уже хорошо понимает, на что он идет и для чего он это делает.
Взрослых часто удивляет и злит нелогичность поступков детей, в том числе это касается и краж. «Ты заранее знаешь, что тебя поймают!» — удивляются они. Но они забывают, что дети-дошкольники имеют особенности, которые и толкают их на нелогичные поступки:
—импульсивность, подверженность сиюминутным порывам вследствие неразвитой произвольности;
—неразвитость прогностической функции, то есть неумение эмоционально предвосхищать поступки;
—узость понятийного аппарата, трудность осмысления абстрактных понятий;
—осознание своего существования «здесь и сейчас», непонимание временных перспектив.
Если шестилетний мальчик крадет у родителей небольшие суммы денег, а у товарищей — авторучки и другие мелкие предметы, которые могут быть и у него (причем воспитывается мальчик в благополучной, интеллигентной семье), как объяснить эти поступки?
В большинстве случаев причина в том, что ребенок чувствует себя одиноким и несчастливым. Скорее всего, ему не хватает тепла и ласки, он не может найти друзей среди своих сверстников. Поэтому дети как бы «покупают» дружбу, раздавая одноклассникам украденные деньги.
В этом возрасте дети чувствуют, как отдаляются от родителей, а взрослые чаще предъявляют претензии к поведению ребенка. Все это и заставляет ранимого шести-семилетнего человека, часто неосознанно, воровать.
Когда у ребенка все в порядке, нет отклонений от нормы, он здоров — то «возрастное» воровство окажется лишь мелким эпизодом в его жизни, исчезнув раз и навсегда в дальнейшем. Но если у ребенка есть какие-то проблемы, которые он не может разрешить, он временами может выбирать воровство в качестве средства, способного отвлечь его от всех проблем (А. И. Баркан, 1996). Обычно это воровство не «напоказ», а «втайне». Раз «втайне», значит, перемешанное с ложью. Ложь «прячет» воровство и «драпирует», и «уживается» с ним, словно они добрые соседи. А ребенок выглядит порочным, и родители стыдятся его.
Такое воровство обычно свойственно старшим дошкольникам, которые, взрослея, начинают отдаляться от своих родителей и пытаются заменить хотя бы часть прежней привязанности к маме с папой на новую привязанность к друзьям, но так и не находят тех ровесников которые нуждаются в их чувствах, и в результате ощущают себя одинокими и никому не нужными, растут ми без ласки и любви. Поэтому, чтобы привлечь к себе внимание, они не просто украдут, а могут щедро раздать украденное детям и не воспользоваться им сами.
Испытывая дефицит любви и ласки, ребенок может украсть вещь у человека, которого он обожает. Как будто эта вещь символизирует привязанность ее владельца к малышу.
Дошкольник может украсть, не устояв перед соблазном, когда то, что он ворует, — его несбывшиеся грезы и затаенные мечты. И даже зная, чем в дальнейшем его поступок отзовется, он, нарушая все запреты, идет на риск, поддавшись искушению, считая, что даже мимолетное владение предметом, конечно, «стоит» самых отрицательных последствий воровства.
А что «последствия» неизбежны на самом деле, малыш усваивает уже около шести лет или чуть-чуть позже, когда хотя бы однажды бывает свидетелем того, как после кражи начинается расследование родителей или других людей. И хочется или нет, — приходится возвращать украденную вещь, причем с позором и под осуждающие взгляды.
Такой урок должен усвоить любой «воришка», чтобы он не превратился в вора.
Но все-таки — как устоять перед соблазном?
Ребенок может воровать, подражая взрослым или своим ровесникам, которые воруют. Если он видит, как взрослые несут с работы все, что можно там взять, малыш считает воровство обычной нормой, особенно тогда, когда взрослые хвалятся этим при нем.
Среди ровесников малыш не может просто « выделяться» честностью, когда он знает, что они воруют. Ему приходится быть «вровень» с ними — и это тоже норма. Поэтому надо знать, с кем ребенок дружит, и быть самим предельно честным.
Обычно в неблагоприятных семьях воровство ребенка — всего лишь стиль жизни. Но также это может быть, и признаком или симптомом психического отклонения у малыша.
6.2. ВОРОВСТВО В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема воровства по мере роста ребенка усложняется. То, что в раннем детстве является случайным эпизодом, ошибкой, у подростков — уже осознанный шаг, а то и вредная привычка, девиантное поведение.
В младшем школьном возрасте ребенок попадает в ситуацию постоянного оценивания, и не только со стороны взрослых (в первую очередь, учителей), но и со стороны одноклассников. Их оценки постепенно становятся более значимыми, нежели обыкновенные школьные, а иногда важнее, чем мнение родителей. Именно в этом возрасте наиболее активно происходит нравственное развитие маленького человека, освоение социальных норм, закладывается моральная основа личности. Теперь все зависит от шкалы предлагаемых ценностей. Чтобы завоевать популярность и уважение сверстников, ребенок готов на многое. Особенно тот, у которого не все благополучно дома. Если родители вечно заняты, им нет дела до его проблем и интересов, если они холодно относятся к нему, отвергают его, то школьник еще активнее будет искать утешения вне семьи, а здесь уж как повезет. Какая компания попадется.
К типу воровства младшего школьника можно отнести ситуации домашнего воровства, когда ребенок может взять деньги или некую вещь, принадлежащую его родным или близким друзьям семьи. Чаще всего кражи кого рода совершают подростки и младшие школьники, хотя истоки подобного поведения могут находиться в раннем детстве. Такое воровство — своего рода сигнал об эмоциональном неблагополучии семьи, неудовлетворенности каких-то жизненно важных потребностей ребенка.
К сожалению, особенную тревогу у родителей вызывают только те случаи, когда воровство начинает выходить за пределы семьи. А ведь даже самый первый подобный проступок — повод задуматься: все ли в порядке, не испытывает ли маленький член семьи дискомфорт в родственном кругу? Анализ работы с ворующими детьми подтверждает, что в их семьях наблюдается эмоциональная холодность между родственниками. Такой ребенок либо чувствует, что его не любят, либо в раннем детстве пережил развод родителей, и, хотя отношения с отцом сохраняются, он наблюдает отчужденность, даже враждебность между мамой и папой.
Младшие школьники берут то, что им очень хочется иметь в данный момент: красивый ластик или яркий карандаш. И еще то, что они коллекционируют: яйца-сюрпризы, вкладыши, наклейки. Для подростков 11-13 лет украсть что-то в магазине — значит продемонстрировать сверстникам свою смелость, независимость и пренебрежение. Девочка может украсть лак для ногтей, который не очень даже и понравился, мальчик тайком выносит из супермаркета музыкальные диски, не обращая внимания на их содержание. В школе младшие по л ростки воруют какую-то вещь у одноклассника, чтобы проучить его за то, что услужлив с учителем, лучше учится или просто не такой, как все.
Чаще всего — это спонтанный поступок, а не расчетливая кража по меркантильным соображениям. Младшие школьники еще не способны предвидеть последствия действий, не понимают нравственного смысла нормы. Они не умеют представить переживания другого, когда тот лишается вещей. У подростков развиты чувства стыда и вины, но им еще трудно управлять своим поведением. Именно поэтому воровство всегда сопровождается ложью. Дети знают, что желание обладать сильнее страха родительского гнева. С помощью лжи они пытаются избежать наказания.
Даже если школьник украл впервые, нельзя принижать значение такого поступка, утешать себя мыслью, что все пройдет с возрастом. Но и забрать украденное со словами «Никогда так больше не делай» — значит подтолкнуть его к тому же еще раз. Нужно взять себя в руки — не кричать, не грозить милицией. В идеале он должен вернуть в магазин (или одноклассникам) украденное (или возместить его стоимость) и принести свои извинения. Необходимо дать возможность вернуть вещь самостоятельно. Важно, чтобы ребенок не только почувствовал стыд, но имел шанс исправить свой поступок. И не следует наклеивать ярлыков: школьник взял чужое, но он не вор. Если же проступок повторяется неоднократно, это серьезный повод задуматься о том, что происходит в его отношениях со сверстниками или в е семье.
Интересно рассмотреть конкретный пример. Каждый день первоклассник Вова приносил из школы новую игрушку.
—Откуда это? — спрашивала мама.
—Алеша дал.
На следующий день: «Аня подарила». Когда в доме скопилось уже немало подобных «подарков», грянул гром.
— Ребята жалуются, — сообщила учительница, — что Вова шарит в их ящиках, залезает в портфели. Разные вещи пропадают: игрушки, фломастеры...
Мама Вовы почувствовала, будто на нее вылили ушат ледяной воды. Первый порыв был — устроить сыну разнос, накричать, отшлепать — чтобы знал! Но, к счастью для Вовы, он не попался под горячую руку. А у мамы по дороге из школы домой созрело совсем иное решение... Вова был ошеломлен. Никогда еще он не видел свою мать в таком состоянии. Молча, с каменным лицом прошла она мимо него, словно Вова — пустое место. Молча собрала в большой пакет все трофеи сына, спросила сухо:
— Еще есть?
Вова вынул из тумбочки несколько игрушек.
— Завтра ты возьмешь этот мешок и раздашь вещи тем, у кого взял. — Мама старалась говорить спокойно, но в глазах у нее стояли слезы. Вова опустил голову. — Мне никогда еще не было так стыдно!
Мать ушла в другую комнату, закрыв дверь. С тех пор прошло много лет
— Когда, остыв, я поговорила с сыном, — вспоминает Бовина мама, — то, к своему изумлена обнаружила, что он просто не понимает, почему нельзя брать вещи у одноклассников. Они же «Свои люди», как мама и папа, а вовсе не чужие. Ведь у себя дома он может брать все что угодно!
Его поступок не был воровством, то есть сознательным и тайным присвоением чужого добра. Откуда он мог знать, что делать так нехорошо, если ему и не объясняли этого никогда: повода не было. У детей постарше (от 9 до 12 лет) воровство может быть связано с недостаточным развитием волевой сферы: на свое «хочу!» им трудно самим себе сказать «нет!». Таким детям трудно справиться с соблазном, хотя они испытывают стыд за свой поступок.
В одной из московских школ три девочки, ученицы 4 класса, совершили кражу. Они, как говорится, «свистнули» несколько колясок, оставленных у детской поликлиники. Шуму было много: выходят мамаши с младенцами на руках, а транспортного средства нет. Поймать преступниц не составило труда: они мирно играли крадеными колясками во дворе соседнего дома.
Конечно, девочки понимали, что поступают нехорошо. Но они планировали вернуть коляски в тот же день. Пойманные с поличным, они быстр «раскололись», назвав номер школы, в которой учатся, свои имена и фамилии. А дальше началось самое страшное.
В школе устроили настоящий показательный процесс. Девочек поставили на сцену актового зала, полного зрителей — учеников разных классов. Учителя по очереди выходили и клеймили «бездушных воровок», «жестоких обманщиц».
После собрания дети тыкали в них пальцем и кричали: «Воровки! Воровки!» Само посещение школы стало для них пыткой.
Конечно, каждую что-то не очень приятное ждало и дома. Только одна мама поступила нестандартно: срочно перевела свою дочь в другую школу, подальше от старой. Остальные же приняли сторону учителей. Впоследствии две девочки так и пошли «вразнос»: начали пить, курить, уходить из дому. Кто знает, возможно, тот самый школьный «урок» стал роковым и они поверили, что хуже их и быть никого не может... Детское сердце особенно ранимо. То, что для взрослого — ерунда, проходящий момент, для ребенка подчас становится источником большого горя, поворотом на всю жизнь. Золотое правило воспитания гласит: «Ругай наедине, хвали — при всех». Воровство — сор, который не следует «выносить из избы». Нельзя клеймить, красить образ в черный цвет: иначе порочный поступок может действительно превратиться в суть личности: «Мама говорит — значит, такой!» А в подростковом возрасте уже звучит вызов: - Да! Обманщик, вор! Ну и что?
Одна из основных причин воровства в среднем и старшем школьном возрасте — отсутствие у детей денег на данные расходы.
«А зачем они ей? — недовольно парировала вопрос психолога женщина, чью дочь в классе стали подозревать в воровстве. — Я сама знаю, что надо моей дочери, и у нее, поверьте, все есть: и хорошая одежда, и компьютер. Еще и деньги давать? Не хватало!» В том-то и дело, что девочке той нужен был не компьютер, а дешевенькие конфеты сосульки, которые ее одноклассники на переменах покупали в киоске...
В каждом возрасте у детей — свои запросы. В 1-3 классах всем хочется конфет в красивых обертках, жвачек затем — разных игровых приставок, дальше — больше (вспомните, кому из нас в 9-10 классе не хотелось иметь джинсы?). Пусть эти всеобщие интересы и не всегда на пользу ребенку (вместо конфет и жвачек, конечно, полезнее фрукты и овощи), но родителям все же следует пойти у него «на поводу». Все эти периоды — жвачек, приставок и т. д. — быстро проходят, а вот чувство обиды за собственную ущербность (у всех есть, а у меня нет), желание обладать чем-то во что бы то ни стало могут привести к тому, что оставит след на всю жизнь — краже.
Некоторые психологи утверждают, что причиной детского воровства может быть легкое отношение родителей к чужому труду (но это уже скорее вопросы психотерапевтов) или к мелким деньгам. Когда в доме постоянно разбросаны рубли и родители не устают повторять, что это не деньги, ребенок вскоре перестает ценить и тысячи. Он полагает, что все так относятся к деньгам, и потому вытащить у кого-то из кармана недостающую ему «мелочь» не считает преступлением...
Воровство в подростковом возрасте (12-16 лет) может быть связано с желанием получить острые ощущения пережить авантюрное приключение, рискнуть.
Так, в литературе приводится пример разговора с трудным подростком Сережей Ф., которого поставили на учет в милицию за совершение целой серии краж. Сережа был «форточником». Открытая форточка служила ему дверью в чужие квартиры. Список украденных им вещей включал военный бинокль, пейджер, плеер, пару кроссовок, газовый пистолет. В общем, нельзя сказать, что Сережа обчищал квартиры.
—Неужели, — удивилась психолог, — все эти мелочи стоят того, чтобы позорить себя, родителей?
—Дело не в вещах, — махнул рукой Сережа
— Тогда в чем?
Он оживился:
— Ну, понимаете, дух захватывает: лезешь — могут поймать, в квартире — хозяева прийти, потом выйти незамеченным — получится или нет?
— В общем, риск, да? — закончил психолог.
— Да! — подтвердил Сережа.
— Шел бы тогда в летчики лучше! — презрительно вставила Леночка, которая случайно услышала разговор.
Сережа опустил голову. Леночка ему очень нравилась.
Через месяц Сережа пошел учиться прыгать с парашютом, а потом поступил в летное училище.
Не стоит думать, что таких любителей приключений, как Сережа, единицы. Что заставляет мальчишек лезть в чужой сад за яблоками, когда в своем — ветки ломаются? Азарт, острые ощущения.
Следовательно, мотивы воровства могут быть самым разными. Прежде чем осуждать, нужно понять причины. Свершившийся факт — еще не вина. Ведь есть случаи, когда подростков силой или хитростью втягивают» порочный круг.
Приятели ловят на «слабо», взрослые запугивают угрозами. Сейчас в школах, как в криминальных кругах есть такое понятие — «поставить на счетчик». Подходит к тринадцатилетнему подростку шестнадцатилетний и говорит: «Ты мне должен тысячу рублей. Не отдашь — каждый день будет капать процент». Таким образом названная сумма неуклонно растет.
«Откуда же я возьму?!» — «У мамы с папой». Если жертва не отдает «долг», ее терроризируют и бьют. С этим явлением в школах бороться крайне сложно, поскольку ни учителя, ни родители ни о чем не подозревают: под страхом смерти жертвам запрещено жаловаться. Попадая в подобную зависимость, ребенок нередко начинает воровать: ему кажется, что, собрав необходимую сумму, он избавится от своих мучителей.
Какая бы беда ни случилась с ребенком, главное — не отворачиваться от него, дать ему шанс остаться Человеком. А если потребуется — дать такой шанс еще раз.
А. С. Макаренко в романе «Педагогическая поэма» рассказывает, как одному из своих воспитанников — прожженному вору и жулику — доверил получить огромную сумму денег за всю колонию. Он намеренно послал мальчишку за деньгами одного. Когда, измученный внутренней борьбой и соблазном тот все-таки принес деньги и попросил их пересчитать, Макаренко ответил: — Зачем!? Я тебе верю. Именно эта вера в своего ребенка, в то, что он хочет и может быть лучше, спасет его, убережет от рокового шага.
6.3. ТИПОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА
К сожалению, различные формы воровства и их возрастные особенности у детей и подростков изучены крайне недостаточно. Однако в последние годы появляются отдельные работы в этом направлении. Большой интерес представляет работа А. Л. Нелидова и Т. Т. Щелиной (2002) по изучению воровства в онтогенезе детей. Оно, по данным авторов, может проявляться в различных вариантах.
Воровство в рамках игровой деятельности (10% обращений). Ребенок берет чужие вещи, смешивая в контексте игры «свои и чужие игрушки»: осознает кражу именно как игру, ее факт легко признает, но может и скрывать, сожалея о необходимости расстаться с полюбившейся игрушкой.
Воровство как следствие недостаточно сформированной этической регуляции поведения и сферы удовольствий (15%). Ребенок берет чужие вещи в связи с отсутствием сформированных этических норм в отношении «чужого»: осознает кражу как норму поведения, доволен ею, апелляцию взрослых к «совести» не понимает; этические регуляторы недостаточны и в других сферах деятельности (дружба, учеба).
Эти два варианта наиболее характерны для детей 2,5 до 6-7 лет.
Воровство как следствие давления на личность асоциальной группы сверстников (5%). Ребенок ворует и для себя, а для группы, которая его подчинила. Особенно опасным данный тип воровства становится при психологическом инфантилизме и подчиняемости ребенка Осознание неэтичности своего поведения и хроническое унижение при необходимости скрывать его формируют внутренний конфликт; внешне он проявляется неврастенией, фобиями и в конечном итоге — депрессией.
Воровство как компенсация фрустрации отдельных значимых потребностей личности ребенка, воспитывающегося в дисфункциональной родительской семье (15%).
Воровство как гиперкомпенсация кризиса прогрессирующей педагогической запущенности (20%). Возникает во 2-3-х классах и в определенной последовательности. Вначале ребенок дает личностную реакцию на неуспехи в учебе, которые связаны с его личной неготовностью к ней, с невротическими, астеническими или резидуальными органическими синдромами (минимальной мозговой дисфункцией). Далее какое-то время ребенок (обычно под нажимом взрослых) пытается компенсировать неуспехи интенсификацией учебной деятельности. В отсутствие адекватной медицинской и психолого-педагогической помощи эта компенсация не дает результата. У родителей развивается непринятие ребенка. У самого ребенка возникают пассивно-оборонительные реакции — уход от учебы, протесты и отказ от нее, затем — неврозы (неврастения, фобии). Мотивация к учебе снижается. Далее процесс идет по механизму механической запущенности.
![]() Воровство как механизм социализации ребенка в
асоциальной среде (5%). Возникает в
случаях преждевременных (до пубертата) реакций группирования, выполняющих для
ребенка функцию активной психологической защиты (совладающего поведения), при
сочетании с прогрессирующей педагогической запущенностью и отвержением со
стороны класса. Ребенок социализируется в
«уличной» группе: включается в ее виды деятельности (вначале это может быть и не воровство), у него появляются
роли в группе, статус и навыки поведения; от
группы он получает защиту от неудач, «новую» систему мотивов и
ценностей, включая оценку себя как значимой личности. Ребенок защищает (ложью)
не только свое воровство, но и всю группу;
глух к морали взрослых, выявляет
«перевернутую» этику (именно удачное воровство — признак успеха). Особенно
тяжелым этот тип воровства становится при готовности самих родителей к воровству
(асоциальная семья).
Воровство как механизм социализации ребенка в
асоциальной среде (5%). Возникает в
случаях преждевременных (до пубертата) реакций группирования, выполняющих для
ребенка функцию активной психологической защиты (совладающего поведения), при
сочетании с прогрессирующей педагогической запущенностью и отвержением со
стороны класса. Ребенок социализируется в
«уличной» группе: включается в ее виды деятельности (вначале это может быть и не воровство), у него появляются
роли в группе, статус и навыки поведения; от
группы он получает защиту от неудач, «новую» систему мотивов и
ценностей, включая оценку себя как значимой личности. Ребенок защищает (ложью)
не только свое воровство, но и всю группу;
глух к морали взрослых, выявляет
«перевернутую» этику (именно удачное воровство — признак успеха). Особенно
тяжелым этот тип воровства становится при готовности самих родителей к воровству
(асоциальная семья).
Воровство как патологическое развитие личности в условиях хронического эмоционального отвержения родителями (25%). Эмоциональное отвержение родителями своего ребенка не позволяет им своевременно распознавать данную форму воровства: Они «спохватываются» когда ребенку 8-11 лет, то есть с опозданием на 3-5 лет когда дети начинают воровать уже крупные суммы и V них появляются признаки будущей аномальной социализации (предвестники уходов из дому или сами уходы утрата мотивации к обучению, группирование в «уличной» компании) и начинается употребление психоактивных веществ (алкоголя, токсических веществ, никотина). На этой стадии воровство как деятельность участвует в формировании патохарактерологического развития личности ребенка (преимущественно мозаичного, но с преобладанием неустойчивого), включаясь в его мотивационную систему.
![]() Воровство в связи с
формирующейся зависимостью от компьютерных игр или игр на игровых автоматах (5% обращений). Начинается с момента формирования у игры качества
сверхценного
Воровство в связи с
формирующейся зависимостью от компьютерных игр или игр на игровых автоматах (5% обращений). Начинается с момента формирования у игры качества
сверхценного
увлечения: вытеснение других хобби, снижение значимости учебы (пока без снижения
успеваемости), изменение круга общения, резкое увеличение времени игр (до
нескольких часов в день), «неодолимое» желание возобновить или продолжить игру
и нежелание ее
завершать. Игра становится самым желаемым и главным
делом жизни, ее смыслом, то есть мотив игры приобретает качество
ведущего и смыслообразующего. Данный вариант воровства возникает в 8-9 лет
при сопротивлении родителей интересу ребенка к компьютерам и отказе от использования
его для развития личности ребенка (в кружках и школах компьютерной
грамотности); воровство бывает осознанным — дети готовы обсуждать его, но при
условии отсутствия критики родителей в адрес увлечений компьютерами.
А. Л. Нелидов и Т. Т. Щелина (2002) не только разработали типологию детского воровства, но и предложили родителям, студентам педагогических специальностей, социальным педагогам и педагогам-психологам рекомендации по профилактике и коррекции раннего девиантного поведения, в том числе и с синдромом воровства.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Перечислите основные мотивы детского воровства в дошкольном возрасте. Приведите примеры.
2. Охарактеризуйте эмоционально-личностные особенности детей-дошкольников 6-7 лет, толкающие их на кражи.
3. Проанализируйте случаи воровства младшими школьниками в семье и вне семьи, укажите их психологические причины.
4. Объясните, каковы психологические причины воровства в подростковом и младшем школьном возрасте.
5. Составьте таблицу типологии детского воровства.
Глава 7
ВОРОВСТВО КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Чаще встречается навязчивое воровство не психического, а невротического характера. Этим синдромом страдают некоторые очень состоятельные люди, представители самых высших слоев общества. Порой крадет какую-то вещицу в магазине человек, который при желании мог бы сию же минуту купить весь этот магазин целиком. Потребность украсть в данном случае связана с постоянно высоким уровнем тревоги и неудовлетворенности. В момент кражи человек испытывает острые ощущения, бурю эмоций, которые затем вызывают чувства эйфории и расслабления. Это вид психологической зависимости, сходный с зависимостью от никотина. Человеку, страдающему такой зависимостью, необходима помощь психолога, который будет работать не с воровством как таковым, а с той тревогой, которая гложет человека, заставляя его совершать кражу. Воровство этого типа может встречаться у детей, переживших психологическую травму, неуверенных в своем нынешнем положении, испытывающих страх перед будущим, имеющих низкую самооценку и не получающих достаточной эмоциональной поддержки (В. Кукк, 2006).
Взрослым необходимо
удовлетворять эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности. А детям
необходимы игрушки, книжки, краски и много чего еще.
Например, секции, кружки, уроки творчества. За все это надо платить деньги.
Не всякие родители способны обеспечить своих детей необходимым. Дети растут, растут их потребности и запросы.
В отдельных странах, например в Италии, Англии, Франции,
дети школьного возраста, если им хочется чего-то сверх необходимого минимума,
подрабатывают, и не потому, что ![]() родители не в состоянии это приобрести, а для того,
чтобы в их сознании укладывалась соразмерность желаний и возможностей. В таком
воспитании своих отпрысков зарубежные коллеги как бы хотят сказать: ты можешь
иметь только то, чему ты соответствуешь своим трудом. Для зависти места не
остается. В Риме, Лондоне и Париже состоятельные семьи в быту живут очень
скромно. Дети знают — хочешь что-то иметь сверх минимума — заработай.
родители не в состоянии это приобрести, а для того,
чтобы в их сознании укладывалась соразмерность желаний и возможностей. В таком
воспитании своих отпрысков зарубежные коллеги как бы хотят сказать: ты можешь
иметь только то, чему ты соответствуешь своим трудом. Для зависти места не
остается. В Риме, Лондоне и Париже состоятельные семьи в быту живут очень
скромно. Дети знают — хочешь что-то иметь сверх минимума — заработай.
В Санкт-Петербурге, Москве и в других городах России среди детей и подростков очень распространена игра «в сравнения»: вот бы такой плеер, как у Стасика, такой мобильный телефон, как у Насти, вот бы такую одежду, как у Эдика, и т. д. А семейный бюджет ограничен. Но когда во главу семейного закона ставится принцип: «желание ребенка превыше всего!» — начинаются проблемы.
Так, Елена, ученица 9 класса закатила родителям истерику по поводу того, что они не смогли ей купить трусики и бюстгальтер от «Бюстье», так как ей стыдно предстать перед кавалером в нижнем белье от московской фирмы. Папа школьницы инженер по образованию, потерявший работу на железной дороге, вынужденный работать дворником, и мама — филолог, лишившаяся работы в связи с сокращением, испытывают чувство вины перед дочерью. Родители, работающие с утра до вечера и воспитывающие еще и вторую дочь 13 лет, понимают, что все время съедается работой, а на дочерей остается слишком мало времени. А потому, выбиваясь из последних сил, дефицит любви пытаются компенсировать различными презентами. Психологи выяснили, что работающая мать способна уделить своему ребенку для полноценного общения только... 12 минут в день.
Вместо желанного удовлетворения жизненной потребности в общении, принятии, в признании, в родительской любви, душевной теплоте детям предлагается какой-то «эрзац любви» в виде покупок, подарков (допинг) (родители пытаются загладить свое чувство вины или откупиться). Но никакие вещи не способны заменить детские эмоциональные потребности, а только создают впечатление «удовлетворения». Быстро формируется зависимость от такого допинга, и дети начинают воровать.
Факторы, способствующие формированию психологической поведенческой зависимости в форме немотививанного воровства, повторяются во множестве эпизодах взросления ребенка, каждый из которых несет в себе определенные смысловые единицы со знаком «плюс» или знаком «минус», другими словами — формируется определенное отношение к самому поступку — краже. Что перевешивает: негативное отношение к этому поступку или моральный допуск, что «это возможно, хотя и нельзя, но очень хочется». Такая поведенческая зависимость в виде немотивированного воровства может сформироваться уже к 12-13 годам, а родители воспринимают эти новые наклонности как «гром среди ясного неба», когда дети начинают у папы, мамы или у дедушки с бабушкой воровать деньги.
Одни дети как будто явного негативного внешнего влияния не имеют. Они растут и воспитываются во внешне благополучных семьях. Но только — внешне. Люди удивляются — откуда взялась такая наклонность: воровать?
Другие дети испытывают на себе прессинг дурной компании, под влиянием которой также формируется такая психологическая поведенческая зависимость, как воровство.
В первой группе «воришек»
внешнее благополучие семьи прикрывает
эмоциональный дефицит чувств и детскую духовную неудовлетворенность. В
жизни ребенка все больше и больше появляется «обезвоживание» — от недостатка
любви, внимания, ласки, признания, принятия.
Они переносят свой «голод по чувствам» на материальный мир и знаки своей
значимости: одежду, вещи, еду (особенно
сладости), игрушки и т. д. Они знают, что воровать — это нехорошо, но
пытаются восполнить дефицит положительных чувств негативным эквивалентом эмоций
(осознание своего проступка порождает чувство вины, обиды, страха перед
наказанием, желание отомстить родителям за
свой «эмоциональный голод» и привлечь внимание к себе). На улицах они не
воруют, когда
бывают в гостях, воровство тоже исключается. Такие дети воруют только у
себя дома,
Случай из практики (В. В.
Кукк, 2006). Галина с мужем в разводе. Одна воспитывает сына 12
лет. Занимается предпринимательством в сфере торговли, и довольно успешно. Имеет
магазин, бар, кафе и несколько киосков. Целыми днями на работе. На званый обед
пригласила партнеров по бизнесу. Сыну было позволено сидеть за общим столом с
гостями, он получил большой кусок торта, который никак не мог осилить,
сын то вставал из-за стола и уходил в свою комнату, то снова возвращался к
сладостям. Когда гости собрались уходить домой, обнаружилась кража кошелька из
дамской сумочки, оставленной в прихожей под зеркалом. Сразу же началось
детективное расследование на месте преступления. Достаточно было одного
взгляда матери, чтобы сын во всем сознался.
К условиям формирования немотивированного воровства можно добавить тот факт, что часто детям не хватает внимания. В психиатрии есть такой термин: «негативный нарциссизм» (ребенок делает все, чтобы получить неминуемое наказание и через это — внимание к себе).
И еще. Когда идут на кражу — все равно ребенок это или взрослый, — всегда есть риск быть пойманным на месте преступления или вскоре после него. Невольно возникает состояние ожидания, тревоги и страха на фоне выделения большого количества адреналина.
Эта смесь эмоций и пика физиологического состояния (выброс адреналина) и составляет основу поведенческой зависимости, к тому же эта зависимость возникает на притяжении диаметрально противоположных эмоциональных зарядов: боязнь быть наказанным за кражу (негатив) — с одной стороны, и подсознательное стремление к риску (позитив) — с другой. И эта смесь адреналина с эмоциями страха, тревоги, ожидания начинает работать как наркотик, создает своего рода «кайф», который хочется испытывать снова и снова.
Эти мотивы обычно не осознаются, но хорошо ощущаются как навязчивое влечение. Авторитарные и директивные методы усиливают тревогу и напряжение, включается парадоксальная реакция, и влечение от этого только усиливается. Поэтому любая борьба, запреты, моральные увещевания только осложняют ситуацию, а следовательно, бесполезны. Вместо этого родителям в отношениях со своим ребенком следует выстраивать здоровую альтернативу отношений:
ü предложить интересные занятия, которыми мог бы увлечься ребенок и в которых могли бы участвовать взрослые (творчество, спорт, общение с природой, фотография, видеосъемка и многое другое);
ü устроить семейный совет, который можно было бы проводить после ужина или после обеда в выходные
дни, где в атмосфере доверительности и уважения
![]() обсуждать все события семьи, заботы и
трудности, успехи и разочарования детей и взрослых, где каждый в равной степени
любим и значим;
обсуждать все события семьи, заботы и
трудности, успехи и разочарования детей и взрослых, где каждый в равной степени
любим и значим;
ü взять за правило обсуждать текущие дела сына или дочери во время каждодневной получасовой прогулки, где можно высказывать свои мысли и чувства с глазу на глаз и говорить по душам;
ü попытаться стать другом для своего ребенка, интересоваться его тревогами, сомнениями, беспокойством. Стараться ему помочь справиться с этими чувствами;
ü настроиться на совместный поиск решения какой-либо проблемы, набраться терпения в выстраивании партнерских отношений. Ребенок не объект воспитания, а развивающаяся личность, мнение которой нужно учитывать и в равной мере уважать;
ü научиться строить доверительные отношения, где всегда бы оставалось место для понимания точки зрения друг друга. В обсуждениях отдавать предпочтение открытым диалогам, хотя это труднее сделать. Родители отдают предпочтения нотациям, монологам-нравоучениям, так как «движение в одну сторону» проводить всегда легче, но оно дает противоположный результат.
Когда воспитателем подростка становится улица, компания сверстников, то легче всего свою ответственность сваливать на друзей, на плохую компанию: «Меня заставили своровать...». Даже в такой ситуации причину дует искать в себе и в семье, конечно. Не каждый же подросток идет на поводу чьего-то дурного влияния. Первоначально роль «жертвы», безотказность формирует в ребенке семья. Именно из этих семян потом прорастают ростки зависимости от компании, ростки воровства как формы поведенческой зависимости.
Важным является следующий момент: какие формы самоутверждения выбирает подросток?
Приведем пример двух братьев — они «погодки» (В. В. Кукк, 2006).
![]() Старший самоутверждался через футбольный клуб, через
тренировки, через достижения своей футбольной команды, через ограничения (может
быть, он пропустил несколько «блок-бастеров», несколько дискотек, один концерт
и другое), но он добился своего, его команда добилась титула чемпиона и вышла
по итогам года победителем.
Старший самоутверждался через футбольный клуб, через
тренировки, через достижения своей футбольной команды, через ограничения (может
быть, он пропустил несколько «блок-бастеров», несколько дискотек, один концерт
и другое), но он добился своего, его команда добилась титула чемпиона и вышла
по итогам года победителем.
Младший для самоутверждения связался с компанией и для того, чтобы его приняли, он должен был совершит карманную кражу на виду у своих новых приятелей. Он долго готовился к такой инициации, тренировал движения, «ловкость рук», пытался изжить чувство страха. И день «экзамена» настал - всей компанией зашли в заднюю дверь автобуса «экзаменуемый» прошел через весь салон автобуса к передней двери, по пути «освободил» чью-то дамскую сумочку от кошелька и подал условный знак: «Выходим!» Экзамен сдал блестяще!
Практические советы психолога родителям этой семьи:
ü Пересмотреть свои жизненные приоритеты. Объяснить, что такое настоящая дружба, какие формы самоутверждения созидательны и какие являются саморазрушающими.
ü Терпеливо и последовательно беседовать с ребенком о том, что настоящих друзей в жизни не так уж и много: «А тот, кто желает тебе зла и подводит тебя под уголовное преступление, не может называться твоим другом».
ü Начать вместе изучать интересную книгу под названием «Уголовный кодекс», а потом пусть сын (или дочь) почитают его сами, это полезно не только для общего развития.
ü Включиться вместе с ребенком в поиск новых друзей, новых развлечений (самореализация себя через творчество, через преодоление себя в спорте). Пусть он реализуется, откроет в себе новые таланты, пойдет в спортивную секцию, в творческую студию, кружок по интересам.
ü Постараться защитить своего ребенка, если со стороны компании, с которой прерваны отношения, продолжаются вымогательство, шантаж, рэкет, угрозы избиения и т. д. В этом случае следует обратиться в правоохранительные органы.
Еще один случай из практики психолога.
Семья была в растерянности, стали пропадать вещи. В голову не приходили версии, объясняющие это явление. Взрослые, сбитые с толку, были просто обескуражены. А когда из кошелька мамы пропала купюра в 100 долларов, вся семья экстренно собралась за круглым столом. Елена 13 лет, тихая, спокойная, держалась долго, а потом в напряженной тишине ее как прорвало на поток слез. Рыдала навзрыд. Взрослые долго не могли ее успокоить. А когда поток слез прекратился, над столом завис вопрос: «Зачем ты это сделала?»
Поступок
Елены, никак не соответствовал укладу семьи. Семья небогатая, но все необходимое
было, тем более потребности дочери удовлетворялись полностью и даже сверх
того. Елене всегда покупали такие игрушки, какие она хотела. В одежде тоже
был свободный выбор. Этот поступок озадачил всех: что же Елена покупала на
ворованные деньги? Снова водопад слез. Теперь уже нужно было больше времени,
чтобы эмоциональная стихия девочки успокоилась. Выяснилось, что Елена на все
украденные
деньги покупала сладости (конфеты, шоколадки, чупа-чупсы, жвачки) и ими
одаривала чуть ли не половину класса. Как пояснила Елена: «Чтобы со мной дружили».
В случаях немотивированного воровства причины всегда запрятаны глубоко в подсознании ребенка. Стали разбираться. Елена в новом классе (уже год, как она училась в новой школе) выделялась своей робостью, и вместе с этим ее ответы на уроках были точными и всегда на «отлично», а домашние задания выполнялись аккуратно и с большим старанием. Этого было достаточно, чтобы одноклассницы невзлюбили ее. Чтобы сделать из Елены «Чучело», девчонки старались подобрать кличку-ярлык, да пообиднее. Свое пренебрежение показывали во всем: в ухмылках, в ужимках, в интонации голоса, в постоянном бросании бумажек в ее сторону. Мальчика, который пытался защитить Елену и осмелился сесть за одну парту с ней, одноклассники подвергли к еще более жестокому остракизму.
Елена обращалась к родителям по поводу нездоровых отношений в классе. Папа Елены тогда отмахнулся: «Терпи, с новенькими всегда такие проблемы». Долго расспрашивать дочь не стал, куда-то торопился. Мама вообще не нашла времени, чтобы выслушать дочь до конца.
Елена по-своему стала «решать» свою проблему: задаривала сладостями полкласса, чтобы задобрить ребят и добиться снисхождения. Не сознательно, конечно. Деньги брала украдкой, сама себя оправдывая: «Я ведь не для себя». Маленькие суммы, вытащенные из кошелька, мама не замечала, первый раз было страшно, второй — не очень, третий...— даже не задумывалась. Одноклассницы поедали сладости, на короткое время меняли на милость — но только на короткое время, — и откровенно смеялись над Еленой. Травля продолжалась. Родители и Елена достойно вышли из этой ситуации, они не стали обвинять друг друга, вместо этого смогли спокойно по душам поговорить. Теперь всегда находилось время выслушать друг друга. Смогла подружиться с одноклассником, который пытался защитить Елену. И вместе с классным руководителем и другими родителями (была тема для родительского собрания) удалось обстановку в классе оздоровить. Итак, существует много причин воровства как формы психологической поведенческой зависимости, а также комбинаций этих причин. Каждый случай — особый. И с каждым из них нужно очень деликатно разбираться.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните процесс формирования психологической поведенческой зависимости в форме воровства.
2. Перечислите причины немотивированного воровства в детском и подростком возрасте.
3. Приведите примеры немотивированного воровства как формы психологической поведенческой зависимости
Глава 8
КЛЕПТОМАНИЯ КАК ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА ВОРОВСТВА
Опасный симптом, если ребенок берет все, что плохо лежит. Часто он не помнит, когда и у кого взял вещь; не может объяснить, для чего. Он берет даже то, что ему совсем не нужно, тут же бросает или теряет украденное. Он ворует потому, что не может не воровать.
Эта болезнь называется клептоманией. И определяется она как «периодически внезапно возникающее влечение к хищению вещей». Здесь бесполезны воспитательные меры, нужно срочно обращаться к психиатру.
Когда родители оставляют это без внимания или пробуют «лечить» недуг сами, болезнь заходит слишком далеко. Многие дети, страдающие клептоманией, со временем оказываются в тюрьмах.
Следовательно, клептомания, которой часто боятся люди, готовящиеся взять в семью ребенка, — это не особенность детей из неблагополучных семей, а психическое расстройство, болезнь, которая никак не связана с социальным положением человека. Клептомания проявляется навязчивым воровством, причем человек ворует не ради получения ценностей, а ради самого процесса.
Часто клептоман искренне пытается отказаться от привычки воровать, но не может справиться с собой» иногда он просто не помнит, как все происходило, и конечно не прилагает больших усилии, чтобы «замести следы»
По американской статистике, клептомания выявляется менее чем у 5% арестованных воров, да и тогда ее трудно отграничить от симуляции. Несколько чаще она встречается у женщин, хотя это может быть связанно с более частым воровством среди них. Клептомания часто проявляется в моменты сильных стрессов, например потери близкого человека, развода, разрыва важных связей. При дифференциальной диагностике с другими формами воровства важно обратить внимание на то, имело ли оно место после неудачной попытки воспротивиться импульсу, было ли единичным действием, представляют ли какую-то ценность украденные вещи и насколько они необходимы субъекту в данный момент.
Поскольку клептомания встречается редко, о ее лечении известно из описания отдельных случаев и небольших групп больных. Психотерапия, направленная на восстановление критики, и психоанализ эффективны, но зависят от мотивации больного.
В какой-то период о клептомании говорили и писали очень много. Сейчас это слово чаще употребляется в обиходе, чем в медицине. Возможно, потому, что психиатры так и не смогли договориться о природе этого нарушения.
Так, М. И. Буянов рассматривает клептоманию как одну из форм нарушения влечений. Кроме того, он говорит о существовании некой «предрасположенности к воровству» (на генетическом уровне), описывая случай с мальчиком, отец которого был профессиональным вором. Мальчик никогда не видел отца, тем не менее с раннего детства был замечен в склонности к воровству которой впоследствии с трудом удалось справиться Впрочем, Буянов считает, что случаи истинной клептомании очень редки и обычно этим словом оправдывают обычное воровство.
В. Я. Гиндикин, как и М. И. Буянов, рассматривает клептоманию как редкую форму нарушения влечений. Он связывает ее с наличием психопатии или психопатоподобного состояния.
В. В. Ковалев (1995) не употребляет термин «клептомания», а говорит о «привычном воровстве» как форме активной реакции протеста, которая стала привычкой. Он пишет, что позывы к воровству «ввиду относительной легкости фиксации различных форм реагирования в детском возрасте... могут закрепляться и постепенно приобретать характер истинных расстройств влечений».
Таким образом, сам факт существования истинной клептомании остается под вопросом. Неясны порождающие ее факторы и прогноз. Тем не менее нелепое, странное, необъяснимое воровство, накатывающее периодически на вполне, казалось бы, благополучных детей, продолжает существовать. Родители, да и сами дети, приходят в отчаяние от невозможности справиться с ситуацией. Можно ли им чем-то помочь?
Прежде всего, необходимо проанализировать известные случаи.
Мальчик, укравший пенал у одноклассника, был уличен мамой и был за это наказан. Мама была в отчаянии от этой кражи, поскольку знала, что это не первый и не последний такой случай, и чувствовала себя совершенно беспомощной. Если эта кража раскроется, сын станет изгоем в классе — ни дети, ни их родители не простят ему воровство. Ей было невыносимо стыдно за сына, и она чувствовала себя плохой матерью. Все эти чувства она попыталась передать своему ребенку.
Она говорила сыну о том, как ужасно чувствует себя мальчик, у которого пропал пенал, как ругают его родители. Она говорила о том, что может случиться, если родители мальчика устроят настоящий розыск. Как сына уличат в воровстве перед всем классом и как ребята перестанут дружить с ним, не будут приглашать его к себе домой, будут показывать на него пальцем общим знакомым и предупреждать их: «Ты с ним не дружи, он вор». Она объявила ему, что завтра же он должен отдать пенал тому, у кого он его взял, и извиниться, иначе она сама вынуждена будет сделать это перед всем классом. Мальчик как будто вполне прочувствовал сказанное. Он сильно плакал, говорил, что не сможет пойти завтра в школу, поскольку ему очень стыдно. Но он поклялся, что все-таки пойдет и отдаст украденную вещь. Он плохо спал ночью: вертелся и вскрикивал...
Через день он украл у своего двоюродного брата сломанный перочинный нож. Описывая свои чувства в момент совершения кражи, дети говорят, что не могли не украсть, их как будто что-то потянуло.
Подобные кражи ставят родителей в тупик и приводят их в отчаяние, поскольку обычные воспитательные меры оказываются в этих случаях малоэффективным. Такие случаи воровства называют клептоманией.
Еще один пример детской клептомании (А. Протопопов, 2006).
К психологу обратилась мать по поводу клептомании ее девятилетнего сына Сергея.
Первые слабые признаки этого явления были ею замечены приблизительно за полгода до случая приведшего ее к психологу, что по времени практически совпадало с возникновением у мальчика проблем с успеваемостью по одному из предметов. Разумеется, это совпадение по времени могло быть чисто случайным, однако психолог принял это во внимание, тем более что неуспеваемость вызвала определенное обострение его отношений с преподавателем этого предмета, который был к тому же классным руководителем. Каких-либо заметных событий в семье в этот период не было отмечено.
Мать постаралась тотчас же объяснить сыну недопустимость такого поведения, но «найденные» ручки, карандаши и прочие безделушки продолжали время от времени появляться в доме. Примерно за два месяца до обращения к психологу клептомания Сережи была замечена в школе, где он учился, что вызвало резкое ухудшение отношения к нему со стороны учеников и учителей. Однако вопреки бурному осуждению и усилившемуся контролю, клептомания Сережи после этого еще более обострилась. Это, соответственно, вызвал лавинообразное обострение отношений в школе.
Продолжать обучение в этой школе стало невозможным.
Разговоры матери с классным руководителем ничего не дали, кроме повторения уже много раз слышанных ею обвинений в адрес Сережи. В воздухе витала идея сменить школу, однако уверенности в том, что в новой школе не начнется то же самое, не было.
Для того чтобы обрести такую уверенность, требовалось осмысление ситуации, на основании которого можно было бы строить прогнозы и вырабатывать практические рекомендации.
Первое, что сделал психолог, — убедился в том, что это была действительно инстинктивная клептомания, а не осознанное воровство.
Характер и ценность украденных предметов говорили о сугубой инстинктивности такого поведения — среди украденного никаких ценных предметов не было. Карандаши, ручки, блокнотики, значки, яркие безделушки и тому подобное. Никакого рационального смысла в краже всего этого не могло быть, поскольку всем этим мальчик был обеспечен в достатке, к тому же он хорошо понимал, что этим еще более обостряет свои отношения в школе, и не хотел этого обострения. Однако остановиться он не мог. Объяснить мотивы своих поступков тоже не мог. Нашел, и все. Если же ситуация была такова, что оправдание «нашел» никак не подходило, то он просто ничего не мог сказать и, скорее всего, — искренне. Что лишний раз говорит об инстинктивности мотивировки таких действий.
Хорошо известно, что инстинктивная клептомания возникает у некоторых людей как реакция на низко? положение в групповой иерархии и является биологически защитной реакцией на ограниченный доступ к ресурсам, в естественных условиях практически неизбежный для низкоранговых членов группы. Особенно вероятна клептомания в случае, если низкое положение в иерархии сочетается с высокими иерархическими амбициями-другими словами, если ранговый потенциал этого человека сильно «недореализован».
Классическая психология склонна объяснять такие явления подсознательным протестом против плохого отношения окружающих к данному человеку, однако если бы это был именно протест, то, скорее всего, он проявлялся бы в форме разного рода «пакостничества», которого в данном случае не было. Кроме того, в случае протестных мотиваций отличались бы и нюансы реагирования — оно было бы гораздо более адресным, кроме того, возникало бы в несколько других условиях.
Реакцией на сильную недореализацию потенциала может быть не только клептомания, но и более опасные явления, такие как склонность к тирании и маниакальным действиям. Например, сильно недореализованный потенциал был в детстве у Наполеона. Следует подчеркнуть, что клептомания, как и другие явления этого генезиса, возникает вовсе не как реакция на «плохую жизнь». Человек может быть сыт, одет, обеспечен, иметь прекрасные, теплые отношения в семье, но если в значимой для него группе он занимает низкий ранг, то у него могут развиться описанные поведенческие реакции.
Учитывая повышенную инстинктивность поведения Сережи, низкий статус его в классе, а также то, что клептомания усиливалась: от слабо выраженной в ответ на критику учителем его неуспеваемости, до очень сильной в ответ на открытую его травлю, можно считать, что гипотеза о клептомании Сережи как реакции на низкое положение в групповой иерархии получала вполне убедительное подтверждение. Отсюда естественно вытекала рекомендация — так или иначе добиться повышения иерархического ранга Сережи в школе. Однако подняться в иерархической пирамиде с самого дна, тем более так четко обозначенного, да при таких особенностях характера Сережи, было совершенно нереально. Можно было говорить о реальных шансах занять не очень низкий ранг лишь при вхождении в иерархию в новой группе, которой текущий ранг Сережи был неизвестен.
Таким образом, школу нужно было обязательно менять, и срочно.
К счастью, школу удалось найти и получить согласие администрации на переход туда Сережи. Сережа был принят учениками и учителями вполне нормально, никаких признаков травли и унижений не наблюдается до сих пор, клептомания тоже не возобновляется. Учитывая, что с момента описываемых событий прошло уже более двух лет, можно полагать, что произведенный анализ и данные рекомендации были правильными.
Еще одна история из реальной жизни (Т. А. Попова, 2006).
Мама и папа, кипящие от возмущения, гнев недоумения и боли, привели на прием к психотерапевту двенадцатилетнюю девочку. «Объяснит нам, с ней все в порядке, она нормальная?!» Поел нескольких долгих и томительных минут они смогли рассказать, что же случилось. «Мы были я гостях у друзей, с которыми дружим уже много лет. После вечеринки друзья пошли нас провожать В это время Аня стала хвастать новыми украшениями. На вопросы о том, откуда они у нее, говорила, что подарила одноклассница. Как оказалось потом, эти украшения она украла у дочери друзей. Мы не знаем, как теперь смотреть в глаза этим людям, а ей хоть бы что. Конечно, на следующий день папа пошел с ней возвращать украденное. Мы ожидали, мы очень надеялись, что это станет для нее тяжелым испытанием, уроком на всю жизнь! ... Но, понимаете, она не раскаивается, она ведет себя так, как будто ничего не случилось... Уже на обратной дороге, после того как вернули украшения, Аня пыталась беззаботно заговаривать с папой о каких-то пустяках, и, вообще, было видно, что ей не стыдно, что она не понимает, что сделала что-то ужасное. Мы просто потерялись после всего этого. Мы не знаем, как это понять и объяснить. Ведь она была всегда такой хорошей девочкой».
Все это рассказывала мама, возбужденная, возмущенная, переполненная гневом и стыдом. Папа в это время сидел, скорбно уставившись взглядов в одну точку. Было видно, что оба они страдают, потрясены тем, что сделала их дочь. Дочь всегда была предметом их гордости и источником, питавшим их самолюбие. Девочка очень рано стала опережать в развитии своих сверстников, почти круглая отличница, она была очень начитана и имела широкий кругозор. Могла свободно поддерживать беседу практически на любую тему. Очень хорошенькая и живая во всех своих проявлениях, она легко вызывала симпатию у собеседника. Вот только друзей среди сверстников у нее не было. И поделиться своими проблемами ей было не с кем: родители ждали от нее только сногсшибательных успехов. Очень сильное впечатление производил взгляд ее черных глубоких глаз: проникновенный и недетский, временами просто завораживающий.
Мама продолжала: «Я понимаю, все дети воруют. И мы в детстве таскали яблоки из соседских садов. Но если бы я оказалась сейчас на ее месте, да я бы от стыда сгорела, я бы... не знаю... а ей хоть бы хны... как так можно?! Я уже не знаю, нормальная она или нет. Скажите, почему она себя так ведет?»
Дальше стал рассказывать папа: «Вы знаете, ведь у нее есть одна странность...» Он сделал паузу, встал и начал медленно расхаживать по кабинету: «Да, одна странность... Аня разговаривает со своими фантазиями... в любом месте... в любое время... Это пугает...»
Можно привести множество примеров, когда ребенок ворует и родители ничего не могут с этим поделать. Практика показывает, что это очень разные дети из разных семей, но их объединяет общая проблема: эти дети воруют. Делают очень больно своим родителям, но и сами страдают, не всегда они осознают глубину своих страданий, но так уж устроена психика вообще и детская психика в частности: изгонять из сознания то, что слишком болезненно и невыносимо.
Болезнь ли так называемая клептомания (некоторые специалисты отказываются от этого термина)? Это не поддающееся контролю систематическое воровство без материальной выгоды для себя. Это действительно психическое расстройство, и его должен лечить психиатр.
Чаще наблюдаются два крайних варианта детской клептомании:
ü случаи, когда стремление взять чужое и воровство присутствует в жизни ребенка очень редко, незначительно и проходит как бы само собой;
ü случаи, когда дети воруют «регулярно», несмотря на наказания и меры воздействия со стороны родителей.
В чем же различие между этими детьми? Конечно, мы должны учитывать, как родители воспитывают этих детей, в каком окружении они растут и т. п., но основная отгадка лежит внутри каждого конкретного ребенка.
В психике ворующих детей как будто чего-то не хватает, в их внутреннем мире как будто отсутствуют важные, жизненно необходимые части. Попробуем разобраться, что это такое.
Бывают случаи, когда ребенок, поддавшись искушению, украл что-то однажды, был разоблачен, испытал мощное потрясение и больше никогда этого не повторяет.
Как правило, это дети, у которых в целом хорошо сформированы нормы социального поведения, есть четкое собственное понимание того, что такое «хорошо», а что такое «плохо», и такие дети в большей или меньшей степени способны посмотреть на себя глазами другого человека (предпосылки анализа собственного поведения). Также они имеют способность (или предпосылки этой способности) контролировать свои импульсы, то есть сильные позывы к каким-либо действиям. В норме все это ребенок приобретает к 3-4 годам. Нужно помнить, что, чем младше ребенок, тем больше вероятность частичной утраты этих качеств в периоды сильных стрессов. Чем более патологична или неадекватна среда, в которой развивается ребенок, тем больше вероятность того, что эти качества либо не сформируются, либо будут неустойчивыми.
Эти обстоятельства дают широкий спектр вариантов детского воровства: от крайнего варианта, когда дети воруют очень редко, по мелочам и не в любой ситуации (чаще всего «за компанию»), — и тогда есть вероятность, что при благоприятных обстоятельствах это явление исчезнет, до крайнего варианта, когда дети, несмотря ни на что, воруют часто, много и в разнообразных ситуациях, — тогда можно ожидать, что такие дети станут асоциальными подростками, асоциальными взрослыми, склонными к совершению правонарушений.
В различных статьях психологов можно встретить целые списки «причин, по которым дети крадут: стремление получить внимание и заботу, месть родителям, обида, зависть, неспособность различать «мое» и «не мое» т. п. На самом деле не может быть единственной причины детского воровства, это всегда сочетание в различны «пропорциях» недостаточно самостоятельного контроля или недостаточно сформированных внутренних норм социально приемлемого поведения, недостаточность или отсутствие собственных моральных критериев («что хорошо и что плохо?»), слабо развитая способность анализировать свое поведение, думать о своем поведении (смотреть на себя глазами другого). Компоненты этого внутрипсихического «коктейля» формируются на определенном этапе возрастного развития. И важно помнить, что, упустив момент их формирования, родителям невозможно без помощи грамотного специалиста восстановить или сформировать их заново.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Дайте определение болезни «клептомания».
2. Объясните причины клептомании и результаты ее лечения.
3. Приведите примеры клептомании.
4. Изложите основные особенности детской клептомании.
Глава 9
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ВОРОВСТВА
Как мы уже отмечали выше, детские воровство и ложь относятся к так называемым «стыдным» проблемам. Родителям чаще всего неловко говорить на эту тему, им нелегко признаться психологу, что их ребенок совершил «ужасный» проступок — украл деньги или присвоил чужую вещь. Тем более они не хотели бы, чтобы об этом узнали в детском коллективе. В связи с этим, коррекционные занятия следует проводить в основном индивидуально.
9.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Коррекционная работа должна быть направлена на то, чтобы помочь ребенку сформировать такие черты личности, которые помогут ему воздержаться от кражи или обмана. Эти черты должны быть прямо противоположными тем, что побуждают его к совершению проступка. Воровать и лгать не будут дети, благополучные в эмоциональном плане, у которых в достаточной степени развиты воля и нравственные представления, кто умеет сдерживать свои желания.
Это можно считать целью и задачами проводимой коррекционной работы, а также объяснением выбора средств и методов коррекционного воздействия.
Считается, что воровство в детском возрасте (если это не психическое заболевание) — это несозревание социально-моральных норм, неразграничение понятий «свое—чужое». Чтобы восстановить у детей представления о честности и правдивости, необходимо использовать любые социально-культурные подходы, которые покажут, что воровать — нечестно. Нами разработаны специальные опросники, с помощью которых дети обучаются правильному поведению. Это групповые занятия, нацеленные на разграничение понятий «свое — чужое».
У детей также отсутствуют представления о последствиях воровства. Они не знают, что воровство заканчивается наказанием. Конечный результат для них — в самом акте воровства. Чтобы «излечить» от него, психолог просит ребенка, например, нарисовать себя в тюрьме. Спрашивает, что он там будет испытывать. Один мальчик написал: «Я буду худым, не будет солнца, плохая еда».
Психически больной ребенок часто ворует, сам не зная для чего, и, сообщая об этом, как прежде, продолжает воровать. Его практически невозможно остановить ничем. Запреты или наказания — бездейственны. Помочь способен только специалист. Но если специалист считает, что ребенок вполне нормален, а он все время продолжает красть, причем все без разбора, что сумеет, — следует задуматься, не подает ли он таким путем сигналы о том, что ему в жизни многого недостает, но больше всего нежности и ласки, в которых он испытывает подлинный, не мнимый дефицит, особенно в неполных семьях. (А. И. Баркан, 1996).
Бессмысленно вести разговор о проблеме детского воровства, не связав его напрямую с формированием строгих, даже непреложных запретов — табу. Сейчас эта задача существенно усложнилась. Как ни странно, одним из препятствий стал рационализм, вошедший сейчас в моду сильно отразившийся на принципах воспитания. Считается, что детям, даже малолетним, все надо объяснять. Мы думаем, что это заблуждение, как, впрочем, и любой «перегиб». Да, конечно, многое надо объяснять, но есть вещи, которые объяснять не стоит и даже вредно, ибо это может расшатать «гранитные берега» основ человеческой этики. Например, как рационально объяснить, почему нельзя совершать убийство? Грех? А вы докажите! Кто это сказал? Бог? А вы докажите, что Он есть.
Заповеди в этом смысле иррациональны, то есть неподвластны человеческому разуму, не находятся в поле его выбора.
«Не укради» — это заповедь. И выбора здесь нет. Нельзя — и все!
Понятно, что в нашей сегодняшней ситуации не очень: то легко воспитывать честность. И именно поэтому теперь на это надо обращать гораздо больше внимания, чем раньше. Родители, как правило, это понимают. Они не понимают другого: как в условиях «размытых берегов» основ человеческой этики с этим справиться?
Безусловно, детское воровство — явление неприятное, «о вряд ли смертельное. Многие из вполне благополучных сегодня взрослых наверняка вспомнят хотя бы один Подобный эпизод из собственного детства.
На вопрос: «Как избежать детского воровства?» не ответишь: «Возьмите ручку, записывайте рецепт». Но очевидно одно: ни запрет, ни страх наказания, ни что-то другое вовсе не уберегут ребенка. Его остановит только глубокое внутреннее чувство — стыд. Нельзя представить себе: «Стыдно, но ворую», потому что стыд — это нежелание души мириться с плохим поступком или отказ от его совершения.
— Мамочка, я сегодня учительницу обманула — ты только не говори никому!
Вот повод привить немножко стыда.
Одна мама ответит: — Да ладно! Учительница же все равно ничего не узнает.
И девочка станет хитрой.
Другая мама закричит: — Как ты могла?! Бессовестная, бесстыжая! И девочка замкнется, усвоив: делиться с мамой опасно.
А третья мама расстроится, поговорит с дочерью спокойно, исповедь ее выслушает. И девочка начнет многое понимать...
Из таких повседневных «мелочей», взглядов и фраз складывается постепенно у ребенка нравственная шкала ценностей. Если для взрослых главное — деньги, квартиры, дачи и для достижения этого все средства хороши, им никогда не обмануть своих детей. Они быстро поймут мамину «правду» и начнут следовать ей в собственной жизни.
Психологи единодушны во мнении, что тенденция к воровству у детей не излечивается с помощью наказания. Это верно, что общество учит уважать законы, прибегая к суровым мерам. Но так же верно, что ни одна из них не применима к ребенку дошкольного возраста. Согласно закону, он еще не способен отвечать за свои поступки. И родители поступят правильно, если займут такую же позицию и будут считать проявления воровства у ребенка поступком безответственным. Воровство «излечивается» не только внушением и оценкой поведения малыша. Важно еще так повести разговор, чтобы он захотел вас понять и согласился с вашим мнением.
Воровство — относительно редкое явление среди маленьких детей, но оно составляет проблемы хотя бы потому, что ребенок еще не имеет никакого понятия о собственности. Он знает разницу между «иметь» и «не иметь», у него есть желания, он может испытывать зависть, но малыш еще не настолько независим, чтобы прийти к агрессивному самоутверждению, которое лежит в основе воровства. Подобное стремление может возникнуть в том случае, если среда, в которой он растет, освобождает его от авторитета родителей и вынуждает нарушить право чьей-то собственности. Так обычно случается в семьях, где живут в скученности и тесноте, где родители не интересуются детьми, бросая их на произвол судьбы, а у старших детей есть немало дурных привычек, каким и подражают малыши.
Что делают родители, когда узнают, что ребенок ворует? Прежде всего, стараются понять, ворует ли он всерьез или невинно уходит с чужими вещами в кармане. Это разные вещи. Совершив кражу, ребенок намеренно скрывает это от других, сознавая, что сделал что-то дурное, нарушил право собственности. Когда же, напротив, Речь идет о невинном присвоении (хотя и заслуживающем порицания), достаточно обратиться к сознанию малыша и разъяснить ему общепринятые правила. А если такое разъяснение ни к чему не приведет, родители должны задуматься о причинах плохого поступка. Обычно речь идет о серьезной неудовлетворенности ребенка, о ег0 протесте и враждебности по отношению к авторитетам и, несмотря на независимость, с которой он бросает им вызов, это свидетельствует о неспособности контролировать свои порывы. Ясно, что наказание лишь поддержит в ребенке все эти чувства. В то же время, если постараться ободрить его, помочь ему понять и принять общество в котором он живет, и его образ жизни, то ребенок сможет избавиться от чувства враждебности и развить самоконтроль.
И все же мы должны рассматривать воровство как один из симптомов самоутверждения ребенка в жизни. Однако точно так же, как мы не упрекаем его за то, что у него поднялась температура, мы не должны наказывать его и за кражу. Возвратим владельцу то, что он унес, постараемся выяснить, чего ребенку недостает дома, и попытаемся сделать все возможное, чтобы дать ему то, чего ему не хватает. Очень важно, чтобы между родителями и детьми сложились добрые отношения. Только тогда удастся внушить ребенку представление об истинной порядочности и честности. Есть люди, которые считают, будто у каждого бывает желание украсть. Возможно, именно поэтому родители так остро реагируют на такое пристрастие у своих детей,— они открыто делают то, о чем взрослые могут думать лишь тайком. Если родители признают, что между ними и детьми не такая уж большая разница, они скорее поймут своих детей и быстрее установят с ними ясные и простые отношения.
Жалобы на детское воровство весьма распространены. И это первое, что нужно объяснить родителям (А. А. Венгер 2001). Обычно они считают, что столкнулись с редким и оттого особо тяжелым отклонением в детском развитии. Это представление вызвано тем, что рассказывать о воровстве собственного ребенка не принято, а следовательно, родителям не приходилось слышать об этом от своих знакомых. Чтобы они это осознали, полезно выяснить у них: «А вы сами рассказали своим знакомым о том, что ваш сын ворует? Нет? Вот видите, и они вам не рассказывают».
Многие жалобы на детское воровство просто неадекватны. Так, если подобная жалоба относится к дошкольнику, то ее правильная формулировка должна быть следующей: «Ребенок берет вещи без спроса» (или «Берет вещи, которые ему запретили брать»). Дело в том, что под воровством принято понимать сознательное нарушение соответствующей моральной нормы, тогда как дошкольники еще вообще не владеют моральными нормами. Относиться к «воровству» дошкольника следует так же, как и к любым другим его проступкам; этот проступок ничуть не более серьезен, чем любое баловство.
Чем бы ни были вызваны кражи и в каком бы возрасте они ни совершались, родителей надо предостеречь от обвинений типа «ты вор» или «из тебя вырастет вор» и т. п. Вообще, желательно отказаться от использования слов «вор», «воровство», «кража» и использовать более Мягкие выражения: «брать чужое», «взять то, что тебе не принадлежит» и т. п. Иначе у ребенка может сложиться негативная самооценка, которая будет побуждать его к дальнейшим правонарушениям («Раз я все равно уже вор, то я и дальше буду воровать»).
Другой аспект поведения родителей должен быть напрев, лен на предотвращение использования украденных денег или вещей и получения от этого удовольствия. Например если ребенок вытащил у мамы из кошелька деньги и успел их потратить, то надо отменить ближайшее запланированное развлечение или предполагавшуюся покупку желанной вещи: предназначенные для этого деньги уже потрачены. Если пропажа обнаружилась вовремя и деньги были возвращены, то отменять развлечение или покупку не нужно, достаточно их на некоторое время отложить.
Если дома появляются вещи неизвестного происхождения, которые ребенок, по его словам, «нашел», то не надо устраивать разбирательств, выясняя, не украдены ли они у кого-либо. Однако в любом случае следует запретить какое бы то ни было использование таких вещей (даже если они действительно найдены). Если неизвестно, кто владелец этой вещи и кому она должна быть возвращена, то родители могут забрать ее себе, выбросить или кому-нибудь подарить (но не позволять, чтобы ее дарил ребенок: это может стать для него слишком привлекательным).
Для подростков кражи иногда служат средством получения денег на наркотики. Поэтому при наличии жалобы на кражи рекомендуется в процессе обследования проверить, нет ли каких-либо указаний на то, что подросток употребляет наркотики (косвенными показателями служат выраженная антисоциальная тематика, признаки нарушения влечений, ярко выраженные эмоциональные нарушения).
Следует затронуть еще один немаловажный момент, связанный с проблемой воровства (М. Кравцова, 2001).
Воровство — это такое явление нашей жизни, с которым ребенку рано или поздно придется столкнуться, как бы взрослые ни старались оградить его от подобных неприятностей. Либо его обсчитают в магазине, либо стащат что-нибудь из кармана, либо позовут в соседский сад за яблоками. И каждый родитель должен быть готов к вопросу: «Почему этого делать нельзя? Почему другие так делают — и ничего?»
Став жертвой воришек впервые, малыш может очень болезненно переживать это. Он будет считать себя виноватым в том, что случилось, ему будет очень неприятно, даже противно (многие обворованные люди говорили о чувстве брезгливости как основной реакции на то, что с ними произошло).
Ребенок может даже перестать доверять людям, во всех незнакомцах ему будут мерещиться воры. Он может захотеть отплатить окружающим тем же, для него это станет своеобразной местью.
Поэтому необходимо обсудить в семье проблему воровства, выразить свое отношение к этому, научить детей оберегать свое имущество.
Ребенка необходимо учить не только уважению чужой собственности, но и бдительности. Он должен знать, что не все люди считают чужое неприкосновенным.
Причины или соображения, которые заставляют ребенка воздержаться от кражи, по всей вероятности, должны быть прямо противоположными тем, что побуждает его к ней. Воровать не будут, во-первых, те дети, у которых в достаточной степени развиты воля и нравственные представления. Во-вторых, те, кто умеет сдерживать свои желания. В-третьих, эмоционально благополучные дети.
Очень часто можно услышать мнение, что большинство людей удерживаются от правонарушений (в том числе и воровства) только из-за страха перед неизбежным наказанием. Но это не единственная причина.
Учитель предложил учащимся первых и вторых классов послушать рассказ о мальчике Вите, которого другой мальчик, Темка, звал воровать яблоки у соседа (для которого продажа этих яблок была основным средством прокормить семью).
На глазах у Вити Темку жестоко наказывают, но он снова лезет в сад и опять зовет Витю с собой. Витя очень хочет попробовать яблок, но не решается пойти с Темкой.
Учитель спрашивал у ребят: почему Витя не идет воровать яблоки? 27% опрошенных сказали, что Витя побоялся наказания, 39% — что сочувствовал тому, кого собирались обворовать, 34% указали на моральные соображения (Вите стыдно, он знает, что воровать нехорошо, и т. д.).
Результаты этого опроса показывают, что страх возмездия не является единственной и значимой причиной, удерживающей от совершения кражи даже семи-восьмилетних детей.
В сказке «Айболит» попугай Карудо выкрал у Бармалея ключ от темницы, чтобы спасти своих друзей. На детский взгляд — это поступок, сопряженный с риском и вызывающий восхищение. Взрослые могут понять и оправдать того, кто совершает кражу от безысходности, ради спасения своих близких (например, от голода).
Но ни обследование чужих сумок и карманов, ни попытки нажиться за чужой счет оправданы быть не могут. Все это надо объяснить детям.
Но самое важное, это пример, который подают взрослые своим поведением. Первые и самые главные уроки нравственности ребенок получает в семье, наблюдая за поведением близких.
Очень полезно разбирать вместе с ребенком различные ситуации, связанные с нарушением или соблюдением моральных норм (М. М. Кравцова, 2001). Например, на детей 6-7 лет сильное впечатление производит рассказ Н. Носова «Огурцы». Напомним содержание этого рассказа.
Мальчик-дошкольник своровал с колхозного поля огурцы, за компанию со своим старшим приятелем. Приятель, однако, огурцы домой не понес, так как опасался наказания, а отдал их все мальчику. Мама мальчика очень рассердилась на сына и велела отнести огурцы обратно, что тот после долгих колебаний и сделал. Когда мальчик отдал огурцы сторожу и узнал, что нет ничего страшного в том, что один огурец он съел, ему стало очень хорошо и легко на душе. Именно на возможность исправить содеянное, на необходимость нести ответственность за свои поступки, на муки совести и на облегчение, испытываемое в результате улаживания проблемы, следует обращать особое внимание ребенка. Кстати, в этом же рассказе поднимайся еще одна проблема. Когда мама велит сыну вернуть огурцы, тот отказывается, боясь, что его застрелит сторож. Мама отвечает, что пусть лучше у нее никакого сына не будет, чем сын — вор.
Такая «шоковая терапия» не всегда столь эффективна и довольно опасна в случае с эмоционально возбудимыми детьми. Оставляя ребенка один на один с проступком, отрекаясь от него, можно только усугубить проблему вызвав вместо раскаяния и желания исправиться, отчаяние и желание оставить все как есть или сделать еще хуже. В качестве свидетельства этого М. М. Кравцова (2001) приводит очень красочный пример.
Одноклассницы Маша, Катя и Алена рассматривали магниты для доски на столе учителя. Потом они пошли играть. Через некоторое время воспитательница продленной группы услышала, что девочки о чем-то спорят. Оказалось, что Маша и Катя увидели в руках у Алены большой магнит. Они решили, что Алена забрала этот магнит со стола учительницы.
Воспитательница попросила Алену показать магнит, та отказалась, мотивируя это тем, что это ее собственная вещь. Воспитательница настаивала, что если девочка не покажет магнит, значит, она его украла с учительского стола.
Маша с Катей тоже кричали, что Алена магнит украла. Девочка отказывалась показывать свой магнит, плакала. У нее началась истерика. Выручила ее классная руководительница, доброжелательным тоном успокоившая Алену и выяснившая, наконец, что магнит действительно принадлежит девочке. Свою настойчивость воспитательница объяснила нелегким характером Алены, которая вечно нарушает дисциплину, со всеми ссорится, очень упряма. Иногда даже одного разговора на эту тему достаточно чтобы зародить в ребенке комплекс неполноценности, который будет отравлять ему жизнь.
М. Кравцова (2001) работала с тринадцатилетней девочкой. Ее близкие были уверены, что она ворует деньги у отчима. Оказалось, что все кражи совершал брат отчима, старавшийся свалить вину на девочку (он даже инсценировал пропажу денег из своего кармана). И родные верили, что виновата девочка, потому что в пятилетнем возрасте она украла у мамы деньги и накупила на них угощений своим друзьям.
Но однажды истинный вор все-таки просчитался, все раскрылось. Девочка была «реабилитирована» в глазах родных. Однако в отношении детской души закон «лучше поздно, чем никогда» не работает. И никто не может сказать, какой невосполнимый ущерб был нанесен личности подростка несправедливыми обвинениями, ситуацией, когда все, кроме мамы (что, правда, уже немало), были настроены против ребенка, не верили ему. Не только возможность несправедливого обвинения Должна удерживать взрослых от «называния вещей своими именами». Вспомните мальчика из рассказа «Огурцы», о котором уже говорили. Самым страшным для него был не мамин гнев, не страх перед сторожем и его ружьем, а сознание, что он совершил нечто такое, из-за чего мама его больше не любит. Хорошо, что она хотя бы оскала ему возможность искупить свою вину, иначе воздействие отчаяния и безысходности было бы губительным для детской души. Это разрушило бы уверенность в себе, создало у ребенка чувство собственной порочности
Идя по пути осуждения и наказания, родители тем самым закрепляют за ребенком репутацию вора. Даже если проступок был единственным, родные уже видят на ребенке печать порочности, в каждой его шалости и неудаче им мерещится зловещий отблеск прошлого. Они ожидают, что дальше будет еще хуже, и стоит ребенку оступиться, как они почти с облегчением восклицают: «Вот оно, пожалуйста! Мы знали, что так все и будет, чего еще можно от него ожидать?!»
Создается впечатление, что ребенка как бы подталкивают к противоправному поведению. Маленький человек, попавший в ситуацию непонимания и неприятия, может озлобиться, его кражи могут уже иметь совсем иной — криминальный — смысл. Сначала это будет попытка отомстить обидчикам, почувствовать свое превосходство над ними, а затем уже может стать и способом удовлетворения материальных потребностей (М. Кравцова, 2001).
Помимо бесед родителей, учителей, психолога, большое значение в коррекционной работе с ворующими детьми имеют различные виды психотерапии, в том числе игротерапия, арттерапия, сказкотерапия и др., и не только с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста, но и с подростками.
Арттерапевтические упражнения включают в коррекционное занятие, так как они ориентированы на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, на естественное проявление мыслей, чувств, настроений в творчестве, принятие человека таким, каков он есть, вместе со свойственными ему способами самоисцеления и гармонизации. Кроме этого, изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным «мостом» между психологом и ребенком. Арттерапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у детей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию. Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений.
9.2. ИГРОТЕРАПИЯ
Рассмотрим использование технологии игротерапии в психокоррекции воровства на примере игры «Укради!» (X. Кедьюсон, Ч. Шеффер, 2006).
Специалистам по игровой терапии нередко приходится иметь дело с детьми, совершающими кражи.
Кражи, совершенные детьми, крайне болезненны для родителей, особенно если воровство приобретает систематический характер и, по мере взросления ребенка, становится все более изощренным. Родители во многих случаях оказываются бессильны предотвратить его. При этом подобное поведение ребенка и реакции на него родителей лишь усиливают друг друга, поскольку у ребенка появляется ощущение своей власти над родителями и, по мере того как родители стремятся все более жестко контролировать ребенка, воровство становится для нег все более привлекательным занятием.
Подобная форма нарушения поведения и связанные с ней семейные проблемы наиболее характерны для детей из неблагополучных семей. Д. Винникотт высказывает предположение, что склонность ребенка к воровству может быть связана с попыткой получить материнскую любовь и внимание, которых ему, возможно, не хватало в раннем детстве (УтгисоМ Б., 1971) Безусловно, вопрос о том, руководствуется ли ребенок при совершении кражи желанием получить понравившийся ему предмет или испытать чувство любви и привязанности со стороны матери, может быть предметом специального обсуждения.
Очевидно, склонность ребенка к воровству в семье определенным образом связана, с одной стороны, с проявляющейся в нем тенденцией освоения определенной драматической роли и, с другой — независимо от его стремления, — с желанием получить понравившийся предмет. Эта склонность может трактоваться с точки зрения внутрисемейных отношений, что следует учитывать любому психологу, сталкивающемуся с проявлениями подобного поведения. Глубокое укоренение детского воровства в семейных отношениях, как правило, не осознается родителями, которые считают, что проблему можно решить лишь жестким контролем поведения ребенка.
Специалист по игровой терапии, применяющий семейно-ориентированный подход, может помочь членам семьи разобраться в характере их отношений и в том, какое значение имеют совершаемые детьми кражи, — тем самым он будет способствовать изменению этих отношений.
Основная задача игры «Укради!» заключается в том, т0бы в условном игровом, интерактивном контексте помочь семье заново пережить драматизм кражи. Участвуя в подобной игре, дети и родители могут в определенной мере дистанцироваться от напряженной внутрисемейной ситуации и усвоить некоторые новые способы поведения — их можно будет использовать дома с целью решения проблем, вызванных воровством ребенка и привычным для членов семьи ощущением себя в роли воров или пострадавших лиц. Участники игры могут лучше уяснить тяжесть психологической и эмоциональной нагрузки, которую несет воровство.
Использование игры, ориентированной на исследование глубокого эмоционального подтекста кражи, базируется на положениях динамической игровой терапии. В целом ее можно определить как интегративный игровой психотерапевтический подход, при котором члены семьи привлекаются к разнообразным творческим, экспрессивным видам деятельности, использующим элементы драматического и изобразительного искусства, видеоигр и т. д. Психолог должен стремиться строить игровые отношения таким образом, чтобы они затрагивали эмоционально значимые аспекты реальных внутрисемейных отношений. Процесс динамической игровой терапии основывается на том, что психолог и члены семьи начинают активно участвовать в простейших интерактивных Играх с использованием средств самовыражения и постепенно осуществляют переход к новым совместным формам экспрессивного поведения, предполагающим большую свободу выбора.
Игра «Укради!» лучше всего подходит детям в возрасте от 6 до 12 лет. Она применяется после того, как психолог достаточно хорошо познакомится с членами семьи и убедится, что склонность ребенка к воровству действительно имеет место. Как правило, на это уходит от одного до двух месяцев. Если родители продолжают жаловаться на совершаемые ребенком кражи, психологу необходимо выяснить, что именно и каким образом крадет ребенок. Затем он предлагает родителям и ребенку поиграть в игру «Укради!».
Приступая к игре, психолог располагает все необходимые принадлежности в одной части кабинета и проводит линию, отделяющую ее от остального помещения. Родителю предлагают «охранять» предметы, давая «вору» команды остановиться, а ребенку — «воровать» их. В ходе игры «вор» должен, проникнув за линию, схватить какой-либо предмет и перенести его на свою половину. Если это ему удается, он может «приказать», чтобы одна из конечностей «охранника» больше не двигалась. «Украв» еще один предмет, он может «парализовать» другую конечность «охранника». Игра продолжается до тех пор, пока «охранник» не будет полностью «парализован ».
Обычно в игре используются косынки, подушки, фигурки животных и т. д., а в роли «границы» выступает лента или веревка. Функции судьи, который подтверждал бы, что предмет действительно был перенесен на половину «вора», берет на себя психолог или второй родитель. Как правило, чтобы «парализовать» «охранника» ребенок просит его убрать за спину руку, а ногу держать а весу; он может также попросить закрыть (завязать) глаза или замолчать — так что «охранник» не сможет больше «приказывать» остановиться.
В процессе игры психолог напоминает ее участникам 0 том, что не следует слишком серьезно к ней относиться. Когда «охранник» полностью «парализован», а все вещи перенесены на сторону «вора», происходит обмен ролями: ребенок становится «охранником», а родитель — «вором». Родитель может «парализовать» разные части тела «охранника», если ему удастся что-нибудь «украсть». В процессе игры ее участники несколько раз меняются ролями до тех пор, пока каждый из них не освоит роли «охранника» и «вора» и не будут проявлены связанные с этими ролями чувства. Тогда психолог может несколько изменить правила, чтобы они больше соответствовали этим возможностям. В конце занятия он также может попросить участников игры изобразить на рисунке ее наиболее значимые моменты, либо, сделав своевременно видеозапись, ее обсудить. Основная цель игры заключается в том, чтобы дать детям и родителям возможность в той или иной мере осознать характер своих отношений. Как правило, наибольший психотерапевтический эффект связан с изменениями в ходе игры, когда ребенок и родитель пытаются ввести в нее новые элементы, отражающие их отношения.
Наиболее характерные примеры этих изменений — манипуляции участников игры с предметами. Нередко родители прячут мелкие предметы у себя на теле либо крепко держат их, чтобы «вор» не смог их унести, но это лишь повышает интерес к ним ребенка. В эти моменты психолог может предложить договориться, как поступить с оставшимися предметами, или даже попытаться обсудить, что они могут означать с точки зрения взаимоотношений родителя и ребенка. Примером глубокого субъективного значения предмета могут быть моменты связанные с осознанием ребенком значимости своего «Я», а также того, что может значить сохранение предмета в руках родителя (например, любовь и внимание со стороны ребенка). С учетом всего этого, моменты переговоров участников игры относительно того, что делать с оставшимися предметами, могут иметь очень большое значение.
Игру «Укради!» лучше всего использовать с детьми младшего школьного возраста, для которых характерны нарушения поведения или проявления патологической привязанности. Как правило, эти дети плохо поддаются психотерапии в ее традиционных вербальных и невербальных вариантах.
В качестве игротерапии можно использовать домашний театр, например проигрывание этюдов — простых сценок, в которых ребенок вместе со взрослыми может «проиграть» сложные житейские ситуации. Своевольным детям очень полезно научиться прогнозировать последствия своих поступков. Но при проигрывании подобных этюдов важно позаботиться о том, чтобы самолюбие ребенка не пострадало, чтобы он ни в коем случае не был опозорен перед другими детьми и перед взрослыми! Поэтому, например, в этюдах «хозяин — собака» не следует говорить прямо о воровстве собаки, а нужно делать упор на безрассудные поступки, на их печальные и курьезные последствия.
Примеры этюдов.
Этюд 1. Собака, обидевшись на хозяина за то, что он ушел и оставил ее одну, устроила в доме ужасный беспорядок (побольше живописных деталей!). Что было, когда хозяин вернулся и увидел это безобразие?
Этюд 2. Собака требует, чтобы хозяин любил только ее, тогда как он любит еще и... (перечислить нескольких человек или назвать кого-то одного, к примеру — маму). Она во что бы то ни стало хочет добиться своего, но избирает не совсем обычный способ: залезает к хозяину в портфель (в стол), вынимает (придумать — что) и прячет. Проделка обнаруживается. Реакция хозяина? Завоевывает ли собака его любовь?
Этюд 3. Собака завела новые знакомства среди дворовых псов и, решив произвести на них впечатление, пригласила целую свору домой, сделав вид, что она живет одна и является полноправной хозяйкой квартиры. Нужно как можно смешней придумать, какое разорение и беспорядок учинили в доме четвероногие гости и как на это среагировал внезапно вернувшийся хозяин.
9.3. СКАЗКОТЕРАПИЯ
Сказкотерапия — анализ басен, сказок (литературных и психологических), что способствует формированию «нравственного иммунитета», то есть способности ребенка к противостоянию негативным воздействиям духовного, ментального и эмоционального характера, исходящим из социума.
С. Коростелёва (2006) в работе с родителями ворующих детей использовала басни. Она установила высокую эффективность басен, которые созданы 2,5 тысячи лет назад, но актуальны и сегодня. Например, басня Эзопа «Мальчик-вор и его мама».
Мальчик в школе украл у товарища дощечку и принес матери. А та не только его не наказала, но даже похвалила. Тогда в другой раз он украл плащ, и мать приняла это еще охотнее. Время шло... Мальчик стал юношей и взялся за кражи покрупнее. Наконец, поймали его однажды с поличным и повели на казнь, а мать шла следом и колотила себя в грудь. Перед казнью сын наклонился и сказал матери: «Кабы наказала ты меня, когда я в первый раз принес краденую дощечку, не докатился бы я до такой судьбы и не пришлось бы сейчас ч к мне умирать...»
Басня учит: если не наказать за вину в самом начале, она становится все больше и больше. Конечно, бывают и такие случаи, когда родители, наоборот, излишне категоричны по отношению к своему ребенку. Порой, хорошей беседе о поведении они предпочитают угрозы, повышенный тон, гневные тирады, а то и применяют физические наказания. А ведь гнев и злоба — это признак бессилия, и до добра это еще никогда не доводило.
В басне Эзопа «Сотворение человека» говорится о том, что глину, из которой Прометей вылепил человека, он замешал не на воде, а на слезах. Поэтому и не следует действовать на человека силой — это бесполезно, а ели нужно, то лучше укрощать его и смягчать, успокаивать и урезонивать, по мере возможности, и к такому отношению он отзывчив и чуток.
Самая большая трудность в коррекционно-реабилитационной работе с ворующими детьми — изменение отношения к подростку. Ведь если взрослый продолжает видеть в нем преступника, это мгновенно передается подростку и становится серьезным барьером в процессе реабилитации. Но как изменить это отношение, сформированное годами?
А. А. Пискунов и его коллеги (2001) попробовали сделать это при помощи сказки «Вор и маска».
Жил как-то мудрый король со своей прекрасной дочерью. Когда наступила пора принцессе выходить замуж, король объявил, чтобы кандидаты в женихи явились во дворец для отбора. Было поставлено только два условия: иметь хорошую репутацию (это было требование короля) и быть красивым (этого желала принцесса).
Среди узнавших об этом людей был один вор. Жизнь, полная преступлений и обмана, наложила отпечаток на его лицо. Морщины лжи и предательства обезобразили его внешность, но когда-то он был красив.
Природная хитрость не давала ему покоя, и вор решил бороться за руку принцессы.
«Я придумаю, как обойти других!» — подумал он. Он тайно посетил знаменитого изготовителя масок и заказал маску, которая возвращала ему облик невинной юности.
С помощью маски вору удалось легко пройти первые туры отбора. Сначала, возвращаясь вечерам домой, он смеялся над тем, как легко ему удалое обмануть советников короля.
«Ну и глупцы же они!» — думал он, рассматривая в зеркале свое настоящее лицо. Однако через несколько недель он понял, что дело обстоит не так просто. Вор остался в числе последних двадцати претендентов на руку принцессы, и их фотографии были напечатаны во всех газетах. Теперь репортеры все время толпились у дверей его дома и задавали вопросы, на которые ему совсем не хотелось отвечать. Вор притворялся скромным и говорил, что, наверное, не пройдет дальнейший отбор и что его личная жизнь не представляет никакого интереса. Теперь он больше не рисковал снимать маску даже ночью и жил в постоянном страхе разоблачения.
Вскоре его известили, что он остался в числе последних трех кандидатов. Понимая, что в случае разоблачения его ждет казнь, вор решил бежать из страны. Но, когда он выходил из дому, его приветствовали два солдата, присланные королем. Было слишком поздно!
В день последнего тура вор отправился во дворец, ожидая самого худшего. Впрочем, в нем еще теплилась надежда, что не он окажется избранником принцессы. Однако девушка уже приняли решение и говорила с другими кандидатами очень недолго, просто из вежливости. Потом она взял его за руку и сказала отцу: «Вот он».
В отчаянной попытке избежать разоблачения, вор отвел короля в сторону:
— Ваше величество, — сказал он. — Это большая честь для меня, но мне необходимо время на подготовку. Нельзя ли отложить обручение на один год?
Король с радостью согласился. Конечно, настоящим намерением вора было желание при первой же возможности убежать из страны, однако это оказалось невозможным. Теперь он стал вторым по известности человеком в королевстве. Толпы зевак постоянно собирались вокруг его дома в надежде хоть мельком увидеть будущего короля. Его приглашали произносить речи, присутствовать на церемониях. И что было хуже всего — целовать младенцев. А он ненавидел младенцев! И при этом ему надо было сохранять видимость чести и добродетели, стараясь соответствовать той лжи, на которую его обрекла маска. Он проклинал себя за то, что купил ее.
Целый год ему пришлось терпеть эти муки, и никто не догадывался, что за внешностью благородного человека скрывается душа вора.
Наконец настал день Королевского Обручения. Уверенный, что его ждет разоблачение и смерть, вор отправился во дворец с тяжелым сердцем.
Принцесса вышла встретить своего избранника, и он попросил ее остаться на короткое время с ним наедине. Девушка подумала: «Может быть, он меня, наконец, поцелует?» Но вместо этого он бросился к ее ногам:
— Ваше Королевское Высочество, — зарыдал вор. — Я должен сделать ужасное признание. Можете ли вы простить меня?
И он поведал ей всю историю обмана и рассказал, что он вовсе не прекрасный принц, а уродливый вор. После того как он закончил, наступило долгое молчание. Наконец принцесса заговорила.
— Я прощу тебя. — сказала она. — Но только при одном условии: сними маску и покажи мне, какой ты на самом деле!
С трудом он заставил себя поднести руки к лицу. Дрожа от стыда и страха, он снял маску и повернулся к принцессе.
- Чудовище! — закричала она и дала ему пощечину.
- Да, да, я знаю, — бормотал он. — Я...
- Что это за глупая шутка? — снова закричала принцесса. — Чего ты добиваешься?
- Что вы хотите сказать?
- Возьми это, — сказала она ему, подавая зеркало.
Он взглянул в зеркало. Потом в изумлении несколько раз перевел взгляд с зеркала на маску и опять на зеркало. Там было одно и то же лицо! За тот год, что ему пришлось прожить как добродетельному и порядочному человеку, его лицо изменилось. Да что лицо, он сам изменился! Добродетельные поступки изменили его внешность и характер, хотя он сам и не ощущал этого. Но сомнений не было — он стал другим.
К счастью, принцесса скоро заметила забавную сторону происшедшего:
— Пойдем! — сказала она. —Давай сделаем вид, что ничего этого не было.
И пара направилась на встречу с королем. Потом, когда они стали новыми правителями страны, люди стали считать бывшего вора самым мудрым и справедливым королем из всех, что когда бы то ни было правили их народом.
Может быть, эта сказка поможет лучше понять, что произойдет с воспитанником, если педагог и психолог выступят в роли мудрых Изготовителей Масок и создателей той среды, в которой невозможно будет ее снять. Сначала, как и в сказке, это может напрягать и беспокоить подростка. Но нужно ненавязчиво создавать условия и ситуации, в которых постепенно растет социальный статус воспитанника. Постепенно формируется новый «кодекс чести» — то есть внутренний закон, который невозможно нарушать.
Переводя сказку на язык наших будней, можно переформулировать базовый принцип взаимодействия с ребенком. Зачастую ему говорят: «Ты плохой и должен исправиться!» А сказка советует иное: «Я вижу в тебе принца, хорошего добродетельного человека — соответствуй тому образу, который я в тебе вижу!»
Педагог, воспитатель, социальный работник, психолог — как врач души знает все диагнозы больного, но верит и знает, что где-то скрывается его лучшая часть. И его мудрость позволяет увидеть эту лучшую часть и помочь ребенку поверить, что она в действительности существует. Что воспитанник может быть хорошим и что-то изменить в жизни.
Нередко приходится от подростков слышать: «вот если бы родиться заново. Что стараться, ведь нельзя ничего изменить, все равно меня никто не полюбит».
Но нельзя путать жалость по типу «он несчастный ребенок, что вы от него хотите?», или ложную поддержку «да ты такой хороший, в тебе это и это хорошее» с истинным развитием личности воспитанника. Поэтому следует создать условия, чтобы он сам захотел вести себя иначе, осознал, что по-другому невозможно.
Отталкиваться от потенциала подростка, от его плюсов, не значит «не видеть его проблем и минусов». Это значит — комплексно, многосторонне воспринимать его личность: сильные и слабые стороны. Где-то помогать, где-то ставить строгое ограничение, «где-то кнут, а где-то пряник». Главное, нужно осознавать, что и зачем следует делать по отношению к подростку.
Ощущение осознанности своих действий по отношению к ребенку (что я делаю, зачем, как это через некоторое время отзовется в ребенке) и понимание множества аспектов внутренней мотивации воспитанника являются перспективами формирования положительного восприятия подростков и изменения отношения к ним.
Использование новых психолого-педагогических технологий — арттерапии, игротерапии, сказкотерапии, музыкотерапии, библиотерапии, кинотерапии — позволяет решать следующие задачи:
— моделировать ранний детский опыт, насыщая его положительными переживаниями и образами;
— формировать запас жизненной прочности ребенка, анализируя многообразные жизненные ситуации способы поведения, «зашифрованные» в сказках и историях;
—проигрывать подавленные агрессию и обиду в игротерапевтических ситуациях;
—познавать многообразие образов окружающего мира, используя игры, сказки, рисунки, звуки, истории о реальных событиях;
— обсуждать понятия общечеловеческих ценностей, беседуя, играя, творя, провоцируя подростков на самостоятельный поиск ответов и объяснений.
Кроме того, эти технологии позволяют погрузить ребенка в мир иных взаимоотношений, поскольку развитие личности опирается на идею творческой одаренности каждого человека. Под творческой одаренностью понимается энергия роста, данная человеку от природы для самосовершенствования. Энергия роста может быть заблокирована неблагоприятным детским опытом. Однако это не означает, что она исчезает совсем. Предполагается, что в психологически благоприятной среде энергия роста и положительные потенциалы личности актуализируются. В процессе этого происходит изменение отношения к прошлому опыту, его принятие; рождение доверия к взрослым, их словам и предложениям, к будущему, к друзьям; приобретение многообразного опыта творческого самовыражения посредством участия в конкурсах, спортивных состязаниях, выполнения общественных поручений и т. д.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Сформулируйте основные цели и задачи психокоррекции воровства у детей разного возраста.
2. Объясните особенности психокоррекции воровства у детей с психическими отклонениями.
3. Объясните, почему физические наказания не являются эффективными мерами наказания ворующего ребенка.
4. Приведите возможные меры по психокоррекции детей, пострадавших от воровства.
5. Перечислите различные формы психокоррекционной работы с ворующими детьми и оцените их результативность.
6. Объясните, в чем специфика использования игротерапии в психокоррекции воровства у детей и подростков.
7. Подберите в литературе или составьте примеры сказок для психокоррекции воровства у детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.
Глава 10
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА
Профилактика возникновения воровских чувств и наклонностей может быть осуществлена только в раннем детском возрасте. Опыт показывает, что «выбивать» такие качества в более поздних периодах детства бывает затруднительно. Например, полностью исправлять уже состоявшегося вора-подростка чаще всего невозможно. В лучшем случае, даже если он в дальнейшем перестает воровать, у него в сознании остается модель воровства с его полезными, приятными, выгодными атрибутами — соблазн к воровству, который он может подавлять, — иногда временно, иногда надолго, а иногда на всю жизнь, но эта единожды созданная и испытанная модель остаётся навсегда, готовая нести службу почти в любое время.
Отсюда вывод — для воспитания ребенка без воровских наклонностей уже в раннем детстве необходимо создать у него в сознании «антимодели воровства», другими словами, отвращение к воровству, неприятие таких действий, чувство стыда за подобные поступки. К сожалению, в некоторых семьях присутствует неафишируемое понятие «допустимого, позволительного», «ограниченного», «безгрешного» воровства. В таких семьях дети могут учиться азам умного, скрытого, «невредного» воровства. А дальше, как говорится, дело техники — ребенок сам, используя свои умственные способности и опыт Других, может легко переступать границы, установление семейным воспитанием.
Воровство довольно часто встречается и у школьников, что свидетельствует об упущениях в воспитании в дошкольном возрасте. Оно часто проявляется в форме посягательства на чужие вещи на бытовом уровне, в том числе в школе. Иногда такие поступки учеников раскрываются, иногда нет.
Психологическими тестами нельзя однозначно определить — есть ли у ребенка воровские наклонности или нет. Но наличие у него некоторых личностных качеств может давать основания для подозрения таковых. Например, хитрость, трусость, хладнокровие, бессердечность, лживость, завистливость и др. Но даже если такие качества достоверно установлены у человека, еще нельзя однозначно подозревать его в воровстве, потому что часто даже при наличии таких нежелательных качеств люди могут не совершать воровские поступки. Лучшее доказательство во всех случаях воровства — это разоблачение вора, которое часто бывает затруднительно по многим причинам. Поэтому у воров в ходу известное изречение «не пойман — не вор»,
Простая невнимательность к вопросу воровства в детском возрасте, даже из-за наличия благородных и высоконравственных традиций в семье («в нашем роду таких не было»), недостаточна для гарантированной профилактики этого порока в будущем. Если ребенок уличен в мелком воровстве, нельзя его строго наказывать за это, издеваться над ним или устраивать всеобщие насмешки над этим поступком ребенка. В этих случаях, вместо того, чтобы отучиться от воровства, возможно, он будет стараться тщательнее скрывать такие поступки, прибегать ко лжи. Конечно, в семье должен быть такой психологиеский климат, чтобы у ребенка отпадала всякая необходимость в воровстве. Нужно целенаправленное, акцентированное воспитание ребенка в этом отношении. Даже в тех случаях, когда случаи воровства не наблюдались не только у ребенка, но и у его ближайшего окружения, нужно профилактическое воспитание. Только тогда ребенок в будущем, даже попадая в воровскую среду, может надежно сохранять свое нравственное лицо.
Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не провоцировать. Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить в недоступном для ребенка месте. Может быть, такое место найти непросто, зато во многих случаях подобной меры вполне достаточно. Помимо денег, иногда начинаются проблемы с вещами. Очень часто даже в самых обеспеченных семьях дети не имеют личных вещей — то есть не имеют возможности свободно распоряжаться вещами, в том числе дарить, портить и уничтожать. И поэтому не отвечают за них. В этой ситуации ребенок не осознает разницы между «моим» и «нашим». Он может взять из дому вещи, не воспринимая их продажу или дарение как кражу. Важно четко очертить для ребенка границу между его собственными вещами и общими, которыми он имеет право пользоваться, но не имеет права распоряжаться.
Многих родителей пугает идея, что часть вещей должна быть передана ребенку в «безраздельную» собственность. Им кажется, что таким образом они потеряют действенный рычаг контроля над ребенком, например, возможность отобрать у него велосипед, если он закончит четверть с тройками. Но именно отсутствие у ребенка опыта обладания собственностью провоцирует краями Эффективным способом профилактики воровства является также выделение ребенку карманных денег. Собственные деньги воспринимаются детьми с большой ответственностью. Как правило, даже семилетние дети распоряжаются регулярно выдаваемой им суммой очень разумно, а лет с девяти начинают их копить на крупные покупки, что свидетельствует об успешном преодолении своей импульсивности. Поэтому из тех значительных сумм, которые тратятся на ребенка, стоит часть выдавать на руки. Это позволяет сэкономить не только деньги, но и нервы.
Доверительная беседа — лучшая профилактика возможных сложностей. Родителям следует обсуждать проблемы ребенка, рассказывать о своих. Особенно хорошо будет, если они поделятся собственными переживаниями, расскажут о своих чувствах в подобной ситуации. Ребенок почувствует искреннее желание понять его, дружеское живое участие.
Активность ребенка нужно направлять « в мирное русло», выяснить, что на самом деле его интересует (занятия спортом, искусством, собирание какой-нибудь коллекции, книги, фотографирование и т. д.). Чем раньше это будет сделано, тем лучше. Человек, жизнь которого наполнена интересными для него занятиями, чувствует себя более счастливым и нужным. Ему нет необходимости привлекать к себе внимание, у него обязательно появится хоть один друг.
Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в семье — за младшего брата, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и непременно, начиная с 7-8 лет, за собственный портфель, стол, комнату и т. д. Нужно постепенно передавать ему дела, делиться с ним ответственностью.
Наибольшую тревогу вызывают случаи воровства, выходящие за рамки дома или неоднократно повторяющиеся. А из всех возрастных категорий наиболее опасен подростковый возраст.
Когда ребенок часто ворует, это перерастает в дурную привычку. Если он ворует за пределами семьи — это уже потакание своим порочным желаниям. Если ворует ребенок старшего возраста — это черта характера.
Детские проблемы на фоне проблем взрослых часто выглядят смешными, надуманными, не стоящими внимания, но ребенок так не думает. Для него очень многие ситуации могут казаться безвыходными. Не следует забывать об этом и почаще вспоминать свое детство и свои детские проблемы, задумываться, как на его месте поступили бы вы. Ребенок должен знать, что он может рассчитывать на внимание и понимание со стороны своих близких, их сочувствие и помощь.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Обоснуйте эффективность профилактики воровства в раннем детском возрасте.
2. Предложите варианты моделей профилактики воровства с учетом разных личностных качеств ребенка.
3. Объясните возможные меры профилактики кражи денег и вещей ребенком в семье.
4. Предложите возможные меры профилактики воровства у детей вне семьи.
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА
РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ
Большинство родителей при воспитании детей допускают ошибку, оценивая поведение ребенка масштабами взрослого. И ни в какой другой сложной воспитательной ситуации не проявляется это так ярко, как в случаях воровства. «О, боже, мой ребенок украл! Что из него выйдет, если он уже сейчас это делает? Откуда у него такие задатки? Я в отчаянии, не знаю, что делать!» — жалуются матери. Но чаще всего из-за стыда за «неудавшегося» ребенка они вообще не решаются с кем-нибудь поговорить об этом. Они сами берутся за дело — естественно, со всей строгостью, ибо считается, что меры надо принимать именно сейчас, пока не стало поздно. Побои, домашние наказания, серьезные разговоры и угрозы должны вернуть ребенка на путь истинный.
Все родители хотя бы один раз сталкиваются с этой проблемой. Отсюда — внимание! — ворующий ребенок — далеко не потерянный, и нет еще повода для угрызений и тревог. Надо просто знать об этом.
Сначала одно важное утверждение: не существует предрасположения к воровству! «А клептомания?» — спросите вы. Следует сказать, что это только больное возражение отчаявшихся родителей. Психиатрия, правда, признает клептоманию формой психического заболевания. Но ваш ребенок нормален.
Воровство в детском возрасте еще не сама болезнь, ц0 симптом заболевания. И это заболевание душевного порядка. Именно на этом должно быть сосредоточено внимание родителей (X. Райнпрехт, 2006).
Что делать, если дошкольник принес в дом чужую вещь. Приведем примеры. Из рассказа матери:
«Моя дочка ходит в детский сад. Недавно мы столкнулись с проблемой, о которой мне очень стыдно говорить: дочка стала воровать. Сперва притащила домой игрушку. Сказала, что подарили. Я поверила. Но игрушка дорогая, и я, подумав, что родители подарившего ребенка будут недовольны такой щедростью, игрушку решила вернуть. Принесла в садик, а воспитательница говорит: «Мы вчера всей группой эту игрушку целый день искали, Миша ее потерял». Легко понять чувства этой матери. Вообще, реакция подавляющего числа родителей в подобных случаях укладывается в три сценария: одни испытывают растерянность («Как это могло произойти с моим ребенком?») другие впадают в панику («Что подумают люди?», «Я плохая мать...»), а третьи хватаются за ремень («Чтоб неповадно было!»). Но ни один из этих вариантов нельзя назвать правильным!
Не теряйте голову, не занимайтесь самобичеванием я оставьте в покое ремень. Успокойтесь! Подумайте, что могло стать причиной такого поведения вашего ребенка.
Во-первых, как только «это» произошло в первый раз, реакция родителей должна последовать незамедлительно.
Во-вторых, не нужно поддаваться эмоциям. В минуты гнева многие мамы и папы напрочь забывают о том, что их сын (дочь) — это всего лишь дитя. Не совершайте подобной ошибки. Не судите ребенка «взрослым» судом, безжалостным и беспощадным. Он вряд ли исправится только лишь «по вашему велению». Правильный выход — воспитать в ребенке собственное (и осознанное) «хотение» поступать честно.
Конечно, реакция на воровство ребенка будет зависеть и от его возраста.
Разумеется, бессмысленно родителю затевать беседу, если его малышу всего 2-3 года. В столь малом возрасте для крохи вообще не существует разделения «свое — чужое» . Мир крутится вокруг него одного, и всеми его благами он рассчитывает пользоваться тогда, когда пожелает.
Довольно часто мама может лицезреть, как ее дитя хватается ручонками за понравившуюся в гостях игрушку, проводит с ней весь вечер, а когда наступает время уходить, со слезами расстается с забавой. Хуже, если на следующий день родительница обнаруживает чужую куклу у малыша в комнате. В этом случае ребенку надо дать понять, что он поступил очень плохо и некрасиво.
Возможно (если это произошло впервые), малыш пропустит наказ взрослого мимо ушей и инцидент повторится вновь. Но скорее всего, слова самого родного и любимого человека окажутся хоть и болезненными, но действенными.
Как правило, родители понимают: если такое случилось с ребенком, которому не исполнилось еще и четырех лет, его поступок трудно назвать настоящей кражей. Малыш еще не в состоянии различать «моя вещь» — «не моя». Ребенок постарше (4-6 лет) способен усвоить границы собственности. Но ему пока трудно сдерживать свою естественную импульсивность: захотелось, знаю, что не мое, все равно взял. Причем цена вещи при этом для него роли не играет. Взрослые же обычно бывают очень шокированы произошедшим, если взятая вещь — дорогая. И гораздо менее остро реагируют, если это какая-нибудь мелочь — пластмассовая игрушка, например.
Ребенок берет чужое без спроса вполне осознанно, уже понимая, что его могут за это наказать.
К сожалению, некоторые родители полагают, что тут нет их вины, считают, например, что дурному их научили ребятишки в детском саду. Но не все так просто.
Малыш никогда не пойдет на воровство без нужды — это должны понимать абсолютно все родители. Незачем ребенку, если он купается в любви взрослых, специально их огорчать. По большому счету, именно из-за дефицита положительных чувств и эмоций, которые должны исходить от родителей, ребенок идет на крайние меры. Таким неблаговидным с точки зрения морали способом он стремится привлечь внимание матери и отца.
Именно поэтому, между прочим, в обеспеченных семьях нередко процветает детское воровство. Пока взрослые тратят массу сил на зарабатывание денег и личные проблемы, их детки, обеспеченные всеми материальными благами, тоскуют по обычной ласке и человеческим объятиям. Не получив последних, самых ценных в этот период развития, малыши воспринимают украденную вещь как заместитель родительского чувства.
Прежде чем давать оценку действиям ребенка, родителям следует разобраться, что же происходит на самом деле. Не копирует ли ребенок взрослых, которые не всегда различают свое и чужое? Нужно внимательнее отнестись к своему поведению, а также поведению бабушек и других взрослых, например родителей друзей своего ребенка. Может быть, там принято приносить какие-то полезные в домашнем хозяйстве вещи с работы и всем рассказывать об этом.
Если ребенок принес домой чужую игрушку, следует выяснить, не поменял ли он ее на свою, такие обмены распространены среди детей, и если это делается по взаимной договоренности, то нет ничего предосудительного. Также нужно иметь в виду, что для детей не очень важна денежная стоимость игрушки.
Если игрушку принесли из общего фонда детской игровой комнаты, возможно, что таким образом ребенок реализует свою давнюю мечту. Игрушку следует, конечно, вернуть, но при этом задуматься: может быть, вы недостаточно внимательны к потребностям ребенка. Лучше все-таки не допускать ситуаций, когда устойчивое и Длительное желание ребенка остается неудовлетворенным, вызывая излишние напряжение и нервозность. Используя удобный повод (день рождения, какой-либо Успех ребенка), постарайтесь подарить ему то, о чем он страстно мечтал.
Сложнее всего вариант, если принесенная игрушка принадлежит кому-то из детей. Родителям нужно постараться понять нюансы отношений между своим ребенком и хозяином игрушки. Что стоит за этим простуд, ком — желание привлечь к себе внимание и подружиться или, наоборот, пренебрежение к другому ребенку который, возможно, занимает позицию отверженного в группе. Важно, как было обнаружено присутствие чужой вещи — ее случайно увидели среди спрятанных предметов или ребенок рассказал сам, что произошло. Следует обратить внимание на то, как он сам относится к своему поступку — обнаруживает ли чувство стыда, раскаяния или считает, что все произошедшее — в порядке вещей. Если чувство вины отсутствует вообще, оценка родителей должна быть резкой и определенной: пусть ребенок почувствует, что им не нравится его поведение, что они удивлены его поступком. Нужно выразить уверенность в том, что он уже взрослый и знает, «что такое хорошо и что такое плохо», но, конечно, это больше не повторится. Если ребенок знает, что поступил неправильно, то разумнее, давая оценку, сосредоточиться не на том, чтобы вызвать у него чувство вины, а обрисовать картину переживаний того, кто лишился своей игрушки, и выработать стратегию возврата вещи без излишних унижений. Нередко бывает именно так, что страх признаться и невозможность вернуть все на прежние позиции делает ребенка малодушным, усугубляя его неправильное поведение. Не следует допускать, чтобы ребенка судили публично, не обязательно и настаивать на демонстративных извинениях. Лучше организовать камерную встречу двух детей, без взрослых, когда может состояться передача игрушки. Пусть ребенок предложит поиграть какой-либо из своих игрушек и даже взять ее на некоторое время домой, если его товарищ захочет.
Что делать, если дошкольник берет дома деньги?
Случаи, когда дети в дошкольном возрасте берут у родителей деньги, являются нечастыми. Сразу же следует выяснить, для чего они понадобились малышу, один из неприятных вариантов — это вымогательство со стороны старших товарищей, например, по двору. Это следует жестоко пресекать сразу же, что является сугубо взрослой задачей. Ребенок не должен испытывать страха, давления, не должен попадать в положение жертвы. В этом случае не нужно осуждать его слишком строго.
Другой вариант — ребенок берет деньги, чтобы купить на них подарки (жевательную резинку, роботов, другие «бесценные» вещи) своим товарищам. Как правило, это является попыткой повысить свой статус, укрепить положение среди друзей. Следует объяснить, что друзья, которых можно расположить подарком, — это не самая надежная компания. Лучше предложить своему ребенку другие способы повышения статуса — собрать его друзей у себя дома, поиграть со всей компанией, при этом не забывая уважительно отзываться о своем ребенке, показывать, насколько вы с ним считаетесь.
Если не удалось выяснить, для чего понадобились деньги ребенку, следует выразить свое огорчение по поводу их отсутствия, рассказать ему, для чего они предназначались. Уместно также пояснить, что денег хватает в семье не на все и вы тоже вынуждены ограничивать себя в некоторых вещах, — например, хотелось бы купить новые туфли, сходить в театр, но пока это придется отложить.
Еще одной причиной краж может стать стремление ребенка привлечь к себе внимание родителей. Например если в семье не до него — родители близки к разводу постоянно заняты на работе и т. д.
Обычно в таких случаях пропажи денег или вещей быстро обнаруживаются. Нередко за этим следует громкое разбирательство, скандал. То есть цель «воришки» достигнута — получена немалая порция родительского внимания. Даже такая реакция устраивает ребенка больше, чем недостаток тепла или полная отстраненность.
Что делать? Психологически обоснованное поведение взрослых в этих случаях — меньше внимания уделить самому факту воровства (не игнорируя его), гораздо больше — восстановлению утраченных теплых отношений с ребенком. Возможна даже совершенно неожиданная реакция — похвалить за какие-то успехи или сделать сыну или дочери подарок. Не исключено, что если они и не признаются в краже, то, во всяком случае, испытают неловкость и стыд.
В краже денег в семье есть еще один нюанс.
Характерен он для семей, где взрослые воспитаны по старому социалистическому принципу «все — общее».
С самого раннего возраста у ребенка должен быть свой личный уголок. Хорошо, если это отдельная комната. Нет такой возможности — тогда пусть это будет, например, стол и шкаф, где хранятся книжки, игрушки, которые малыш может в любое время взять, разобрать, подарить другу и даже сломать. Ни старший брат, ни сами родители без его разрешения не должны пользоваться этими вещами. Таким образом он поймет, что есть собственное имущество, а что — чужие предметы, которые брать без спроса недопустимо.
В семьях с хорошим достатком характерна обратная ситуация. Зачастую ребенку доступны все земные радости, но при этом мама с папой время от времени напоминают чаду, что его личных вещей в доме нет, — все приобретено взрослыми и принадлежит только им. Это крайне оскорбляет чувства детей. Получается, они находятся в неравном положении со старшими и, пока не вырастут, не могут чем-то обладать. Вот тогда-то некоторые ребята и залезают в папин бумажник.
Впрочем, иногда этого не требуется. Когда в семье есть нехорошая привычка разбрасываться деньгами (раскидывать купюры где попало), ребенок может беспрепятственно взять «мелочь» себе в карман, не боясь наказания: «Все равно ее никто не считает!». Но вряд ли бы он так поступил, если бы родители бережно относились к личному капиталу. Сначала воришка сунет нос в фамильную кассу, а потом и на чужую бессовестно позарится.
Сложилось ошибочное мнение, что воровство присуще детям из неблагополучных семей, однако воровство наблюдается и у детей из так называемых благополучных семей. И в первом, и во втором случаях — это последствия неправильного воспитания. В неблагополучных семьях асоциальность самих родителей, низкий материальный достаток толкает детей на кражи. Сложнее в семьях, в которых и уровень материальной обеспеченности достаточный и воспитанию детей уделяется внимание. Дело не в количестве, а в качестве воспитательных воздействий. Можно выделить ошибки в процессе воспитания:
— отсутствие, последовательности в воспитании, когда в одной ситуации ребенка могут наказать за проступок, а в другой — за угрозой наказания не следует;
— несогласованность требований взрослых, предъявляемых к ребенку; такая ситуация характерна для семей, где есть бабушки и дедушки, но нередко она встречается и в семьях только с папой и мамой, которые не могут договориться между собой, когда одно и то же действие ребенка оценивается по-разному;
— «двойная мораль», когда действия родителей расходятся с делом;
— вседозволенность, которая может быть следствием безнадзорности;
— тотальный контроль поведения и действий ребенка.
Задача родителей — научить ребенка нести ответственность за свои действия. Если ребенок совершил кражу, то сначала нужно выявить мотивы и потребности, причину его поступка, затем сказать ему о своих чувствах и желаниях, в дальнейшем даже можно подарить ему украденное.
В одной восточной притче рассказывается о том, как профессиональный вор попросился на ночлег к священнику и наутро украл у него фамильную реликвию. Не успел он покинуть город, как его поймали и привели к священнику с украденным, И тот сказал: «Я ему подарил эту вещь». После этого вор исцелился и перестал воровать.
Воспитывая детей, слушайте свой внутренний голос Просто любите их, они воспитаются сами, доверьтесь им, не говорите, как нужно делать, делайте это.
Итак, ребенок дошкольного возраста может украсть (тайно взятый кусочек сахара тоже относится сюда же) до следующим мотивам и причинам.
1. Несознательность. Ребенок еще не различает, что значит «мое» и «твое». Он не понимает значения слова «собственность». Он еще не вписался в порядки человеческого общества. Но никогда не рано начинать знакомить его с некоторыми понятиями. Ребенок должен знать, что принадлежит ему лично. Он за эти вещи отвечает, за ними следит, и это никто не может у него отнять. Что такое деньги, ребенок должен узнать достаточно рано. Слишком затянувшееся стремление родителей не давать ребенку карманных денег — неправильная политика.
Каким иным образом узнает ребенок цену денег? Можно подарить ему копилку, чтобы научить обращаться с деньгами. Надо прививать детям правильное понимание собственности, тогда они будут уважать собственность других.
2. Привычка. Чего только дети не наблюдают в жизни своих родителей! Во время прогулки мать подняла яблоко из чужого сада и положила его в карман. В другом саду сорвали чужие цветы. Отец не вернул одолженную книгу. Оставили у себя найденную чужую вещь. Ребенок, будучи свидетелем всего этого, научился, что не надо быть таким уж щепетильным. Для него это становится привычкой, и он не находит ничего ужасного в том, чтобы тайком взять из папиной коллекции пару Марок, ведь у него еще много таких же!
3. Спортивный интерес. У детей богатая фантазия. Некоторые телевизионные передачи развивают у ребенка такие же дерзкие идеи, как и чтение приключенческих книг и сказок. Это так интересно и захватывающе — что-то у кого-то стащить. Так, два тринадцатилетних сына обеспеченных родителей из спортивного интереса «добывали» разные вещи из частных домов и прятали их в укромном месте. При этом они казались себе очень взрослыми и отважными.
Во всех этих трех причинах виноваты родители и воспитатели. Они упустили возможность научить ребенка поступать в соответствии с моральными ценностями нашего общества: «Ты не должен трогать того, что тебе не принадлежит, на твою собственность тоже никто не посягает». Достаточно ли часто говорят это ребенку?
4. Знак протеста. В этой причине самая большая вина воспитателей и родителей. Она характерна для всех детей, которые вдруг начинают брать тайком то, что им не принадлежит. Ребенок становится маленьким воришкой из внутреннего протеста против взрослых. Об этом надо подумать в первую очередь. В большей части сопроводительных бумаг, которые вместе с детьми прибывают в детский дом написано: «ворует». В этих случаях речь идет о ребенке из неблагополучного окружения. О ребенке, пережившем родительские ссоры, бессердечие, побои, душевные муки, а также непонимание там, куда он был отдан на воспитание. Любой педагог, который встречается с ребенком по поводу случаев воровства, сразу предполагает неблагополучные отношения в семье. Почти во всех случаях предположение подтверждается.
Вот некоторые примеры.
ü Родители ссорятся. Ребенок мстит на это воровством.
ü у отца нет времени для сына. Сын «покупает» это время тем, что незначительным воровством обращает на себя внимание отца.
ü Ребенку не хватает тепла в родительском доме. Он крадет, чтобы выразить свой протест или же купить ворованными вещами любовь других взрослых или своих соучеников.
ü Дома не поощряют увлечений ребенка. Он «организует» средства для приобретения нужных ему материалов.
ü Балованный ребенок не умеет владеть собой и в кондитерской прячет кое-что в свой карман.
ü Отверженный ребенок. Этому все равно. Мелкое воровство для него — способ самоутверждения.
Каждая мать в какой-то момент ловит своего воришку. И от нее зависит, вернет ли она его на правильный путь или воспитает настоящего вора. Последнее, к сожалению, случается у родителей, не понимающих серьезности ситуации. Они реагируют наказаниями и без конца тычут: «Ты вор», «Из тебя ничего путного не получится, раз ты уже сейчас воруешь», «Тебя нельзя послать в магазин, приносишь не всю сдачу», «На тебя нельзя положиться!», «От тебя приходится все запирать!». Ребенок, которому бесконечно твердят о его изъянах, в конце концов, и сам начинает верить в то, что он — заблудшая овечка.
С воспитательной точки зрения намного ценнее отнестись к ребенку с пониманием, доверием. Поговорить с ним по-хорошему, если его поймали с поличным. Обращаться к нему с любовью и теплом. Искать корень зла не в ребенке, а в самих себе.
Не всегда можно сразу понять психологические причины, приводящие к воровству. Но каковы бы они ни были, надо соблюдать несколько правил обращения с детьми (М. М. Кравцова, 2002):
ü Ни в коем случае не навешивать «уголовных» ярлыков на ребенка, называя его вором, предсказывая ему «плохую дорожку» в жизни и т. д.
ü Избегать сравнений с другими детьми и самими собой в детстве, говоря, например, так: «В нашей семье такого отродясь не водилось», или: «Как я завидую другим родителям, которым не приходится стыдиться своих детей».
ü Не заставлять ребенка «ради справедливости» отдавать свою лучшую игрушку.
ü Не «перегибать», обсуждая вину ребенка, — иначе он будет утаивать от родителей все проступки, которые считает стыдными.
ü Не возвращаться к тому, что было, когда ребенок вызовет ваше недовольство в следующий раз.
ü Помните, что многие жизненные ситуации обратимы и главное — найти способы их психологически грамотно исправить.
ü Если ребенок ворует, это необходимо пресечь — но только если вы абсолютно уверены в фактах. Ничто не ранит тяжелее, чем несправедливое обвинение. Родители должны ему сказать, что его поведение неприемлемо, но в то же время важно заверить, что очень его любят — даже если не одобряют сейчас его поведения.
Как правильно вести себя с «маленьким воришкой»?
Вот несколько рекомендаций:
— Не устраивать «разборок под горячую руку». Поспешив, дав волю своему негодованию, можно испортить ребенку жизнь, лишить его уверенности в праве на хорошее отношение окружающих, а тем самым и уверенности в себе. Если малыш «не пойман за руку», невзирая ни на какие подозрения следует помнить о презумпции невиновности.
— Не обвинять ребенка в краже, даже если кроме него больше некому было это сделать. Исключение — когда его застали на месте преступления, но и в этом случае необходимо выбирать выражения, дать ему понять, как вас это огорчает. Спокойная беседа, обсуждение ваших чувств, совместный поиск решения любой проблемы лучше выяснения отношений.
— Оставлять малышу пути к отступлению. Если все указывает на то, что вещь взял именно он, но ему трудно в этом сознаться, нужно подсказать, что взятую вещь можно незаметно положить на место. Например, для маленьких детей подойдет следующий ход: «У нас дома, видимо, завелся домовой. Это он утащил то-то. Давай-ка поставим ему угощение, он подобреет и вернет нам пропажу».
— Научить ребенка вставать на место другого. Он должен уметь сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Необходимо познакомить его с правилом: «Поступай так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой» и объяснить смысл этого правила на примерах из реальной жизни.
— Украденную вещь необходимо
возвращать владельцу,
но необязательно заставлять ребенка делать это самостоятельно, можно пойти вместе с ним. Он дол
жен почувствовать, что каждый человек
имеет право на поддержку.
— Обнаружив у ребенка чужую игрушку, которую он украл у приятеля, но утверждает, что она была ему подарена, нужно сказать ему следующее: «Я могу представить, как сильно тебе захотелось куклу, если ты действительно поверил, что тебе ее подарили».
— Некоторые родители в сердцах бьют детей по рукам, приговаривая, что в древности ворам отрубали руку, грозятся в следующий раз сдать их в милицию. Так делать нельзя, это ожесточает детей, создает ощущение собственной порочности.
— Следует обратить внимание, как в семье хранятся деньги, — это не должно быть легкодоступным местом, не нужно провоцировать ребенка.
— Необходимо установить границы собственности: чем можно распоряжаться по своему усмотрению (дарить, обменивать), а чем — нет (в том числе вещами общего пользования). Ребенок должен понимать, что есть вещи, принадлежащие лично каждому члену семьи.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА
РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ
Что делать, если воруют школьники?
Ребенок идет в школу — новое, незнакомое (и оттого пугающее) место. Начиная с первых классов, ему хочется «вписаться в коллектив», чтобы чувство страха поутихло и не мешало набираться знаний. Кто-то из ребят обнаруживает у себя явно лидерские качества, кто-то зарабатывает пятерки, а кто-то носит на шее мобильный телефон. Как самоутвердиться вашему чаду, если он не попадает ни в одну перечисленную «категорию»?
Самый простой способ — вероятно, решит он, — угостить одноклассников вкусными жвачками или пригласить их в компьютерный клуб за свой счет. То есть дать сверстникам то, что для них на данный момент ценно. Сделать это без родительской финансовой поддержки, разумеется, никак не удастся.
На крайнюю меру — воровство — ребенок в такой ситуации не пойдет, если взрослые обеспечивают его небольшими суммами и тем самым уважают его ежедневные потребности. Деньги он подкопит и осуществит свое желание. В результате не пострадает самооценка школьника, он привлечет к себе внимание ровесников, а может, и учиться станет лучше, чтобы маму с папой порадовать.
Поэтому необходимо давать своему ребенку деньги на личные расходы. В предподростковом и подростковом возрасте ему очень важно быть не хуже других.
В этот сложный период дети особенно тянутся к себе подобным. Образуются различные неформальные группы. Естественно, со своими правилами поведения, эталонами красоты, популярными и непопулярными жизненными принципами.
Взрослые, как бы они ни противились изменениям сына или дочери, должны найти с подростком компромисс. Во время похода по магазинам, скажем, не падать в обморок «от вида этих ужасных ботинок» или драных джинсов — в конце концов, носить их детям, для которых это писк моды и способ самоутверждения.
Разумеется, нельзя постоянно идти «на поводу» у своих отпрысков. Баловство еще никогда до добра не доводило. Особенно это касается тех, у кого ограниченные материальные возможности. В данном случае нужно просто поговорить с ребенком, как со взрослым человеком. Объяснить, что те или иные вещи ему не покупают вовсе не потому, что против них или назло своему ребенку. Просто пока так сложились обстоятельства, но наверняка можно найти выход из положения.
Можно посоветовать ему, к примеру, подработку в каникулы. В большинстве случаев подросток по-настоящему обрадуется такому предложению, ведь тогда он сам заработает нужную сумму и купит желанную вещь.
Наконец, родители должны постоянно давать понять своему чаду, насколько он ценен для них и без великих модных «прибамбасов». Иначе говоря, побольше хороших эмоций и гармонии чувств в семейных отношениях.
Тогда наверняка у вашего любимого ребенка выработается на воровство иммунитет. И он будет четко понимать смысл старой как мир истины: бесплатный сыр бывает только в мышеловке (И. Санадзе, С. Орлова, 2006).
р. Т. Байярд и Д. Байярд (1995) считают, что зачастую родители школьников действуют по двухэтапной программе подкрепления и провоцирования воровства сразу же после того, как случилась первая кража. Они делают это посредством концентрации отрицательного внимания на подростке, совершившем кражу; задавая ему вопросы, ругая и наказывая его, и посредством небрежного хранения ценных вещей, которые он может украсть в следующий раз. И чем больше родителей беспокоит воровство, чем больше им хотелось бы доверять своим детям, тем вероятнее, что они будут действовать именно так, то есть одновременно подкреплять и провоцировать воровство.
Задача состоит в том, чтобы определить конкретные способы действий, которые не связаны с отрицательным вниманием к ребенку и не провоцируют его еще на одну кражу. Здесь открывается много возможностей для творчества, и любое решение, скорее всего, будет более эффективным, если вы найдете его сами.
Лучше родителей никто не знает, что это может быть. Например, можно использовать каждый случай воровства в качестве сигнала для того, чтобы начать заниматься любимым делом, предварительно объявив всем (включая возможного вора), что это делается для того, чтобы облегчить ту боль, которую доставила кража. Другая возможность может состоять в том, чтобы отдать украденное вору.
Если очевидно, что в доме существует проблема воровства, следует убедиться, что оно не провоцируется взрослыми, которые оставляют без присмотра вещи, представляющие ценность. Нужно позаботиться о тех вещах, которые крадут; если вы убираете и запираете их, оказавшись в номере гостиницы, то же самое следует делать и у себя дома. Нельзя оставлять на виду и без присмотра сумочки и кошельки, деньги или украшения и даже небольшие притягательные вещи, если вы на самом деле хотите уберечь их и знаете, что воровство продолжается.
Нужно сказать своему ребенку в форме высказывания, что вы намереваетесь обеспечить сохранность своих вещей. Например: «Катя, я заметил, что пропала часть моих денег, поэтому теперь я собираюсь убирать их».
Мать Веры одна воспитывала двух детей в стесненных жилищных условиях; единственное место, которое она позволила себе оставить для личного пользования, — шкатулка, где она хранила украшения, сигареты и немного мелочи. Несколько раз в течение недели замечала, как исчезали некоторые из этих вещей, и у нее с Верой из-за этого произошла затем стычка. Постепенно такого рода стычки стали проходить по одному и тому же постоянному сценарию: мать спрашивает Веру, брала ли та что-нибудь, Вера отпирается, мать обвиняет ее, Вера сердится, мать плачет. Психолог помог матери Веры прекратить все ее вопросы, обвинения и стенания и посоветовал приобрести надежный замок для ее шкатулки. Обеспечения сохранности вещей, возможно, окажется недостаточным, чтобы разрешить проблему воровства. С одной стороны, если ограничиться только этим, ребенок может воспринять такие действия как игру или состязание и сможет отыскать тайники, сломать замки, взломать ящики. С другой стороны, не все родители хотят держать под замком вещи в собственном доме до тех пор, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы жить отдельно.
Затем следует убрать из взаимоотношений с ребенком все проявления отрицательного внимания, заменив их в тех случаях, когда вы считаете, что вас обокрали, на столь естественную заботу о самом себе.
Нет сомнения в том, что дети крадут из-за нежелания выказать себя и, соответственно, быть воспринятыми в качестве хороших, счастливых, ответственных людей, и воровство является тем легким способом, посредством которого они сохраняют безопасную для них позицию плохих и безответственных. Почти все из того, что крадут дети, они могут получить другими способами, которые, однако, предполагают честность и, возможно, умелость и тем самым характеризуют их как отвечающих за самих себя. Воровство, напротив, доказывает, что они плохие, именно поэтому они совершают кражи. Наилучший способ борьбы с воровством заключается в том, чтобы убедительно показать ребенку: воровство не дает ему желаемых результатов (то есть оно не клеймит его с помощью отрицательного внимания как плохого). И одновременно сделать все, что возможно, чтобы ребенок перестал чувствовать себя неловко в тех случаях, когда он ощущает себя хорошим и отвечающим за себя человеком.
Всего этого нельзя добиться, лишь говоря ребенку, что он хороший; но это можно сделать, став для него моделью, образцом, демонстрируя ему, что вы сами ощущаете и воспринимаете себя хорошим, счастливым и ответственным, что вы можете проявлять заботу о самом себе и что вас нельзя спровоцировать на отрицательное внимание по отношению к сыну или дочери. Имея родителей в качестве такой модели, ребенок постепенно осмелится ощущать себя хорошим и ответственным и ему уже больше не понадобится воровать, чтобы доказывать противоположное.
Каким же образом следует позаботиться о себе, когда ребенок украл что-либо у вас? Мы советуем действовать примерно так же, как, например, в том случае, если обваливается часть кровли и вы пытаетесь как-то укрепить ее и, возможно, зовете на помощь, но в любом случае отнюдь не ругаете и не обвиняете вашего ребенка. Именно вам нанесен ущерб кражей, и теперь ваша задача состоит в том, чтобы сделать что-нибудь и возместить потерю. Вот несколько примеров, показывающих, как можно позаботиться о самом себе. Заметьте: во всех этих случаях родители избегают проявлений отрицательного внимания по отношению к ребенку и, напротив, акцентируют высказывания и концентрируются на предоставлении благоприятных условий самим себе (Байярд Р. Т., Байярд Д., 1995).
Предположим, вы обнаружили пропажу денег из вашей сумочки или бумажника. Борис — один из ваших детей — брал деньги и раньше, и, хотя у вас и нет полной уверенности, вы подозреваете, что и на этот раз это сделал он. Вы говорите детям:
— Митя и Боря, я только что обнаружил, что из моего кошелька пропали 500рублей. Мне бы хотелось получить их обратно.
— Я не брал их.
— Я тоже.
— Я понимаю, что вы, мне говорите, и тем не менее я повторяю, что хочу получить их обратно. Если я не получу их до завтра, то на следующей неделе нам придется есть главным образом кашу, поскольку эти 500рублей были частью денег, предназначенных для покупки продуктов.
Затем может случиться так, что вы (или кто-либо еще) «найдете» деньги. В конце концов, они таинственным образом окажутся в вашем кошельке или же Борис неожиданно «найдет» их в ящике на кухне, куда вы обычно кладете свой кошелек (у нас были случаи, когда все происходило именно так). Если деньги обнаружатся подобным образом, отнеситесь к этому обыденно и воздержитесь от сарказма. Если же этого не произойдет, то сварите большую кастрюлю каши чтобы сэкономить для себя 500 рублей.
Приведем еще один пример. Таисия и Марина — легкомысленные, эффектные и капризные сестры — делали все что угодно, лишь бы продлить свое веселье. Они постоянно без всякого стеснения пользовались вещами своей матери, и никакие ее жалобы, обвинения, мольбы и даже слезы не действовали на них. Однажды их мать особенно расстроилась, увидев, что из ее комнаты исчез дорогой свитер. На этот раз она бесхитростно и твердо заявила дочерям: «Я хочу, чтобы мне вернули мой свитер». Девочки, конечно же, стали отрицать, что знают что-либо об этой вещи; они кричали, становились угрюмыми, заявляли, что к ним несправедливы. Был момент, когда одна из них, вместо того чтобы ответить матери, в бешенстве выбежала из дому.
Матери удалось оставаться совершенно спокойной, ненапряженной и не чувствовать дискомфорта на протяжении всего этого конфликта, потому что она точно знала, как должна вести себя, что бы ни предпринимали девочки, а также потому, что она сумела сконцентрировать свое внимание не на дочерях, а на том, что собиралась делать сама. Она просто оставалась непреклонной и время от времени, что бы ни говорили или ни делали девочки, повторяла лишь одно предложение: «Я хочу, чтобы мне вернули мой свитер». Так прошло несколько часов, после чего она сказала дочерям: «Я хочу, чтобы мне вернули мой свитер, и если я не получу его сегодня вечером, я непременно переверну вверх дном ваши комнаты и выброшу всю вашу одежду в плавательный бассейн». Она явно была готова поступить именно так. В конце концов, Марина не выдержала и, заплакав, сказала: «Подожди! Я одолжила твой свитер подруге. Я только что говорила с ней по телефону. Она принесет его утром». Мы рассказали о том, что следует делать, если ребенок ворует у своих родителей. Ситуация несколько иная, когда ребенок крадет у своих братьев или сестер. В этих случаях вы будете испытывать сильное искушение вновь стать семейным судьей и уладить спор, возможно отругав или наказав злодея. Этого делать не следует. При желании посочувствуйте тому или той, у кого украли. И скажите, что знаете: он или она вполне могут справиться с происшедшим. Так вы поможете ребенку гораздо больше, нежели, сделав все возможное, чтобы вернуть ему украденное. Ребенок, совершивший проступок, также найдет, как справиться с ситуацией, если родители не будут в нее вмешиваться.
Все факторы, которые могут провоцировать ребенка на воровство, должны быть устранены как можно быстрее. Необходимо обратить внимание на все обстоятельства краж; возможно, удастся выявить какие-то закономерности. Как распределяются кражи по времени, всегда ли интервалы между ними приблизительно равны, или они осуществляются как бы «запоями»? Не совпадают ли кражи с какими-то событиями в жизни ребенка, например обострениями отношений в семье, конфликтами в школе, ссорами с друзьями? Не совпадают ли периоды, когда ребенок совершает кражи, с периодами пониженного настроения, плохого сна? Не жалуется ли ребенок в это время на головные боли чаще, чем обычно? Не крадет ли ребенок к концу учебной четверти или после болезней?
Факторы, перечисленные выше, могут провоцировать самые разные нарушения поведения у детей с ослабленной нервной системой или остаточными явлениями травм головного мозга. Возможно, наладив режим, проведя общеукрепляющие мероприятия, удастся прекратить кражи.
Родителям необходимо внимательно относиться к появлению у детей вещей неизвестного происхождения. Предметы, которые ребенок «находит», лучше не оставлять в его собственности. В зависимости от места, где они найдены, их надо отдать вахтеру, учителю, сторожу, в то же время нельзя обвинять ребенка в краже без серьезных на то оснований. Нужно принять версию находки. Если ребенок уличен в краже, он должен быть наказан. Наказание должно быть достаточно серьезным, чтобы ребенок раз и навсегда уяснил себе недопустимость подобных поступков, однако не нужно ломать ребенка. После того как ребенок понес наказание, инцидент следует считать исчерпанным.
Сколько раз приходилось слышать в связи с воровством: «Ничего на него (на нее) не действует. Уж я и так и сяк... Все перепробовала — без толку!»
И бывает нелегко объяснить, что за воровство нужно не просто наказывать, а наказывать очень сурово. Причем независимо от реальной ценности украденного: за ластик точно так же, как за бабушкину пенсию. Чтобы «нельзя» зафиксировалось на уровне рефлекса.
«Да мы его и били, — жаловалась мать тринадцатилетнего мальчика. — Отец даже ремнем врезал». Как ей было втолковать, не боясь показаться монстрами, что для тринадцатилетнего «подростка из подворотни» (а Денис был именно таким) пара ударов ремнем — это «тьфу».' Наказание должно быть соотнесено с ребенком не только в одну сторону — как бы не переусердствовать, но и в противоположную. «Недожать» не менее опасно, чем «пережать». Именно так — не только бессмысленно, но и опасно. Почему? А потому, что воровство — одно из проявлений своеволия, и если взрослый, вступая с ним в борьбу, терпит поражение, то, во-первых, рецидив почти гарантирован, а во-вторых, ребенок утверждается в мысли, что он сильнее взрослого, а, значит, взрослому в следующий раз нужно будет усилить наказание. Снова не поможет — снова усилить. Но ребенок ведь с каждым разом получает своеобразную закалку. И каким тогда, в конечном счете, должно быть наказание, чтобы оно, наконец, подействовало? Казнь через повешение?
Пожалуй, лучше все-таки, стиснув зубы и преодолев вполне естественную жалость, в самый первый раз, не дожидаясь «развития сюжета», наказать воришку как следует, чтобы надолго запомнил, чтобы неповадно было. Поступив так, вы на самом деле пожалеете его гораздо больше. Хотя бы потому, что избавите от страшной судьбы, которая его ждет, если «сюжет» все-таки будет развиваться.
Самое главное, чтобы не было пустых угроз. «Приговор» следует привести в исполнение, и желательно сразу после «раскрытия преступления». Но конечно, не следует «заигрываться». Предположим, если вы видите, что ребенок потрясен рассказом о его проступке одной вашей подруге, то не обязательно рассказывать еще троим. Но надо обязательно дождаться раскаяния и обещания никогда в жизни так не поступать. Причем не вы должны заглядывать ему в глаза и спрашивать: «Ну, ты обещаешь? Ты больше никогда так не будешь делать?», а он Должен прийти к вам и все сказать сам. Помните, что для всех детей, даже для очень демонстративных и своевольных, как бы они ни пытались показать свое безразличие к бойкоту, хорошие отношения с родителями — огромная, ни с чем не сравнимая ценность!
Наказание должно быть неминуемым. Речь не идет о порке или каком-нибудь лишении. Самое страшное для воришки — публичное раскаяние. Нужно убедить ребенка попросить прощения и вернуть украденную вещь Пусть он сделает это не один, а в присутствии родителей (или, в зависимости от ситуации, при участии учителя приятелей, родителей пострадавшего). Чувство стыда которое при этом будет испытано, подействует гораздо эффективнее ремня и нотаций. Ребенку необходимо помочь справиться с последствиями пережитого стресса. Скажите ему, что вы гордитесь его мужеством, потому что открыто признать себя виновным — поступок, заслуживающий уважения. Если кража была совершена сознательно, расскажите, будто читали в газете о мальчике, который не смог вовремя признаться и так запутался в своих ошибках, что... Продолжение истории зависит от впечатлительности вашего сына или дочери.
Если ребенок крадет повторно, нужно очень внимательно проанализировать ситуацию, чтобы верно определить причины, побудившие ребенка красть. Чтобы кражи прекратились, необходимо не просто наказать ребенка, но и устранить причины.
Если же никакого разумного объяснения кражам найти не удается и все испробованные меры не дают результатов, следует обратиться за помощью к специалистам, не дожидаясь, пока ситуация станет совершенно нетерпимой. Нарушения поведения, которые стали хроническими, исправлять значительно трудней. Сначала можно посоветоваться с психологом. При необходимости он порекомендует обратиться к психотерапевту.
Если воровство совершает подросток, который не усвоил элементарных норм поведения: «можно — нельзя». «свое — чужое» и не может себя контролировать, то это может быть связано с недостаточным уровнем интеллектуального и психического развития, тогда необходима консультация психиатра.
Как правильно вести себя с ворующим подростком
Услышав от кого-нибудь, что ваш ребенок ворует, постарайтесь сдержать эмоции. Не вдаваясь в подробности, вежливо, но строго пообещайте во всем разобраться. Помните: ребенок наблюдает за вашей реакцией. Предположим, он ни в чем не виноват (или, по крайней мере, сам так считает), а вы обрушите на него всю силу родительского гнева... Или наоборот: сын или дочь действительно взяли чужую вещь, а вы безоглядно ринетесь на его защиту. Налицо урок двойной морали: для своих ты вор, для чужих — хороший. Значит, чтобы «не наломать дров», сохраняйте холодную рассудительность.
Когда первый шок уляжется, постарайтесь собрать как можно больше объективной информации. Например, если «жертвой» стал одноклассник, расспросите классного руководителя, но не родителей пострадавшего.
Нельзя делать вид, что ничего не случилось. Обязательно скажите ребенку, что знаете о его поступке и хотели бы все обсудить. Не давите на ребенка. Просто попросите, чтобы он сам начал разговор, когда будет готов. Дайте на размышление день или два. Если он считает себя виновным, то это время станет для него нелегким испытанием. А если нет — не сомневайтесь, очень скоро сын или дочь захотят сами прояснить ситуацию.
Забудьте фразу: «Мне некогда, подойди попозже!» Ребенка надо выслушать именно в тот момент, когда он хочет раскрыть душу. Начиная разговор, помните: вы не имеете права занимать позицию судьи. Самый подходящий тон для беседы — заинтересованное участие. Детям легче делать признание, когда они не чувствуют агрессивности со стороны родителей. Однако не переусердствуйте! В вашем голосе должно звучать сочувствие, но никак не одобрение.
Теперь возможны два варианта: ребенок взял чужое «просто так» или сознательно украл вещь в магазине, у друга или незнакомого человека. Рассмотрим первый случай. Строго говоря, это вина родителей: сын или дочь так и не уяснили границы дозволенного. Можно попробовать разобрать ситуацию, рассуждая от обратного: «Предположим, твой друг (чужой человек, продавец в магазине) возьмет твою вещь просто так. Что ты почувствуешь?» Детям младшего и среднего возраста, пожалев себя, легко пожалеть и другого. Подростки более эгоистичны, но их обычно убеждает логичность рассуждения. Воспользуйтесь этим.
Второй случай — более сложный. Если подросток пошел на воровство сознательно, значит, у него, во-первых, нет четких нравственных ориентиров, а во-вторых, имеется чувство глубокой внутренней неудовлетворенности. Разбираться придется по каждой позиции, объясняя, что воровство не просто неприличный поступок, но еще и уголовно наказуемое деяние.
Что делать, когда семья сталкивается с немотивированным воровством как формой поведенческой зависимости у подростка?
По факту совершения кражи вашими сыном или дочерью нужно спокойно и очень тактично разобраться во всем. Слезы, заламывания рук, навешивание ярлыков и выставление личностных оценок — бесполезны. Истерики и нравоучения не нужны, они усугубят ситуацию. Если ваш ребенок украл деньги, это еще не означает, что 0н законченный негодяй. Высказывания типа «Твоя жизнь закончится в тюрьме!» — еще больше усугубят ситуацию и усилят отчуждение между родителями и подростком. Физические наказания и домашние аресты — из арсенала прошлого века. Такая тактика — крайность, которую сразу необходимо исключить. Немотивированное воровство — еще не повод ставить крест на будущем своего ребенка.
Другая крайность — изображать благодушие и делать вид, что все замечательно и хорошо. Проблема воровства как формы поведенческой зависимости отличается закрытостью, неопределенностью, отгороженностью. Эту проблему невозможно решить без откровенного разговора, доверия и уважения. Первые шаги следует делать именно в этом ключе. Поинтересуйтесь, зачем были нужны деньги.
Затем необходимо выяснить истинные мотивы поведения. Это можно сделать только через доверительный контакт. Если ребенок честно сознается, есть повод радоваться. Поговорите о потребностях сына или дочери, объясните, что вам эти потребности понятны, но было бы гораздо лучше, если б он/она просто попросил/а денег. То есть основная линия поведения — ничего сверхстрашного не произошло, все хорошо, но если бы он/она сказал/а родителям, было бы еще лучше.
Далее следует выработать альтернативные способы Удовлетворения потребностей в признании, в самоутверждении, в признании через творчество, учебу, спорт или иные формы самовыражения и конструктивного использования свободного времени. Друзей и хорошее отношение к себе купить за деньги или получить с помощью сладостей или подарков — невозможно.
Нужно присмотреться к жизни своего ребенка и к тому, что с ним происходит. Поговорите о том, как он вообще живет, с кем дружит, что беспокоит, кто не понимает его, обижает и так далее. Ищите причину вместе и вместе устраняйте ее. Старайтесь понимать и, по возможности, удовлетворять разумные потребности подростка (популярная в среде сверстников одежда, экипировка, техника и т. д.). Если не можете совершить покупку сейчас, договоритесь о более далекой перспективе или о том, что можно сделать самому: научиться шить, вязать, где-то подработать, чтобы оплатить хотя бы часть покупки.
Причиной воровства может быть не только попытка самоутвердиться или слабая воля, но и пример друзей, так называемое воровство «за компанию».
В младшем возрасте ребенку часто достаточно объяснить, что он поступает нехорошо, и оградить от общения с подбивающими его на плохие поступки детьми.
В подростковом возрасте все гораздо сложнее. Ребенок сам выбирает себе друзей, и уверения взрослых, что они ему не подходят, могут произвести прямо противоположенное действие. Подросток отдалится от близких и начнет скрывать, с кем и как он проводит время.
Кроме того, совершение краж в определенных компаниях повышает авторитет в глазах товарищей. Иногда ребенок таким образом надеется либо завоевать внимание других детей (если его не замечают), либо откупиться, если его третируют в детском коллективе. В таком случае необходимо помочь ребенку наладить контакты со сверстниками. Например, посоветовать ему найти в своем окружении ребят со сходными интересами, создать им условия для общения дома. Если сложилась особо острая ситуация и ребенка активно не принимают в классе, обратитесь за помощью к школьному психологу.
Иногда подросток ведет себя «неодобряемым способом», желая утвердиться в собственных глазах («Я — сильная личность»), а чаще — в глазах сверстников («Смотрите, какой я храбрый, ловкий, плевать хотел на запреты»). Надо помочь ему переключиться на другие, приемлемые способы самоутверждения. Если это затруднительно сделать своими, родительскими силами, с подростком может поработать психолог.
Как причина воровства возможен протест подростка против излишних запретов и ограничений. Неизбежный родительский контроль не должен быть тотальным и излишне жестким, особенно если речь идет о подростке. Стоит пересмотреть семейный кодекс вместе с сыном или дочерью, предоставив им больше прав (не забывая об обязанностях).
Иногда родители, сами того не осознавая, формируют У детей неадекватные установки по отношению к воровству. Например: «Вот наш сосед воровал годами с производства — и живет теперь припеваючи», «Работаешь честно, надрываешься, —а что толку?» и т. д. Ребенок или подросток делает свои выводы: зачем работать, если есть более легкие и ненаказуемые в мире взрослых пути. Мотивом может стать и месть за незаконно нажитое богатство более удачливым сверстникам или их обеспеченным родителям.
В таких случаях остается надеяться, что подростка удастся остановить в начале пути. Самое же эффективное средство — воздерживаться от подобных разговоров при детях. Лучше направить усилия на то, чтобы помочь ребенку развить его сильные стороны. Ведь за счет них он сможет утвердиться в жизни, не завидуя никому и не считая денег в чужих карманах.
Не исключены и случаи вымогательства у ребенка или подростка денег, вещей сверстниками или ребятами постарше. Здесь необходимы правовые меры. Важно иметь доверительные отношения с сыном или дочерью. Тогда вероятность, что эта стрессовая для ребенка ситуация перейдет в хроническую, очень мала.
Дайте подростку понять, как вас огорчает то, что происходит, но старайтесь не называть происшествие «воровством», «кражей », « преступлением ». Попробуйте вместе найти выход из сложившейся ситуации. Помните — это должно быть совместное решение, а не ваш приказ.
И в заключение — «золотые» слова американского психолога Дороти Лоу Нолт, которые нужно помнить каждому родителю.
Если ребенок живет в атмосфере критики, он учится порицать.
Если ребенок живет в обстановке враждебности, он учится воевать.
Если ребенок живет в атмосфере страха, он учится бояться.
Если ребенок окружен жалостью, он учится жалеть самого себя
Если ребенок окружен насмешками, он учится робеть.
Если ребенок окружен ревностью, он учится завидовать.
Если ребенок живет чувством стыда, он учится чувствовать себя виноватым.
Если ребенок чувствует поощрение, он учится быть уверенным в себе.
Если ребенок живет в атмосфере терпимости, он учится быть терпимым.
Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным.
Если ребенок живет в атмосфере любви, он учится любить.
Если ребенок чувствует одобрение окружающих, он учится любить себя.
Если ребенок живет в атмосфере признания, он начинает понимать, как хорошо иметь цель.
Если вокруг ребенка все делятся друг с другом, он учится щедрости.
Если ребенок живет среди честных и справедливых людей, он поймет, что такое правда и справедливость, и никогда не станет воровать.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева Т. В. Семейная психология: Учебное пособие. СПб., 2004.
2. Антипова И. Г. Воровство в детском возрасте: анализ причин и коррекция // Детский психолог. 1995, № 9, 10.
3. Байярд Р. Т., Байярд. Ваш беспокойный ребенок. М., 1995.
4. Баркан А. И. Его величество Ребенок: какой он есть. Тайны и загадки. М., 1996.
5. БоулбиД. Привязанность / Пер. с англ. М., 2003. » 6. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. М., 2001.
7. ВиткинД. Мужчина и стресс. СПб., 1996.
8. Воспитание трудного ребенка: дети с девиантным поведением / Под ред. М. И. Рожкова. М., 2001.
9. Вострокнутов Н. В. Типология делинквентного поведения детей и подростков: социально-средовые, эмоционально-личностные и психопатологические факторы риска // Социальная дезадаптация: нарушения поведения у детей и подростков. М., 1996.
10. Гаврилова Т. П. Почему ребята берут деньги из дома. М., 2001.
11. Гаврилова Т. П. Почему ребята берут чужое. М., 2001.
12. Гаврилова Т. П. Детские кражи: причины и следствия // Директор школы. 2001, № 3.
13. Гаврилова Т. П., Давыдова Э. X. Детское домашнее воровство как объект исследования и психотерапии // Школа здоровья. 1991, № 1.
14. Гуткина Н. И. Несколько случаев из практики школьного психолога. М., 1991.
15. Давыдова Э. X. Истоки детского домашнего воровства // Детский практический психолог, 1995, № 7.
16. Дармодехин С. В. Беспризорность детей в России // Педагогика. 2001, № 5.
17. Дубровина И. В. и др. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 1999.
18. Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. СПб., 2000.
19. Злобин Л. М. О природе асоциального поведения несовершеннолетних // Вопросы психологии. 1973, № 4.
20. Исколъдский Н. В. Исследование привязанности ребенка к матери в зарубежной психологии // Вопросы психологии, 1985, № 6.
21. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста. М., 1995.
22. Кон И. С. Психология ранней юности. М., 1989.
23. Коростелева С. Читаю им басни Эзопа // Воспитание школьников. 2006, № 7.
24. Костина Е. Клептомания — детское воровство. Проблемы воровства у детей // Она. 2006.
25. Кочетов А. И. Мужчина и женщина: отношения полов. Минск, 1989.
26. Кочубей Б. И. Мужчина и ребенок. М., 1990.
27. Кравцова М. М. Маленький воришка // Няня. 2001, №11.
28. Кравцова М. М. Если ребенок берет чужие вещи. М.,2002.
29. Крайг Г. Психология развития. М.; СПб., 2002.
30. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998.
33.Кукк В. Воровство: поведенческая зависимость 2006.
34.ЛичкоА. Е. Подростковая психиатрия. М., 1985.
35.Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. СПб., 1999.
36.Нелидов А. Л., Щелина Т. Т. Психолого-медико-социальная коррекция ребенка с синдромом раннего воровства // Начальная школа. 2002, № 9.
37.Олиферентсо Л. Я. и др. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учебное пособие. М., 2002.
38.Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. М., 1990.
39.Пискунов А. А. и др. Рождение гражданина. СПб., 2001.
40.Попова Т. А. Клептомания или почему ребенок ворует, 2006.
41.Протопопов А. Этологический анализ случая детской клептомании. 2006.
42.РайнпрехтХ. Если дети воруют...// Защити меня! 2006, № 2.
43.Развитие личности в условиях психической депривации / Под ред. И. В. Дубровиной. М., 1991.
44.РаттерМ. Помощь трудным детям /Пер. с англ. М., 1999.
45.Раттер М.,ГидлерД. Преступность несовершеннолетних: тенденции и перспективы. М., 1998
46.РеанА.А. Семьи и дети группы риска: проблемы профилактики преступности несовершеннолетних // Мир детства. 2004, № 4.
47.Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности / Пер. с нем. М., 1994.
48.Родители в ответе за воспитание детей: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л. М. Шипицыной. СПб., 2002.
48. Санадзе И., Орлова С. Психоаналитический консультационный центр. Детское воровство, 2006.
49. Смирнова Е. О. Теория привязанности: концепция и эксперимент. // Вопросы психологии. 1995, № 3.
50. Спок Б. Ребенок и уход за ним / Пер. с англ. Н. А. Перовой. Архангельск, 1990.
51. Тандит С. Детское воровство: от 3 до 16 // Первое сентября, 2006.
52. ФенькоА. Почему дети воруют
53. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. М., 1989.
54. Хухлаева О., Бубнова Г. Привязанность. Психологическая поддержка дошкольников в свете теории привязанности Дж. Боулби // Школьный психолог. 2006, № 11.
55. Шипицына Л. М. Психология детей-сирот: Учебное пособие. СПб., 2005.
56. Шипицына Л. М., Иванов Е. С, Виноградова А. Д. и др. Развитие личности ребенка в условиях материнской депривации. СПб., 1997.
57. Nolte D. L. Children Learn What They Live. N.Y., 1954.
58. Winnicott D. W. Therapeutic Consultation in Child Psychiatru. N.Y., 1971.
Людмила Михайловна Шипицына
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА
Учебное пособие
Главный редактор И. Авидон
Заведующая редакцией О. Гончукова
Технический редактор О. Комиссарова
Директор Л. Янковский
Подписано в печать 20.03.2007 Формат 60 х 90 1/16. Печ. л. 18 Тираж 3000 экз. Заказ № 3955
ООО Издательство «Речь»
199178, Санкт-Петербург, а/я 96, «Издательство "Речь"»
Тел. (812) 323-76-70
sales@rech.spb.ru
Интернет-магазин: www.rech.spb.ru
Представительство в Москве: (495) 502-67-07, rech@online.ru
За пределами России вы можете заказать наши книги в Интернет-магазине www.internatura.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография "Наука"»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12
Скачано с www.znanio.ru
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.