
Содержание
Введение ………………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Определение и характеристики городской агломерации ……………. 7
1.1. Понятие городской агломерации ………………………………………… 7
1.2. Структура городской агломерации …………………………………...… 11
1.3. Механизмы формирования и развития городской агломерации …….. 15
Глава 2. Анализ практики выделения и управления городскими агломерациями в России …………………………………………………………………………. 23
2.1. Методы выделения городских агломераций ……………………………… 23
2.2. Практика выделения городских агломераций в России …………………. 37
Глава 3. Управление процессом построения и перспективы развития городских агломераций в России ………………………………………………………….. 48
3.1. Правовое регулирование управления развития и государственная политика по отношению к городским агломерациям ……………………………………. 48
3.2. Управление развитием городских агломераций в России на локальном уровне …………………………………………………………………………… 61
3.3. Оценка эффективности (результативности) государственной политики управления развитием городских агломераций и предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере ………………………. 73
Заключение ………………………………………………...…………………… 83
Список использованных источников ………………………………………….. 89
Введение
Современная ситуация актуализирует вопрос о формировании и развитии городских агломераций. Мировой опыт показывает, что городская агломерация представляет собой рациональную форму использования территорий, благодаря данному процессу происходит создание единого социально-экономического и инвестиционного пространства.
Целью агломерации в XXI веке является становление базы развития крупных городов, в качестве оптимальной формы расселения жителей. Считается, что развитие населенного пункта внутри городской агломерации должно дать ему существенные преимущества. То есть в большинстве случаев агломерационный процесс может дать значимый социальный и экономический эффект, а также предоставляет возможность повысить качество и уровень жизни населения.
Термин «агломерация», применительно к расселению, впервые использовал французский географ М. Руже в начале 19 века. По утверждению данного автора, агломерация возникает в случае концентрации городских видов деятельности за пределами административных границ и распространения на соседние населенные пункты. Близкие агломерации термины «конурбация» и «конгломерация» впервые были упомянуты шотландским профессором Патриком Геддесом, рассматривавшим в своих научных трудах новые формы группировки поселений.
В отечественной науке термин «городская агломерация» впервые появился благодаря П.И. Дубровину. Толкование данного понятия впоследствии получило развитие в научных трудах Г.М. Лаппо, В.Л. Глазычева, Д. И. Богорада, Е.Г. Анимицы, П.М. Поляна, Н.Ю. Власовой и других выдающихся отечественных ученых. В обиходном употреблении термин утвердился в 1970 - 1980х годах и использовался под разными названиями. Это и «хозяйственный округ города» - термин, введенный А. А. Крубером, и «агломерация» - понятие, используемое М. Г. Диканским.
Основанием научных представлений о городской агломерации как социальном феномене являются концепции, которые были разработаны в рамках экономической теории, экономической географии и социологии. Агломерация рассматривается как результат размещения в пространстве поселений, которые объединены плотными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями. Агломерация формируется и развивается в соответствии с закономерностями пространственного развития, которое характеризуется неравномерным экономическим ростом центра города и потребностью общества в рациональном распределении потоков информации, капитала, товаров и рабочей силы. Агломерация, как правило, создается при развитии интенсивных социально-экономических связей между населенными пунктами, и содействует повышению их взаимозависимости, а также возникновению ряда социокультурных и политических эффектов.
В рамках данной работы, агломерация рассматривается, как компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Во время агломерационного процесса переплетаются экономические, природоохранные, социальные и иные интересы. Важная особенность агломерационного процесса – сохранение самостоятельности административно-территориальных единиц, между которыми остается очень плотное взаимодействие. Как правило, при агломерационном процессе на первом месте стоят экономические интересы, однако социальная составляющая имеет также большую значимость и проблемность. Создание агломераций не является простой задачей, как и в любых других ситуациях, существуют проблемы.
Вместе с тем хаотичное развитие агломераций несет в себе множество рисков, к которым относятся негативные внешние эффекты в сферах транспорта, миграции, в землепользовании и экологии, повышение нагрузки на инфраструктуру и др.
Эффективное управление городскими агломерациями может частично снизить влияние негативных экстерналий и усилить позитивные агломерационные процессы.
Результаты зарубежных исследований говорят о том, что существует множество моделей управления агломерациями, однако, универсальных схем нет, которые можно было бы применить к России.
Таким образом, по-прежнему остается множество вопросов в теоретическом понимании сущности агломерационных процессов в современной России, а также в разработке конкретных методик диагностики ситуации и оценки перспектив городских агломераций.
Целью исследования является комплексное изучение особенностей управления и перспектив развития городских агломераций в России.
Объект исследования: особенности управления городскими агломерациями в России.
Предмет исследования: теоретические и практические механизмы управления по созданию и развитию агломераций в России.
Исходя из цели исследования предполагается решить следующие задачи:
- Изучить понятие городской агломерации;
- Проанализировать структуру городской агломерации;
- Дать оценку механизмам формирования и развития городской агломерации;
- Раскрыть методы выделения городских агломераций;
- Рассмотреть практику выделения городских агломераций в России;
- Разобрать проблемы правового регулирования управления развития и государственной политики по отношению к городским агломерациям;
- Рассмотреть управление развитием городских агломераций в России на локальном уровне;
- Провести оценку эффективности (результативности) государственной политики управления развитием городских агломераций и предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.
Практическая значимость работы заключается в выявлении и анализе проблем и внесение предложений по реформированию системы управления, что в перспективе может способствовать оптимизации процесса агломерации в России.
Структура работы соответствует ее цели и задачам и состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе восемь параграфов, заключения и списка использованных источников.
Глава 1. Определение и характеристики городской агломерации
1.1. Понятие городской агломерации
Городские агломерации как особые формы территориальной организации общества возникли не ранее конца XIX века и к середине XX века были осмыслены как самостоятельный феномен и объект научного исследования.
Термин «агломерация» стал фигурировать в урбанистическом контексте уже с конца XIX века, и чаще всего честь первого его использования в значении, близком к современному, приписывают американскому социологу Э. Уэберу в работе «Рост городов в XIX веке» (1899 г.). Сложная и многосторонняя природа феномена агломераций способствовала тому, что свой вклад в их теорию в начале-середине XX века внесли представители самых разных областей знания: экономисты (А. Маршалл, А. Вебер), экономико-географы (В. Кристаллер, А. Леш), социо-географы (Ж. Боже-Гарнье), архитекторы (К. Доксиадис). Концептуализацию агломераций в логике теории расселения обычно относят к началу 1970-х годов и связывают с работами французского географа М. Руже. Примерно с этого времени опора на агломерации при рассмотрении урбанизационных процессов стала общепринятой.
Отечественная наука в этом плане почти не отставала от мировой. Признаки агломерационного подхода можно обнаружить уже в работах В. П. Семенова-Тян-Шанского, М. Г. Диканского, А. А. Крубера 1910–1920-х годов, а в более или менее современном понимании агломерационная теория была воспринята советской наукой к 1960-м годам. Хотя некоторые наиболее консервативные и идеологизированные советские геоурбанисты остались на скептических позициях по отношению к агломерациям[1], их точка зрения быстро стала маргинальной в научном мейнстриме.
Наиболее классическим для российской науки ее определением можно признать определение, данное Г. М. Лаппо: «компактная пространственная группировка поселений[2], объединенных многообразными интенсивными связями в сложную многокомпонентную динамическую систему»[3].
Известно также более развернутое, двухчастное определение П. М. Поляна: «городская агломерация – компактная и относительно развитая совокупность взаимодополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких мощных городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями в сложное и динамическое единство; это тот ареал, то пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей современного крупного города и его спутниковой зоны»[4].
В приведенных определениях в первую очередь важен акцент на присущем агломерациям единстве. Это единство выражается в общих для агломерации рынках (труда, жилья, услуг и пр.), общей инфраструктуре и общем пространстве социальных коммуникаций.
Вторая часть определения П. М. Поляна интерпретирует агломерацию в логике поведения населения. Человек может жить в одном городе, ежедневно ездить на работу в другой город, время от времени посещать театр или выставку в третьем городе, а на выходные выезжать на дачу или в гости к друзьям в отдаленный пригород.
Таким образом, квалифицирующими признаками городской агломерации являются территориальная близость населенных пунктов, их компактность и наличие связей между ними. Компактность, в свою очередь, может выражаться различными способами – через плотность населения и/или застройки или через отсутствие «разрывов» в застройке.
Эти признаки неравнозначны. Ключевой из них – наличие связей; именно связи делают агломерацию агломерацией. Остальные признаки скорее создают условия для возникновения и укрепления связей. И эти условия необходимы, но не достаточны: вполне можно представить компактную совокупность территориально сближенных и плотно застроенных населенных пунктов, связи между которыми по каким-то причинам недостаточно интенсивны. В таком случае можно говорить только о наличии «потенциальной» агломерации, поскольку искомое единство пока не возникло.
Большинство предлагавшихся отечественными исследователями определений агломерации так или иначе комбинируют признаки из приведенной «триады», иногда подробнее раскрывая какие-то из них. Например, по Ю. Л. Пивоварову, «агломерация – компактная территориальная группировка городских и сельских поселений, объединенная в сложную локальную систему многообразными интенсивными связями – трудовыми, производственными, коммунально-хозяйственными, культурно-бытовыми, рекреационными, природоохранными, а так-же совместным использованием разнообразных ресурсов данного ареала»[5], по Е. Н. Перцику, агломерация – это «группа близко расположенных городов, поселков и других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями и интенсивными маятниковыми передвижениями»[6], по В. Я. Любовному, агломерация – «это скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями»[7].
Все эти определения демонстрируют функционально-морфологический подход к трактовке агломераций. За функциональную составляющую в них «отвечает» связность, за морфологическую – территориальная сближенность и компактность (плотность).
«Официальное» определение городской агломерации, включенное в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года[8] (далее также – Стратегия пространственного развития, СПР), также базируется на приведенных функционально-морфологических определениях, но добавляет к ним количественный порог: «Городская агломерация – совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 250 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями».
Установившееся в российской науке понимание городской агломерации в целом соответствует мировой традиции – с той важной поправкой, что в этой сфере единая международная терминология не выработана. Это касается и самого понятия агломерации.
В конечном счете все эти понятия опираются все на те же три квалифицирующих признака агломерации: территориальную сближенность населенных пунктов, плотность населения/застройки и связность. В зависимости от того, на какой из этих признаков делается больший упор при идентификации агломераций, различаются разные подходы к этой идентификации.
Дискуссионным является вопрос о пороге численности населения, начиная с которого городская агломерация при прочих равных условиях является таковой. Стратегия пространственного развития, определяет этот порог на уровне 250 тысяч человек, численность населения метрополитенских статистических ареалов США официально должна превышать 50 тысяч человек. Советская методика делимитации агломераций, разработанная в 1970-х гг. Институтом географии АН СССР, устанавливала порог в 300 тысяч человек (250 тысяч для ядра и 50 тысяч – для периферии), альтернативная ей методика, разработанная ЦНИИП градостроительства, понижала этот порог до 150 тысяч человек (100 тысяч для ядра и 50 тысяч для периферии), причем дополнительно оговаривала порог численности городского населения (110 тысяч человек). В некоторых методиках порог численности населения устанавливается только для ядра агломерации и также сильно различается от методики к методике[9].
При этом важно подчеркнуть, что численность населения в качестве основания для классификации агломераций – не просто формальный количественный критерий. Применительно к агломерациям достижение некоторой достаточно высокой людности предполагает не только количественный прирост, но и выход на определенный качественный уровень развития. Поэтому можно утверждать, что более крупные агломерации, как правило, характеризуются более высоким уровнем развития по сравнению с менее крупными.
1.2. Структура городской агломерации
Структура агломераций может быть довольно сложной, но любая из них морфологически членится на одно или несколько ядер (центров) и периферию (спутниковую зону). Агломерации с единственным ядром называются моноцентрическими, с несколькими – полицентрическими.
По отношению к полицентрическим агломерациям иногда также используется термин «конурбация», этот термин весьма многозначен как в русском, так и в английском языках – он может употребляться и как синоним агломерации вообще, вне зависимости от количества центров[10], и как обозначение наиболее плотно застроенного сегмента урбанизированной территории, и еще в ряде других значений.
Далее - моноцентрические агломерации, как, с одной стороны, более распространенных в России и, с другой стороны, лучше «освоенных» в плане методологии выделения и оценки развитости; привлечение полицентрических агломераций будет специально оговариваться. Несмотря на интуитивно понятные место и роль ядра в пределах агломерации, его дефиниция вызывает некоторые проблемы. Для отечественной научной традиции, особенно на ранних этапах развития агломерационной теории, было характерно отождествление ядра агломерации с ее центральным (крупнейшим) городом, и это отождествление зачастую происходило «по умолчанию», неотрефлексированно. Так, Г. М. Лаппо применительно к ядру агломерации употреблял термин «город-центр»[11], это же понятие встречается в работах П. М. Поляна, Е. Н. Перцика. Но такая трактовка фактически подменяет сущностный – функциональный или морфологический – подход административным, то есть формальным[12]. Очевидно, что границы агломерации не обязаны совпадать с границами единиц административно-территориального деления (далее также – АТД) или муниципальных образований – значит, и ее ядро не обязано замыкаться в официальных границах города. Причем оно может быть как больше, так и меньше этих границ.
Как было отмечено выше, в международной практике ядро обычно выделяется внутри агломераций по морфологическим критериям – чаще всего, по плотности застройки или наличию / отсутствию в ней разрывов. В этой логике ядро может быть меньше «номинального» города, если территория последнего включает в себя слабо урбанизированные и малонаселенные участки, или больше его, если сплошная плотная застройка простирается за пределы городской черты.
Предложим следующее определение: ядро агломерации – наиболее населенная и плотно застроенная территория в пределах агломерации, на которую замыкается большинство внутриагломерационных связей.
В свою очередь, периферию проще всего определить «по остаточному принципу» как территорию агломерации за пределами ядра, включающую как городские, так и сельские населенные пункты, связанные с ядром. Здесь надо отметить, что традиционная дихотомия городского и сельского расселения, и в целом постепенно уходящая в прошлое, в пределах агломераций тем более утрачивает смысл. Демограф Ж. А. Зайончковская сформулировала концепцию «интегрированного» расселения, характерного для агломераций и синтезирующего сельское и городское расселение[13].
Периферия агломерации неоднородна: внутри нее принято различать несколько концентрических зон – т. н. поясов, для каждого из которых характерна своя степень интенсивности взаимосвязей с ядром, убывающая от пояса к поясу по мере удаления от ядра. Соответственно, в наиболее удаленном от ядра поясе эта интенсивность минимальна, и внешняя граница этого пояса, за которой связи прекращаются, является одновременно границей агломерации. По Г. М. Лаппо, «там, где связи сходят на нет, вернее, там, где их величина не достигает определенного минимума, проходит внешняя граница агломерации, отделяющая ее от остальной территории»[14].
Важно подчеркнуть, что граница агломерации – это не жестко определенный барьер, а, скорее, буферная зона. Само ее расположение в пространстве зависит от того, каким способом и с какой точностью оценивать интенсивность связей. Вдобавок эта зона подвижна, и ее подвижность может быть разнонаправленной в разные периоды.
В пределах одного пояса характеристики внутриагломерационной связности также варьируют. В частности, более выражены эти характеристики при прочих равных условиях вдоль полос, примыкающих к важнейшим магистралям, по которым следуют основные миграционные потоки. «Рельеф» агломераций усложняет и система «горизонтальных» связей между периферийными территориями, минующих центр. В моноцентрических агломерациях они менее значимы, чем «вертикальные» связи по линии «периферия – ядро», но чем более развита агломерация, тем они интенсивнее. Населенные пункты, расположенные на периферии агломерации и связанные с ядром – т. н. «спутники» – обладают иерархичностью. Наиболее крупные из них, концентрирующие наибольшее число функций, приобретают роль агломерационных субцентров. Теоретически некоторые субцентры могут по мере развития превратиться в полноценные конкуренты ядра, и агломерация таким образом из моноцентрической способна стать полицентрической.
На рисунке 1 схематично представлена типичная структура моноцентрической городской агломерации.
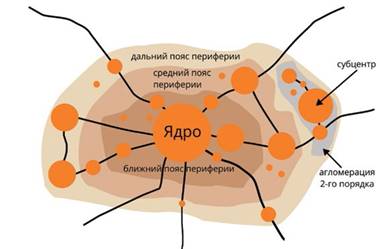
Рис. 1. Структура моноцентрической городской агломерации
1.3. Механизмы формирования и развития городской агломерации
Основной движущей силой возникновения городских агломераций признается стремление субъектов к агломерационному эффекту: экономическому выигрышу вследствие территориальной концентрации ресурсов, производств и иных экономически важных объектов. Начиная с А. Маршалла, впервые рассмотревшего этот феномен в начале XX века, теория агломерационного эффекта получила широкое распространение, а в урбанистическом контексте она стала особенно популярной с появлением концепции «новой экономической географии» П. Кругмана и М. Фудзиты. Однако агломерационный эффект – это необходимое, но не достаточное условие возникновения агломерации. Он может наблюдаться и вне городских агломераций, а для «вызревания» агломерации на конкретной территории не меньшее значение имеют и иные факторы. Их роль можно проиллюстрировать на примере выявленных Г. М. Лаппо двух основных моделей возникновения агломераций: «от города» и «от района»[15] (рис. 2).
В первой модели первичен рост существующего города, сталкивающегося с недостатком территориальных ресурсов, ухудшением экологической ситуации и увеличением нагрузки на инфраструктуру. Пытаясь решить эти проблемы, город в лице действующих на его территории экономических субъектов и/или органов публичной власти выносит часть своих наиболее территориально-емких и экологически критичных функций за пределы городской черты. Параллельно за город в поисках более комфортной среды переселяется и часть состоятельных жителей, стимулируя развитие жилых пригородов. Вместе с тем, растет и привлекательность города для внешних субъектов – мигрантов и инвесторов, и некоторые из них, стремясь в город и не имея возможности сразу обосноваться в его пределах, «оседают» на подступах к нему. На стыке этих встречных потоков возникает сеть спутников вокруг города, специализирующихся на разных обслуживающих город функциях – они формируют агломерационную периферию. Сам же город трансформируется в ядро агломерации.
Фактор агломерационного эффекта в этой модели имеет значение только для центростремительного вектора формирования агломерации. Центробежный же вектор – не менее критичный для возникновения агломерации – инспирируется совершенно иным фактором, который можно назвать фактором отрицательных внешних эффектов. Таким образом, моноцентрические агломерации являют собой продукт не только концентрации, но и, как это ни парадоксально, деконцентрации.
Во второй модели роль агломерационных эффектов значительнее. Эта модель характерна для территорий, богатых некоторым видом ресурсов.
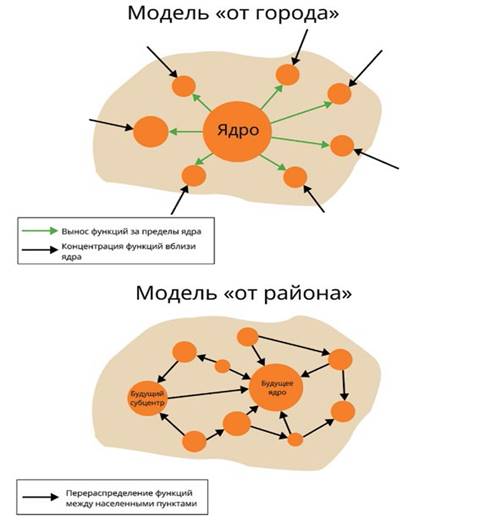
Рис. 2. Модели возникновения городской агломерации «от города» и «от района» (по Г. М. Лаппо)
Ресурс тут первичен: именно его эксплуатация стимулирует появление и рост сети населенных пунктов, приуроченных к местам его концентрации. Со временем какой-то из этих населенных пунктов в силу тех или иных причин начинает опережать прочие по темпам роста, концентрировать все больше функций и стягивать к себе все больше потоков, превращаясь таким образом в ядро формирующейся агломерации; «отстающие» населенные пункты, в свою очередь, становятся агломерационными субцентрами.
Смещение фокуса внимания исследователей на экономические механизмы агломерирования в последние десятилетия породило тенденцию разделения самой трактовки агломерации на «расселенческую» и «экономическую». К примеру, в обзорной статье Е. Антонова, Д. Куликова и М. Савоскул описаны два подхода к определению понятия агломерации. Первый авторы называют «функционально-расселенческим» и отмечают, что в соответствии с ним агломерация – это «прежде всего сложно устроенная расселенческая структура». Второй подход, по мнению авторов, рассматривает агломерацию как «экономическую категорию», и в соответствии с ним «агломерации формируются естественным образом как проявление «агломерационных эффектов»…»[16].
Экономические факторы, оказывают определяющее влияние на генезис агломераций, но это влияние осуществляется через размещение людей в пространстве – то есть через расселение. Пространственное расположение экономических субъектов не может быть отделено от населения, обслуживающего их и потребляющего создаваемые этими субъектами блага. И идентифицируются агломерации в конечном счете именно по расселенческим признакам.
С формированием агломерации ее развитие, не останавливается, выбор точки, в которой мы полагаем агломерацию сформировавшейся – условность, предмет научного консенсуса. Любая агломерация пребывает в состоянии постоянной трансформации. В частности, подвижны ее границы, причем в этой подвижности присутствуют как долговременные, так и сезонные тенденции. Так, развитие средств коммуникации способствует удлинению «плеча» агломерационных связей и, как следствие, последовательному расширению границ агломераций: сегодня площадь среднестатистической агломерации больше, чем 30 лет назад.
В наиболее урбанизированных районах территориальный рост агломераций закономерно ведет к их сближению. Соседние агломерации, расширяясь, «накладываются» друг на друга, скрепляются связями и в итоге фактически срастаются, образуя более сложные, надагломерационные формы расселения. Вслед за французским географом Ж. Готтманом, предложившим этот термин в 1950-х гг., их принято называть «мегалополисами». Классический пример мегалополиса – непрерывная цепь агломераций на Атлантическом побережье США, включающая, в частности, агломерации Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона. В России, по мнению большинства экспертов, сложившихся мегалополисов пока нет, идут дискуссии о наиболее вероятных кандидатах на эту роль в перспективе (чаще всего в качестве такового называется территория, объединяющая Московскую и Нижегородскую агломерации с зонами их влияния)[17].
Трансформация агломераций идет не только «вширь», но и «вглубь»: изменяются их структура, конфигурация и интенсивность агломерационных связей, степень интеграции населенных мест внутри агломерации. Закономерности траекторий «жизненного цикла» агломераций пока еще исследованы относительно слабо; агломерация – слишком сложный и слишком молодой объект для комплексного изучения паттернов его эволюции. Имеются, вместе с тем, ряд концепций, формализующих хотя бы отдельные стороны этого многокомпонентного процесса.
Так, с конца прошлого века известны стадиальные модели «типовой» трансформации структуры агломерации, в основном восходящие к более общей теории Дж. Джиббса о стадиях урбанизации как таковой. Джиббс интерпретировал урбанизацию как спиралевидный процесс, для которого характерна смена волн собственно урбанизации и дезурбанизации на фоне качественной эволюции происходящих процессов. Соответственно, и трансформация агломераций как «проекция» урбанизации на ограниченном пространстве трактуется в этой же логике. Наиболее известна модель Л. Клаассена и Г. Шимеми, согласно которой агломерации проходят в общем случае 4 стадии:
1) численность населения ядра растет за счет периферии;
2) численность населения периферии растет и опережает по темпам рост численности населения ядра;
3) численность населения ядра сокращается на фоне роста либо стабилизации численности населения периферии;
4) численность населения ядра возобновляет рост.
Это довольно сильно упрощенная модель: как можно заметить, она все агломерационные процессы сводит к демографическим, а всю структуру агломерации – к дихотомии «ядро-периферия», причем оба эти элемента воспринимаются как гомогенные пространства. Процессы перераспределения ресурсов внутри ядра и внутри периферии, изменения уровня связности внутри агломерации и т. п. остаются за рамками модели Клаассена и Шимеми.
Пример более комплексного взгляда на стадиальность эволюции агломераций представлен А. Нещадиным и А. Прилепиным[18]. Они выделяют следующие четыре стадии:
1) агломерацию объединяют преимущественно производственные связи;
2) с усилением центростремительных потоков маятниковых миграций формируется единый рынок труда агломерации;
3) в агломерации формируется единое функционально связанное пространство, причем ряд функций выносится из ядра на периферию, возникают новые единые агломерационные рынки, в частности, единый рынок недвижимости;
4) агломерация встраивается в глобальные экономические процессы, на ее территории развивается инфраструктура «умного города», характерная для постиндустриального этапа развития.
Ряд исследователей уделяют внимание отдельным аспектам эволюции структуры агломераций, наиболее характерным (критичным) для текущего этапа их функционирования. В частности, большую известность получила возникшая в 1990-х гг. концепция edge cities (окраинных городов) Дж. Гарро. Окраинные города – это особая разновидность «точек роста» агломераций, населенные пункты-спутники, находящиеся, как правило, у границ агломераций и замыкающие на себя наибольшее число горизонтальных связей. Постепенно такие города перетягивают из ядра часть центральных функций и эволюционируют в локальные внутриагломерационные субцентры.
Субцентры могут возникать и, наоборот, у границ ядра. Наименее продуктивна для их возникновения срединная зона агломерационной периферии. Естественный итог развития локальных субцентров внутри наиболее крупных и развитых агломераций – формирование вокруг них агломераций второго порядка (такая агломерация изображена вблизи субцентра и на рисунке 1). К примеру, в границах Московской агломерации исследователи выделяют свыше 20 «младших» агломераций[19] (Мытищинско-Щелковскую, Долгопрудненско-Химкинскую, Люберецко-Раменскую и др.). Периферии таких агломераций наслаиваются друг на друга, формируя сложный рельеф пространства социальных и экономических взаимодействий. «Материнская» же агломерация приобретает тем самым «матрешечную» структуру.
Таким образом, городские агломерации – это динамичные организмы, жизнь которых «вмонтирована» в общую логику процесса урбанизации. Они возникают там, где для этого есть соответствующие условия, и сами подвержены эволюции как сложные системы внутри еще более сложных систем расселения. Поскольку как минимум некоторые из аспектов функционирования этих систем могут быть оценены качественно, в логике поступательного движения «от простого к сложному» или «от худшего к лучшему», эту эволюцию можно трактовать как развитие и говорить о более и менее «развитых» агломерациях. Впрочем, относительно того, что именно следует понимать под развитостью агломерации и как ее рассчитывать, существуют разные точки зрения.
Глава 2. Анализ практики выделения и управления городскими агломерациями в России
2.1. Методы выделения городских агломераций
На сегодня в мире накоплен богатый опыт разработки и применения на практике различных методов и методик выделения городских агломераций. Некоторые методики имеют официальный статус и применяются как государствами, так и международными организациями, такими как ООН, ОЭСР, Евросоюз[20]. В России подобная «официальная» или хотя бы общепринятая методика отсутствует, а в исследованиях на эту тему используются разнообразные методики, опирающиеся зачастую на разные подходы и применяющие разные методы.
Выбор методики выделения агломерации определяется как доступностью необходимых данных и ресурсов, так и, не в последнюю очередь, целеполаганием.
Чаще, выделение агломерации проводится с некоторой практической целью, то есть имеет прикладной характер. Можно выделить следующие основные разновидности таких практических целей:
1) идентификация объектов поддержки со стороны государства;
2) определение границ, в которых будут разрабатываться единые или скоординированные концепции, документы социально-экономического и территориального планирования развития агломерации;
3) определение ареала реализации крупных проектов или программ, в том числе межмуниципального характера;
4) получение статистической информации для принятия управленческих решений.
Выделяемая агломерация в каждом случае будут выполнять разную роль: объекта поддержки, объекта планирования, территории реализации проекта и пространства для организации взаимодействия, ячейки для сбора и обобщения статистической информации. Соответственно, будет различаться и набор методов выделения, причем, если ставится цель определения ареала реализации агломерационного проекта, эти методы могут варьировать и в зависимости от типа проекта.
Как следствие, границы агломерации, выделенной на одной и той же территории, но с разными прикладными целями, необязательно совпадут – как между собой, так и с «академическими» границами. И это – нормальная ситуация. Различия границ одной и той же агломерации, определенных разными методиками, совершенно необязательно свидетельствуют о недостатках какой-то из методик либо ошибках их применения: они могут просто отражать разные приоритеты при выделении. Вместе с тем, территорию на пересечении всех альтернативных «прикладных» версий агломерации можно рассматривать как своего рода бесспорную, «заведомую» агломерацию. Именно на основе таких территорий логично формировать, в частности, ячейки статистического учета.
Наряду с разными целевыми установками на выбор методов выделения агломерации влияет масштаб исследования. В зависимости от этого масштаба все существующие методики выделения агломераций принято делить на два типа: индивидуальные и универсальные[21].
В индивидуальных методиках решается задача идентификации и установления границ конкретной агломерации. Целью этой деятельности чаще всего является определение территории агломерации, для которой разрабатывается концепция или стратегия долгосрочного развития или применительно к которой реализуется конкретный проект или программа.
Универсальные методики разрабатываются с прицелом на большой массив агломераций, например, на все агломерации в пределах макрорегиона или страны. Наиболее распространенная цель применения этих методик – формирование ячеек для сбора статистической информации, но также может преследоваться, например, цель определения круга объектов государственной поддержки в рамках политики интенсификации развития «точек роста» на территории региона или страны в целом.
Индивидуальные методики опираются на уникальные данные об исследуемой агломерации, в том числе собираемые в ходе полевых и социологических исследований, а универсальные методики оперируют, как правило, базовыми статистическими и геоинформационными данными, в равной мере доступными для всех территорий. Разница подходов и методов обусловливает сравнительные достоинства и недостатки обоих типов методик. Индивидуальные методики позволяют решить задачу выделения агломерации максимально точно, но затрудняют сравнительный анализ агломераций, так как инструменты, использованные для одной агломерации, могут оказаться неприменимыми для других. Универсальные же методики хороши «конвертируемостью», обусловливающей широкую применимость, но ее оборотная сторона – большое количество допущений, снижающих точность оценки.
Между этими двумя типами методик нет непроницаемой границы, многое, в частности, зависит от ресурсов, которыми располагают исследователи. Развитие современных технологий, позволяющих собирать и обрабатывать большие объемы данных для большого числа территорий в сжатые сроки, ведет к сближению индивидуального и универсального подходов.
В общем случае первым этапом выделения агломерации является идентификация ее ядра. Очевидно, что в основе ядра должен находиться город, достаточно крупный и экономически развитый, чтобы «собрать» вокруг себя агломерацию. Но отождествлять границы этого города с границами ядра агломерации, как отмечено выше, методически неверно. Для делимитации ядра требуется свой инструментарий, опирающийся преимущественно на морфологические критерии.
В России эта часть относится к наименее проработанным аспектам методик выделения агломераций. Как исключение можно отметить исследования А. Э. Райсиха, в которых большое внимание уделяется именно делимитации ядер агломераций. Он предлагает выявлять ядра по методике, близкой к используемой для делимитации урбанизированных ареалов в США. Основным критерием в этой методике выступает плотностной критерий расстояния между зданиями и сооружениями, причем для застройки вдоль автомобильных дорог используются свои пороговые значения[22][23].
В свою очередь, зарубежный опыт в этом плане довольно обширен. Чаще всего для идентификации ядер агломераций используется параметр плотности населения. Как пример можно привести начальную фазу алгоритма выделения функциональных урбанизированных ареалов, разработанного ОЭСР и используемого Евростатом[24]. На первом шаге этот алгоритм предусматривает выделение так называемых «городских центров» – ядер агломераций. В соответствии с алгоритмом на территорию накладывается сетка с ячейками площадью 1 кв. км и выявляются ячейки с плотностью населения свыше 1500 чел./кв. км. Если совокупная численность населения таких смежных ячеек превышает 50 тыс. чел., они вместе формируют городской центр. Сложившиеся границы населенных пунктов при этом в расчет не принимаются: выстраиваемые таким образом «снизу вверх» ядра могут территориально не совпасть с официально определенными городами.
Также распространенным методом идентификации ядер агломераций является анализ ночного освещения на спутниковых снимках. Наиболее освещенные территории признаются при прочих равных условиях частями ядра. Как правило, этот критерий используется совместно с критерием плотности застройки, то есть от сегментов территории требуется не только достаточный уровень освещенности, но и отсутствие разрывов между ними.
За выделением ядра следует этап делимитации агломерации, то есть определения ее границ. Поскольку, как отмечено выше, агломерации характеризуются постепенным снижением интенсивности центр-периферийных связей по направлению от ядра, все существующие методики делимитации агломераций принимают в качестве границы агломерации линию, соединяющую точки с минимальной интенсивностью связей с ядром. Ключевое значение, таким образом, приобретает выбор критериев оценки этой интенсивности: критериев связности.
Используемые критерии связности, исходя из опыта их применения на практике, можно разделить на базовые и вспомогательные.
Базовые критерии, как правило, формируют основу методик делимитации, и для оценки по таким критериям используются достаточно строгие количественные методы. Наиболее распространенными и первыми по времени возникновения базовыми критериями являются транспортная доступность от периферии до ядра агломерации и доля жителей периферии агломерации, работающих на территории ядра.
Оценка транспортной доступности проводится путем расчета времени, необходимого маятниковым мигрантам для того, чтобы добраться от некоторой точки за пределами ядра агломерации до ядра с учетом существующей транспортной ситуации. Точки берутся на основных магистралях, соединяющих ядро потенциальной агломерации с периферией. Определяется пороговое значение транспортной доступности, превышение которого означает, что мигранту затруднительно в ежедневном режиме перемещаться между периферией и ядром. Следовательно, точки с превышенным порогом доступности при прочих равных условиях признаются находящимися за пределами агломерации.
Чаще всего в качестве такого порогового значения принимается 1,5 часа[25] при нормальной загруженности дорог, что по-разному теоретически обосновывается. В отечественной науке такое обоснование предложил Г. А. Гольц, установив зависимость между средней продолжительностью рабочего дня и средним временем трудовой поездки (так называемая «константа Гольца»)[26]. Исходя из его расчетов 3 часа в сутки для городской агломерации признаются предельной величиной времени, при которой поездка субъективно не воспринимается как дискомфортная[27]. Нередко, впрочем, приемлемой признается и двухчасовая доступность в один конец. Также в некоторых методиках используются разные пороговые значения доступности для разных периодов, например, отдельно для часов пик и «внепикового» времени.
Далее строится система изохрон – линий, соединяющих точки с равной временной доступностью до ядра. Территории, ограниченные изохронами, соответствуют поясам агломерационной периферии: так, получасовая транспортная доступность, оцениваемая специалистами как наиболее комфортная, обычно используется для выделения границ первого пояса агломерации. В свою очередь, изохрона, соединяющая точки с пороговой доступностью, соответствует границе агломерации.
Относительный недостаток метода изохрон транспортной доступности заключается в том, что он позволяет оценить потенциальную, а не реальную связность: мы ведь не знаем, какая часть жителей периферии, имеющих удобный транспортный доступ к ядру, де-факто этим доступом пользуется. Поэтому метод изохрон обычно несколько «завышает» территорию агломераций. Тем не менее, при прочих равных условиях он весьма надежен, а с появлением Гугл- и Яндекс-карт с сервисом расчета временной доступности он стал существенно менее трудоемким, чем раньше.
Оценка доли жителей периферии агломерации, работающих на территории ядра, проводится путем либо анализа статистики маятниковых миграций, либо, если такая статистика не ведется – офлайновых или онлайновых социологических опросов жителей потенциальной агломерационной периферии. В анкеты обычно включаются вопросы о частоте поездок в ядро агломерации и целях таких поездок. Соответственно, граница агломерации фиксируется там, где доля респондентов, положительно отвечающих на вопрос о поездках в ядро, достигает порогового значения.
Этот метод в целом точнее, чем метод изохрон транспортной доступности, потому что оценивает фактическую, а не потенциальную связность. В то же время в отсутствие регулярной статистики маятниковых миграций он более трудоемок по сравнению с методом изохрон транспортной доступности, так как опросы требуют высокой степени репрезентативности, и применим преимущественно в рамках методик первого типа (индивидуальных). За рубежом, где статистический учет маятниковых миграций ведется систематически, этот метод более распространен, в то время как в России, где такой статистики нет, предпочитают опираться на метод изохрон транспортной доступности. Поэтому, большинство функциональных урбанизированных ареалов, полученных в результате применения к российским урбанизированным территориям методики ОЭСР, опирающейся на вовлеченность населения в маятниковые миграции, оказались более чем в 2 раза меньше по площади и на 10–20% меньше по численности населения соответствующих агломераций, выделенных в соответствующих региональных документах стратегического планирования.
Разновидностью критерия доли жителей периферии, работающих на территории ядра, является «обратный» ему критерий: доля рабочих мест на территории ядра, занятых жителями периферии. Использование этого критерия также требует наличия специфического статистического учета либо проведения опроса работодателей. Применяется он реже, чем «прямой» критерий.
В рамках индивидуальных методик используются и менее «традиционные» критерии связности, предполагающие проведение полевых обследований, которые, тем не менее, также можно отнести к базовым. Пример такого критерия – пространственное распределение наружной рекламы. Границей агломерации в соответствии с этим критерием служит линия, на которой доля рекламы товаров и услуг, реализуемых на территории ядра, достигает некоторого минимума. Недостатком такого подхода, помимо общей трудоемкости, является то, что не всегда можно достаточно точно идентифицировать и локализовать целевую аудиторию той или иной конкретной рекламы. Кроме того, частота расстановки рекламных щитов может быть неравномерной по разным направлениям.
В последнее десятилетие информатизация общества и развитие средств коммуникации привели к существенному расширению методического арсенала для определения границ агломераций – как по индивидуальным, так и по универсальным методикам. В частности, появились методы, опирающиеся на анализ «больших данных». Среди них наибольшим потенциалом для использования в целях делимитации агломераций обладают большие данные, генерируемые мобильными устройствами населения[28].[29] Так, данные операторов мобильной связи позволяют локализовать местоположение обоих абонентов при совершении телефонного звонка и, соответственно, очертить круг общения жителей агломерации. Чем ближе к границе агломерации, тем у среднестатистического абонента на ее территории ниже доля телефонных собеседников среди жителей ядра агломерации и выше доля собеседников, проживающих за пределами агломерации. Кроме того, «большие данные» позволяют определить местоположение пользователей мобильных устройств в разные периоды и таким образом получить более точное представление о направлении потоков маятниковых миграций, чем при использовании методов соцопросов и анализа статистики.
Минус этого метода – ограниченный доступ к необходимым для исследования данным. Их требуется приобретать у операторов мобильной связи, причем в идеале для повышения репрезентативности нужны данные разных операторов, так как их представленность на территории агломерации может быть неравномерной. Также эти данные не учитывают возможное наличие более одной SIM-карты у абонента и людей, у которых нет мобильных телефонов либо имеются примитивные телефоны, ограниченно генерирующие «большие данные». В силу дороговизны и трудоемкости этого метода он более применим в индивидуальных, нежели универсальных методиках.
Также для делимитационных целей в контексте «больших данных» могут быть использованы данные социальных сетей, фиксирующие места жительства, учебы и работы пользователей. До некоторой степени эти данные могут заменять данные социологических обследований при отсутствии возможности их проведения. Но надо иметь в виду, что пользователи далеко не всегда указывают в социальных сетях реальные сведения о себе и могут не указывать их вообще.
Вспомогательные критерии используются в качестве дополнения к базовым критериям и обычно носят контрольный характер по отношению к ним, позволяя принимать решение об отнесении к агломерации спорных территорий, которые по одним базовым критериям входят в агломерацию, а по другим – не входят. Для оценки связности по таким критериям не применяются строгие количественные методы, что и обусловливает их вспомогательную роль. Основными методами оценки являются экспертные интервью и контент-анализ СМИ, и в результатах такой оценки велика доля субъективных заключений.
К наиболее распространенным вспомогательным критериям можно отнести следующие:
– наличие и интенсивность экономических связей между бизнес-субъектами на территориях муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию;
– наличие и интенсивность политических и культурных связей между органами местного самоуправления муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию;
– функционирование в пределах потенциальной агломерации общих рынков труда, жилья, недвижимости и пр.;
– степень интегрированности инфраструктур муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию, например, наличие сетей коммунальной инфраструктуры, обслуживающих несколько муниципальных образований.
Принцип «морфологические критерии – для выделения ядра, функциональные критерии – для делимитации агломерации» на практике корректируется доступностью данных. Для применения критериев связности в среднем требуется лучшая информационная обеспеченность. Всемирный Банк в 2018 году на примере «Большой Джакарты» провел сравнительный анализ различных методов выделения агломераций или, в терминологии Всемирного Банка, метрополитенских ареалов. По итогам этого анализа был сделан вывод, что в развивающихся странах для выделения агломераций, в силу дефицита достоверных данных о транспортных потоках и маятниковых миграциях, предпочтительнее опираться на морфологические критерии, анализируя спутниковые снимки или рассчитывая плотность населения по ячейкам[30].
Особое место в ряду критериев делимитации агломераций занимает так называемый гравитационный критерий. В логике этого критерия размеры агломерации находятся в зависимости от людности ядра, и эта зависимость выражается различными формулами. Приведем формулу, предложенную С. Н. Соколовым для делимитации агломераций Ханты-Мансийского автономного округа[31]:
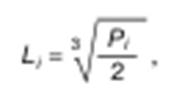
где Li – расстояние от ядра до границы агломерации (км), Pi – численность населения ядра (человек).
Очевидно, что гравитационный критерий позволяет выделить границы не реально существующей, а потенциальной агломерации – или, точнее, оценить потенциал ядра для формирования агломерации. Поэтому можно согласиться с А. Э. Райсихом в том, что основанные на этом критерии модели более пригодны для проверки результатов применения различных методик делимитации (с точки зрения соответствия реальности потенциалу), нежели, собственно, для делимитации[32].
Применение каждого из использованных в рамках выбранной методики базовых и вспомогательных критериев, дает на выходе разные конфигурации территории, предположительно входящей в агломерацию. Это, нормально, так как взаимодействие акторов в разных сферах может иметь различную направленность и интенсивность. За агломерацию в таком случае может приниматься территория на пересечении всех полученных конфигураций с отсечением территорий, не попадающих в агломерацию по одному или нескольким критериям.
Важно подчеркнуть, что выделение агломерации как прикладная задача обычно не завершается фиксацией границ, выделенных описанными методами. Эти границы почти наверняка не совпадут с существующими административными или муниципальными границами; в теории они могут даже сечь территории населенных пунктов. Для «академической» агломерации это не важно, но для «прикладной» – в высшей степени критично. В пределах такой агломерации нельзя ни собирать статистику, ни создавать организационные структуры управления ее развитием, то есть теряется собственно прикладное значение. Поэтому в большинстве случаев определенную научными методами границу агломерации приводят к границам существующих единиц административно-территориального деления и/или муниципальных образований. Именно из этих соображений и ядро агломерации чаще всего принимается в границах центрального города, некорректность чего в общем случае мы отмечали выше. Но это – вынужденная необходимость.
Это приведение к существующим границам также может быть формализовано. Простейший вариант: установление минимальной доли населения или площади административной (муниципальной) единицы, которая должна попадать на территорию выделенной агломерации, при достижении которой эта единица туда включается целиком. Но применяются и более тонкие методы, в том числе учитывающие, опять же, связность. Так, упомянутая выше методика выделения функциональных урбанизированных ареалов ОЭСР вслед за делимитацией ядра предусматривает формирование так называемого «города», в состав которого, наряду с ядром, включаются территории окружающих единиц административно-территориального деления, не менее 50% населения которых проживает в ядре. На завершающем же этапе к «городу» присоединяется периферия, идентифицируемая как территория, не менее 15% жителей которой работает в «городе», и она также привязывается к ячейкам территориальной организации местного самоуправления или АТД. Полученная совокупность территорий, выделенных по разным признакам, но привязанных, за исключением ядра, к административной сетке, и составляет в итоге функциональный урбанизированный ареал (рис. 3).
Разумеется, при таком подходе очень большое значение приобретает характер нарезки административных (муниципальных) единиц. Если эта нарезка достаточно дробна, то, с учетом отмеченных выше условности и изменчивости агломерационных границ как таковых, такая «подгонка» не слишком искажает реальность. Но чем крупнее административные (муниципальные) ячейки, тем более приблизительными и менее адекватными реальности становятся приведенные к ним агломерационные границы.
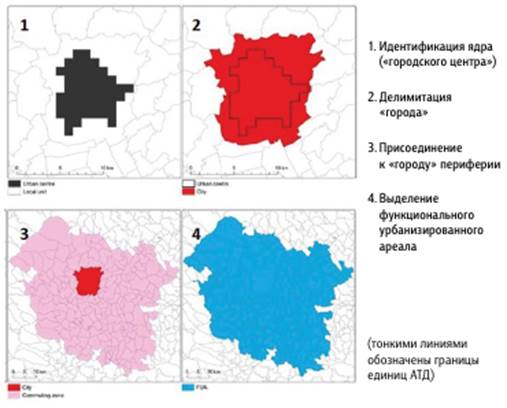
Рис. 3. Схема выделения функционального урбанизированного ареала по методике ОЭСР на примере ареала города Грац (Австрия)
В завершение отметим, что объектом идентификации и делимитации необязательно должна быть сложившаяся, объективно существующая агломерация. Вполне допустима и продуктивна постановка задачи выделения территории, имеющей потенциал для оформления в качестве агломерации. Для решения этой задачи используются те же методы и критерии, что и для выделения существующих агломераций, с той только разницей, что пороговые значения индикаторов связности устанавливаются на более низком. Эти задачи могут и совмещаться, если в рамках одного исследования устанавливаются как фактическая граница агломерации, соответствующая текущим уровню и конфигурации связей, так и ее перспективная граница, исходя из гипотезы о расширении территории агломерации со временем.
2.2. Практика выделения городских агломераций в России
Проиллюстрируем применяемые на практике подходы к делимитации городских агломераций на примере нескольких методик, изложенных в доступных материалах с разной степенью подробности. Они касаются Челябинской, Красноярской, Новосибирской, Екатеринбургской, Томской и Самарско-Тольяттинской агломераций. Все эти методики относятся к типу индивидуальных.
Челябинская агломерация
Опыт выделения Челябинской агломерации – один из первых в России опытов научной делимитации агломерации, проведенных в практических целях формирования системы управления агломерационным развитием. Этот же опыт и наиболее хорошо изучен, и детально представлен: на его основе в 2008 году была опубликована монография[33], содержащая, наряду с описанием собственно челябинского кейса, краткий обзор основных моделей управления развитием агломераций в мире.
Методика выделения Челябинской агломерации включала в себя две группы базовых методов – анализ транспортной доступности и размещения наружной рекламы – и ряд вспомогательных методов, позволявших откорректировать результаты, полученные основными методами.
За пороговое значение транспортной доступности был принят 1 час, что примерно соответствовало 1,5 часа в часы пик. Доступность оценивалась отдельно для легкового автомобильного, автобусного и железнодорожного транспорта, причем для каждого вида транспорта использовались разные методы анализа: анализ расписаний, контрольные поездки, полевые наблюдения за транспортными потоками.
Анализ размещения наружной рекламы проводился методом полевых наблюдений на основных магистралях, соединяющих город Челябинск с пригородной зоной. В качестве контрольных методов использовались социологические опросы о связях населения периферии с ядром и анализ естественных барьеров.
Границы агломерации, выделенные в ходе данного исследования, не были привязаны к границам муниципальных образований: одни муниципальные районы, окружающие Челябинский городской округ, были отнесены к агломерации целиком, другие – частично. Впоследствии в рамках Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года[34] эти границы были расширены до границ соответствующих муниципальных образований, плюс к ним была добавлена территория Кунашакского муниципального района, которая по итогам исследования не была идентифицирована как входящая в агломерацию даже частично.
Стоит также отметить, что в 2018 году была разработана Стратегия социально-экономического развития Челябинской агломерации до 2035 года как часть Стратегии пространственного развития Челябинской области (в открытом доступе этот документ не представлен). В рамках ее разработки было проведено новое исследование по выделению границ агломерации – на сей раз по методике ОЭСР. По результатам этого исследования территория агломерации оказалась еще меньше, чем по результатам исследования 2008 года[35]. Однако на трактовке границ агломерации в действующей Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года эти результаты не отразились.
Красноярская агломерация
Работы по выделению Красноярской агломерации проводились в 2008 г. по заказу Министерства строительства и развития архитектуры Красноярского края в рамках разработки схемы территориального планирования (СТП) агломерации. Эти работы были частью масштабного проекта по развитию Красноярской агломерации; наряду с СТП, планировалось разработать Концепцию комплексного развития, Стратегию социально-экономического развития и инвестиционный паспорт агломерации. Большинство этих планов не удалось реализовать: была разработана только СТП, и ту утвердили лишь в 2017 г.
К сожалению, методика делимитации в проекте СТП[36] представлена очень сжато. Указано только, что территория агломерации определена как «ареал наиболее интенсивных внутриагломерационных социальных и экономических взаимосвязей в пределах в основном 1,5-часовой доступности на общественном транспорте. От центра агломерации была определена зона радиусом в 60 км, в которой, по мере совершенствования транспортных средств, возможно организовать часовую транспортную доступность на общественном транспорте…». Использовались ли иные критерии делимитации, помимо транспортной доступности, неясно. Кроме того, как следует из приведенного описания, целенаправленно оценивалась потенциальная, а не реально существующая доступность.
Главы семи муниципальных образований, вошедших в выделенные границы агломерации, в 2008 году подписали соглашение об организации и осуществлении инвестиционного проекта «Комплексное развитие Красноярской агломерации на период до 2020 г.»[37]. Однако после смены власти в крае работы по развитию агломерации застопорились. Вновь к этой проблеме обратились в конце 2010-х годов, но агломерация трактовалась уже иначе. Новое соглашение по развитию Красноярской агломерации в 2019 году подписали уже 11 муниципальных образований[38] – к первоначальному числу подписавших добавились еще четыре, не попадавшие в выделенные в результате исследования границы. Основания для столь заметного расширения агломерации не приводились.
Новосибирская агломерация
Краткая информация о методике выделения Новосибирской агломерации имеется в первоначальной редакции Схемы территориального планирования Новосибирской области[39]. Согласно этой информации, территория агломерации определена исходя из 2-часовой доступности на общественном транспорте (50–60 км от центра города). В пределах агломерации выделена «внутренняя часть» (де-факто первый пояс), обслуживаемая пригородными железнодорожными и автобусными маршрутами. Границы агломерации указаны с точностью до поселений.
В действующей редакции СТП Новосибирской области упоминание об агломерации отсутствует. Тем не менее, в 2014 г. была разработана отдельная СТП Новосибирской агломерации, при этом территория агломерации по сравнению с первой редакцией СТП Новосибирской области была расширена, в том числе за счет трех муниципальных районов, первоначально не включенных в нее даже частично. С тех пор границы агломерации официально не менялись: они же фигурируют в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года[40], а в мае 2015 г. муниципальные образования в пределах этих границ подписали Соглашение о создании и совместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской области[41].
Екатеринбургская агломерация
Делимитация Екатеринбургской агломерации проводилась в 2016 г. по заказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в рамках НИР «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации». Выявленные в ходе этой работы границы Екатеринбургской агломерации нашли отражение в Схеме территориального планирования Свердловской области[42].
Это одна из наиболее детально изложенных методик выделения агломераций из числа доступных[43]. Примененные в ней критерии оценки агломерационной связности и инструменты получения первичных данных представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Критерии оценки агломерационной связности и инструменты, использованные при выделении Екатеринбургской агломерации
|
№ |
Критерий |
Инструменты |
|
|
1 |
Транспортная доступность ядра (в пределах 1,5-часовой изохроны) |
Не указаны |
|
|
2 |
Непрерывность застроенной территории в зоне примыкания к ядру агломерации |
Google maps |
|
|
3 |
Вовлеченность в маятниковую миграцию не менее 15% трудоспособного населения |
Социологический опрос населения |
|
|
4 |
Наличие единого рынка труда (интенсивных двухсторонних временных трудовых миграций между ядром и периферией) |
Социологический опрос населения |
|
|
5 |
Транспортная связность |
Данные Росавтодора о движении автомобилей по дорогам федерального значения общего пользования, соединяющим Екатеринбург с другими региональными центрами Данные об интенсивности пригородного автобусного и железнодорожного сообщения |
|
|
6 |
Наличие связей между хозяйствующими субъектами муниципальных образований агломерации |
Экспертные интервью с представителями администраций муниципальных образований |
|
Выделенные с помощью указанных критериев границы привязывались к границам муниципальных образований. На данной части территории Свердловской области они представлены исключительно городскими округами, притом довольно обширными по площади. Применение различных критериев дало разный набор муниципальных образований, потенциально входящих в агломерацию, и в итоге входящими в состав агломерации были приняты муниципальные образования, попадающие туда по критериям непрерывности застройки и миграционных связей.
Томская агломерация
Более комплексная методика использовалась в 2015 г. для выделения агломерации «Томск – Северск – Томский район»[44]. Эта работа проводилась в рамках разработки Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития данной агломерации (далее – Концепция) и учитывала достаточно широкий набор критериев:
– транспортная доступность территории;
– интенсивность маятниковой миграции;
– единый рынок труда;
– единый рынок недвижимости;
– общие объекты обслуживания;
– тесные экономические связи.
К сожалению, в тексте Концепции не указаны ни конкретные количественные (пороговые) значения, на основании которых проводилась делимитация, ни методы сбора информации для расчета значений по большинству указанных критериев.
Исключением является критерий транспортной доступности, информация о применении которого в Концепции представлена. На основе этого критерия была выделена территория собственно агломерации или ее «внутренний контур». Граница внутреннего контура определена исходя из часовой средневзвешенной транспортной доступности от центра ядра. Это значение может показаться заниженным, но авторы методики, наряду с внутренним контуром, вводят также понятие «внешнего контура» агломерации, выделяемого по «предельной зоне экономического влияния агломерационных факторов». Внешний контур на данный момент не признается частью агломерации, но отмечено, что внутренний контур со временем будет расширяться в сторону внешнего контура. Таким образом, разработчики исходят из представлений о динамичности агломерации, что является достоинством методики.
Внутри внутреннего контура выделен «ближний контур» в пределах 45-минутной транспортной доступности. Заслуживает также внимания нестандартный в российской практике подход к выделению ядра агломерации: оно не установлено механически в пределах границ города Томска, но и не выявлено по морфологическим критериям, а определено также на основании транспортной доступности от центра города – в данном случае получасовой. В итоге «истинное» ядро не совпало с официальной городской чертой. С одной стороны, в него не попали левобережная часть города и поселок Апрель, с другой стороны, в него вошли часть территории ЗАТО Северск и Зональненское сельское поселение Томского района.
По итогам исследования границы агломерации были привязаны к границам поселений. В Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года[45] территория агломерации была расширена до территории городских округов Томск и Северск и Томского муниципального района в целом.
Самарско-Тольяттинская агломерация
Делимитация Самарско-Тольяттинской агломерации проводилась в 2014 г. в рамках разработки схемы территориального планирования агломерации[46].
Надо отметить, что сам факт наличия этой агломерации относится к дискуссионным в научной среде. Некоторые специалисты сомневаются в существовании Самарско-Тольяттинской агломерации как сложившегося единого целого, полагая, что корректнее говорить о двух (Самарской и Тольяттинской), а то и трех (также Сызранской) агломерациях, стремящихся к интеграции. Разработчик СТП также склонялся к этой точке зрения, отмечая, что «говорить о формировании в настоящее время полноценной Самарско-Тольяттинской агломерации (конурбации) пока еще рано». Поэтому объект делимитации определен в данном случае как «ареал формирования Самарско-Тольяттинской агломерации», а его определяемые границы – как «перспективные границы Самарско-Тольяттинской агломерации».
С этой поправкой на «перспективность» примененная методика делимитации концептуально рассматривала Самару и Тольятти как равноценные ядра бицентрической агломерации. Поэтому мероприятия по делимитации проводились дважды: для Самары и для Тольятти, а перспективные границы агломерации в целом получались объединением границ Самарской и Тольяттинской агломераций.
Для определения этих границ применялась трехэтапная методика, включающая количественные и качественные методы:
– опрос жителей об интенсивности и характере связей с ядром агломерации;
– анализ концентрации населения в рамках агломерации;
– построение изохрон транспортной доступности.
Для построения изохрон, как и применительно к Красноярской и Екатеринбургской агломерациям, использовалось пороговое значение в 1,5 часа. Отдельно были отмечены скоростные условия: «за среднюю скорость сообщения на автодорогах федерального значения необходимо принимать за пределами городов – ядер агломераций скорость в 60 км/час, на автодорогах регионального или межмуниципального значения – 50 км/час, на автодорогах местного значения 40 км/час. За среднюю скорость сообщения на УДС необходимо принимать в пределах городов – ядер агломераций скорость в 20 км/час».
Выявленные в результате исследования перспективные границы Самарско-Тольяттинской агломерации сохранили актуальность и в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года[47]. Муниципальные образования, попавшие в границы этой агломерации, в этом же составе 14 февраля 2014 года пописали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации.
Таким образом, подходы к выделению агломераций, применяемые субъектами Российской Федерации в отсутствие общепринятой федеральной методики, довольно разнообразны. Как следствие, они не вполне корреспондируют друг с другом, что затрудняет сравнительный анализ территорий агломераций даже в рамках одного макрорегиона.
За исключением методики, примененной для выделения Томской агломерации, ни одна методика не включает в себя идентификацию ядра: за ядро агломерации принимается территория центрального города. Фактически выделение агломераций в большинстве случаев сводится к их делимитации.
При этом, несмотря на широкий в целом набор используемых методов делимитации и критериев связности, только два критерия можно счесть общепринятыми (табл. 2). Единственный метод, используемый во всех методиках без исключения – анализ транспортной доступности. Некоторые методики, по сути, только к этому методу и сводятся. Относительно распространен также анализ вовлеченности населения в маятниковую миграцию, выявляемой, как правило, путем проведения социологических обследований. Прочие методы, предполагающие опору на иные критерии, используются реже и носят в основном вспомогательный характер.
Таблица 2.
Применение критериев связности в рассмотренных методиках выделения агломераций
|
№ |
Критерий |
Агломерации |
|||||
|
Челябинская |
Красноярская |
Новосибирская |
Екатеринбургская |
Томская |
Самарско-Тольяттинская |
||
|
1. |
Транспортная доступность |
+ (1,5 часа) |
+ (1,5 часа) |
+ (2 часа) |
+ (1,5 часа) |
+ (1 час) |
+ (1,5 часа) |
|
2. |
Вовлеченность населения в маятниковую миграцию |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
3. |
Концентрация населения |
|
|
|
|
|
+ |
|
4. |
Непрерывность застроенной территории |
|
|
|
+ |
|
|
|
5. |
Размещение наружной рекламы |
+ |
|
|
|
|
|
|
6. |
Единый рынок труда |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
7. |
Единый рынок недвижимости |
|
|
|
|
+ |
|
|
8. |
Наличие общих объектов обслуживания |
|
|
|
|
+ |
|
|
9. |
Экономические связи между хозяйствующими субъектами |
|
|
|
+ |
|
|
|
10. |
Естественные барьеры |
+ |
|
|
|
|
|
Отчасти эта методическая ограниченность объясняется несовершенством российской статистики и, в частности, отсутствием доступных статистических данных, пригодных для применения в делимитационных целях. Некоторые потенциально важные данные (например, параметры маятниковых миграций) статистикой вообще не фиксируются, другие собираются не ниже, чем на уровне субъектов Российской Федерации. Другой причиной наблюдаемого положения дел, являются трудоемкость и затратность применения «нестандартных» методов выделения агломераций.
В некоторых рассмотренных примерах территории агломераций, закрепленные в итоге в плановых документах или межмуниципальных соглашениях, оказались существенно больше территорий, выделенных по результатам научных исследований. И это, в общем, до известной степени обесценивает результаты исследований.
Тем не менее, накопленный в регионах опыт выделения агломераций, при всех его ограничениях, вполне может служить опорой для разработки единой методики универсального типа, в соответствии с которой можно было бы достаточно точно идентифицировать границы крупнейших агломераций страны.
Глава 3. Управление процессом построения и перспективы развития городских агломераций в России
3.1. Правовое регулирование управления развития и государственная политика по отношению к городским агломерациям
Первым из федеральных документов стратегического планирования, в котором эта проблематика нашла отражение, стала принятая в 2008 году Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, также известная как Стратегия-2020[48]. В Стратегии -2020 одним из направлений долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации было провозглашено «развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой». В тексте документа упоминались и некоторые конкретные городские агломерации, но само это понятие никак не раскрывалось, даже на уровне общей характеристики. Не было оно включено и в федеральное законодательство.
С 2016 года в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранс России совместно с субъектами Российской Федерации приступил к разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций. Агломерации таким образом впервые были осознаны государством как объект стратегического планирования, но пока только отраслевого.
Именно благодаря Минтрансу России в документах федерального уровня наконец появилось определение агломерации, и первым таким документом стал как раз паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»[49]. В нем было указано: «Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения».
Важно отметить, что в письме Минтранса России «О составе дорожной сети городской агломерации» наряду с приведенным выше определением агломерации содержалось – опять же, впервые в официальных документах – и описание методического подхода к выделению агломераций, впрочем, без указания количественных параметров[50].
Первым комплексным документом стратегического планирования федерального уровня, закрепившим определение агломерации, стала Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года[51]. Причем в первоначальной редакции Стратегии пространственного развития от 13 февраля 2019 г. присутствовали два отдельных определения крупной и крупнейшей городской агломерации, но распоряжением Правительства Российской Федерации № 1704-р[52] эти определения были дополнены «синтезированным» определением городской агломерации как таковой. Позднее аналогичное определение городской агломерации было включено в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года[53].
Ввиду статуса Стратегии пространственного развития как основополагающего федерального документа стратегического планирования именно содержащееся в нем определение агломерации можно считать на сегодня базовым для государственной политики: «Городская агломерация – совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 250 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями».
Попытки закрепления понятия городской агломерации на уровне федерального закона предпринимались неоднократно, и ближе всего к решению этой задачи подошли в 2020 году, когда Минэкономразвития России подготовило проект федерального закона «О городских агломерациях»[54]. Содержавшееся в нем определение городской агломерации не совпадало ни с одним из представленных в правовом поле определений и имело отчетливо «административный» характер: «Городская агломерация – это территория городского округа либо городского округа с внутригородским делением, либо города федерального значения, объединенная с территориями иных муниципальных образований устойчивыми социальными, экономическими и хозяйственными связями». Однако эта попытка оказалась неудачной и в Государственную Думу Российской Федерации так и не был внесен.
Само же понятие городской агломерации с четким определением и юридически значимыми количественными критериями можно было бы включить в существующие федеральные законы, например, в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[55], Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»[56], Градостроительный кодекс РФ[57].
Если же все же остановиться на модели принятия отдельного федерального закона «об агломерациях», то его предметом могли бы стать особенности осуществления публичной власти на территориях крупных и крупнейших городских агломераций. Принятие такого закона допускает новая редакция статьи 131 Конституции Российской Федерации[58].
Артикулированная государственная политика в сфере развития городских агломераций – агломерационная политика – начала формироваться в России не ранее середины 2010-х годов.
В 2013 году в целях реализации Стратегии-2020 приказом Министерства регионального развития Российской Федерации была создана Межведомственная рабочая группа по социально-экономическому развитию городских агломераций[59]. Ее задачами в соответствии с утвержденным тем же приказом положением были провозглашены:
– отбор пилотных городских агломераций в целях разработки типовых экономических, организационных, финансовых и правовых механизмов превращения городских агломераций в центры динамичного экономического роста;
– подготовка предложений по формированию технического задания по разработке стратегии развития крупных городских агломераций;
– рассмотрение и оценка инвестиционных проектов развития крупных городских агломераций;
– подготовка предложений по формированию проектов нормативных правовых актов, направленных на решение проблем в сфере формирования и развития городских агломераций.
Для поэтапного решения этих задач Правительством РФ был разработан план действий («дорожная карта») «Развитие агломераций в Российской Федерации». Дорожная карта предусматривала как совершенствование законодательного регулирования и методическое обеспечение, так и практические действия. Была начата реализация т. н. «пилотного проекта» по развитию агломераций в Российской Федерации[60]. Однако реализация дорожной карты в целом потерпела неудачу, в том числе и потому, что заложенная в нее логически обоснованная последовательность действий оказалась нарушена. Еще до закрепления основных принципов государственной политики и направлений законодательного регулирования агломераций был сформирован перечень 15 пилотных агломераций[61], принцип отбора и цели и задачи развития которых в рамках пилотного проекта не были четко сформулированы.
После ликвидации Минрегиона России в 2014 году функции управления развитием агломераций перешли к Минэкономразвития России. Межведомственная рабочая группа по развитию агломераций была формально переучреждена приказом Минэкономразвития России, но фактически не вела какой-либо деятельности.
Вторая попытка систематизации федеральной политики по отношению к агломерациям была предпринята в 2019 году с принятием Стратегии пространственного развития, включившей городские агломерации в число объектов региональной политики государства. Агломерации были охарактеризованы как «перспективные центры экономического роста Российской Федерации», благодаря развитию которых обеспечивается «расширение географии и ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации». Отдельно также было декларировано содействие межмуниципальному взаимодействию в рамках агломераций «в целях формирования документов стратегического планирования, формирования единой градостроительной политики, решения общих социально-экономических проблем, в том числе инфраструктурных и экологических».
При этом в Плане мероприятий по реализации Стратегии пространственного развития[62] (далее – План мероприятий) эти приоритеты и направления были конкретизированы недостаточно четко, а заявленные мероприятия не были выполнены либо были выполнены с существенным опозданием.
В частности, так и не были приняты федеральные законы о городских агломерациях и о внесении изменений в законодательные акты РФ в части развития городских агломераций и межмуниципального сотрудничества (п. 70 и 71 Плана мероприятий). Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях (п. 72 Плана мероприятий) была утверждена только в 2021 году[63], при этом План мероприятий по реализации Концепции[64] не содержит специфических для агломераций мероприятий и направлен на развитие креативных индустрий в целом.
Наиболее существенным реализованным мероприятием Плана мероприятий является утверждение Правил согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития (далее также – ДПР) крупных и крупнейших городских агломераций[65] (п. 73 Плана мероприятий). Однако эти Правила регламентируют главным образом процедурные вопросы разработки и утверждения ДПР; требования к содержанию этих документов, их правовой статус и место в системе региональных и муниципальных документов стратегического планирования остаются неясными. В число документов стратегического планирования регионального уровня, установленных Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»[66], ДПР также пока не включены, хотя, несомненно, по сути являются таковыми.
По поручению Минэкономразвития России в настоящее время разрабатываются проекты ДПР трех пилотных агломераций: Екатеринбургской, Нижегородской и Краснодарской. Недостаточно четкое определение статуса ДПР может негативно сказаться на их содержании. ДПР вынуждены будут сочетать в себе элементы стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по ее реализации, возможны проблемы с координацией содержащихся в них элементов целеполагания с соответствующими элементами стратегий социально-экономического развития субъектов РФ.
Утвержденные в сентябре 2023 года «Методические рекомендации по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших агломераций»[67] не внесли должной ясности в указанные вопросы. С одной стороны, установлено, что ДПР состоит из мероприятий (проектов), при этом направленных только на устранение инфраструктурных ограничений (п. 1.4). С другой стороны, этапы разработки ДПР предусматривают обоснование границ городской агломерации, анализ социально-экономического развития агломерации и сценарное прогнозирование такого развития (п. 1.6). Все указанные выше элементы, как правило, содержатся в документах стратегического планирования соответствующих субъектов РФ. Также обращает внимание, что «в качестве целевого сценария рекомендуется установить среднероссийские» значения показателей (п. 3.2). Как представляется, это не вполне соответствует задачам опережающего социально-экономического развития на территориях агломераций.
Другим актуализировавшимся в последние годы направлением плановой деятельности в отношении агломераций стала разработка мастер-планов городских агломераций, предусмотренная Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В этом документе стратегического планирования понятие «мастер-план» используется в качестве синонима «территориальной схемы», обеспечивающей эффективное использование ресурсов и максимальную реализацию социально-экономического, промышленного, инвестиционного и инновационного потенциалов территорий[68]. Также понятие мастер-плана фигурирует в поручениях Президента Российской Федерации[69], но в федеральных законах оно не зафиксировано[70].
Несмотря на отсутствие законодательного регулирования мастер-планирования, деятельность по разработке мастер-планов агломераций набрала значительные обороты. Уже разработаны или находятся в стадии разработки мастер-планы комплексного развития территорий 5 городских агломераций и экономического и пространственного развития Казанской агломерации, мастер-план Астраханской агломерации и другие. Некоторые из разрабатываемых мастер-планов отождествляются со стратегиями пространственного развития агломераций, формат и правовой статус которых тоже нигде не закреплены[71].
Представляется, что сегодня мастер-планы агломераций призваны выполнять две основные функции. Первое – формирование общей концепции развития территории, на основе которой должны впоследствии разрабатываться предусмотренные законодательством документы социально-экономического и территориального планирования. Второе – приоритизация проектов инфраструктурного развития, которые могут получить поддержку из средств федерального бюджета.
На фоне недостаточной артикуляции государственной политики по развитию городских агломераций, весьма важным для агломерационного развития оказался ряд введенных в конце 2010-х – начале 2020-х гг. федеральных инструментов поддержки, сфера применения которых формально не ограничена агломерациями, но именно в контексте привлечения ресурсов в развитие агломераций они представляются наиболее перспективными.
1. Федеральный проект «Инфраструктурное меню» предоставляет новые возможности ресурсного обеспечения реализации агломерационных инфраструктурных проектов. Он предусматривает, в частности, применение следующих инструментов[72]:
– инфраструктурные бюджетные кредиты;
– инфраструктурные облигации;
– предоставление средств Фонда национального благосостояния государственной корпорации – Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
– субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным на досрочное исполнение контрактов;
– реструктуризация бюджетных кредитов в целях инфраструктурной поддержки реализации новых инвестиционных проектов;
– поддержка проектов по строительству, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
– программа модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023–2027 годов с прогнозом до 2030 года.
Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из наиболее перспективных инструментов для агломерационного развития. Такие кредиты могут использоваться в числе прочего для проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной и туристской инфраструктур[73], что актуально в первую очередь для агломераций.
Инфраструктурные облигации также позволяют регионам финансировать строительство и реконструкцию объектов дорожной, инженерной, информационно-коммуникационной, социальной инфраструктуры, что актуально для развития территорий агломераций. Действие механизма инфраструктурных облигаций распространяется на концессионные проекты и проекты государственно-частного партнерства сроком реализации до 49 лет[74].
Также перспективным представляется механизм реструктуризации бюджетных кредитов, в рамках которого могут быть привлечены дополнительные ресурсы в инфраструктурное развитие агломераций.
В 2023 году «инфраструктурное меню» было дополнено новым инструментом – специальными казначейскими кредитами, предоставляемыми на льготных условиях субъектам Российской Федерации для целей проектирования, строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.
2. Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»[75] был закреплен механизм «горизонтальных» субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации и между местными бюджетами. В Методических рекомендациях по предоставлению «горизонтальных» субсидий на муниципальном уровне[76] подчеркивается, что такую субсидию рекомендуется предоставлять в случае, когда «за счет объединения усилий двух (или более) публично-правовых образований повышается эффективность выполнения соответствующими органами местного самоуправления своих полномочий».
К таким случаям, в частности, отнесены: предоставление муниципальных услуг одним публично-правовым образованием потребителям, проживающим в другом публично-правовом образовании; осуществление совместных инвестиционных проектов, в том числе капитального строительства. Это все типичные сферы межмуниципального взаимодействия в рамках городских агломераций, позволяющего интенсифицировать агломерационное развитие.
3. Федеральным законом № 562-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»[77] введена возможность установления субъектом Российской Федерации дифференцированных нормативов отчислений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных образований. Условием установления таких нормативов является заключение муниципальными образованиями соглашения о межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры, что определяет важность этого инструмента в контексте развития агломераций.
Виды федеральных и (или) региональных налогов и сборов, по которым могут устанавливаться дифференцированные нормативы, указанным Федеральным законом не ограничены. В целом, практика установления дополнительных нормативов отчислений от отдельных налогов в местные бюджеты применяется в России довольно широко, причем есть тенденция к ее расширению. В частности, по данным мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах РФ на региональном и муниципальном уровнях, проводимого Минфином России, в 2021 году чаще всего такая практика применялась в отношении налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на прибыль организаций и транспортного налога.
Между тем, более перспективным в контексте агломерационного развития было бы установление дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на имущество организаций. По оценкам Фонда «Институт экономики города», в среднем 70% налоговых доходов от земли и недвижимости, генерируемых на территории агломераций, не поступают в местные бюджеты, что не позволяет получать полноценную отдачу от градостроительного развития и соразмерно финансировать инфраструктуру. Пока дополнительные нормативы отчислений по налогу на имущество организаций устанавливаются регионами относительно редко: в 2021 году только 15 субъектов РФ применяли этот инструмент, а общий объем дополнительных отчислений по этому налогу в местные бюджеты составил всего 4% от объема дополнительных отчислений по всем видам налогов.
Таким образом, российская государственная политика по отношению к агломерациям, несмотря на расширившийся в последние годы инструментарий, характеризуется спорадичностью и фрагментарностью. Объектами государственной поддержки, как правило, выступают конкретные агломерационные проекты, которые сами по себе потенциально могут быть более или менее успешными, но эта поддержка пока не имеет вида четкой системы. Отсутствуют на федеральном уровне и какие-либо индикаторы результативности и эффективности государственной политики по управлению развитием агломераций.
3.2. Управление развитием городских агломераций в России на локальном уровне
На локальном уровне ситуация с управлением развитием агломераций в России не менее противоречива, чем на общегосударственном. С одной стороны, как отмечалось выше, по ряду направлений субъекты РФ достаточно далеко продвинулись в отношении институционализации понятия агломерации и выработки подходов к управлению развитием агломераций. В отдельных субъектах РФ еще начиная с середины 2010-х гг. были приняты региональные законы о развитии агломераций, разработаны и утверждены схемы территориального планирования агломераций, заключены межмуниципальные соглашения о взаимодействии в целях развития агломераций. Практически общепринятым стало включение разделов, посвященных развитию агломераций, в стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, на территории которых имеются агломерации. Эти разделы, как правило, содержат более или менее развернутое изложение целей (приоритетов) развития соответствующих агломераций.
С другой стороны, практическая реализация принятых законов, плановых документов и межмуниципальных соглашений сталкивается с серьезными ограничениями, вызванными недостаточностью и противоречивостью правого регулирования и отсутствием специальных инструментов управления развитием агломераций на локальном уровне.
Прежде всего нужно отметить, что сам по себе набор возможных моделей управления развитием агломераций на локальном уровне в российских правовых условиях ограничен. В частности, российское законодательство не содержит достаточных предпосылок для организации управления развитием агломераций в формате регуляторных двухуровневых моделей. Унитарные модели, конечно, возможны, но приведенные выше недостатки этой модели не позволяют рассматривать ее как перспективную для распространения.
Наиболее перспективны в российских условиях договорные модели. Поскольку такие модели, как отмечено выше, суть модели межмуниципального сотрудничества, их работоспособность в первую очередь определяется характером правового регулирования этой формы сотрудничества.
Формы межмуниципального сотрудничества в России установлены Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Исходя из целей такого сотрудничества эти формы можно разделить на два вида:
1) создание и деятельность советов и иных добровольных объединений муниципальных образований в целях организации взаимодействия, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований (ч. 1–3 ст. 8 Федерального закона № 131-ФЗ);
2) создание и деятельность межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, заключение договоров и соглашений в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения (ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 131-ФЗ).
Формы сотрудничества первого вида можно назвать «представительскими» («политическими»), формы сотрудничества второго вида – «экономическими» («хозяйственными»).
Развитие представительских форм не требует наличия агломерации; такое сотрудничество может успешно вестись и между муниципальными образованиями, удаленными друг от друга на сотни километров. В России такая модель сотрудничества давно и в целом небезуспешно реализуется многочисленными межмуниципальными ассоциациями. В контексте управления развитием агломераций на локальном уровне больший интерес представляет второй вид форм межмуниципального сотрудничества («экономические»), предусмотренный Федеральным законом № 131-ФЗ. Именно эти формы позволяют реализовывать агломерационные проекты. Но опыт их использования муниципалитетами весьма скуден и противоречив.
Так, практика формирования межмуниципальных хозяйственных обществ с целью совместного решения вопросов местного значения в российских агломерациях фактически не применяется. Примеров создания таких обществ и вообще в России мало, а на территории крупных агломераций их не зафиксировано вовсе.
Примеров функционирования межмуниципальных некоммерческих организаций также немного, но их сфера действия агломерации охватывает.
Наибольшее распространение, в том числе и в пределах городских агломераций, имеет практика заключения межмуниципальных соглашений о сотрудничестве. На сегодня заключено несколько десятков межмуниципальных соглашений, в названии которых присутствует слово «агломерация»: «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации» (2014 г.), «Соглашение о создании Челябинской агломерации» (2014 г.), «Соглашение о создании и совместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской области» (2015 г.), «Соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации» (2020 г.) и др. Некоторые из них, впрочем, не являются в чистом виде межмуниципальными, так как одной из их сторон является субъект Российской Федерации. Иногда это отражается и в названиях соглашений, например, «Соглашение о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и органами местного самоуправления области по вопросам развития Саратовской агломерации» (2017 г.).
При этом, однако такие соглашения едва ли могут быть причислены к экономическим формам сотрудничества, так как цели объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов в них фигурируют редко, а если фигурируют, то лишь как потенциально возможная опция, без установления механизмов такого объединения. В основном эти соглашения носят декларативный характер, намечая контуры потенциального взаимодействия по более или менее широкому кругу вопросов без детализации этих вопросов. Финансовые обязательства сторон в них также отсутствуют. Основные формы сотрудничества, предусмотренные такими соглашениями – обмен опытом и информацией, проведение совместных совещаний и конференций и согласование плановых документов. Реже в соглашения включаются такие пункты, как совместный мониторинг происходящих на территории агломерации процессов, подготовка консолидированных предложений по тем или иным вопросам для направления субъекту Российской Федерации и совместная подготовка документов планирования, правовой статус которых неясен. Почти обязательным – и, что важно, в большинстве случаев реализуемым на практике – пунктом таких соглашений является создание межмуниципального совещательного и/ или координационного органа, задачей которого является сопровождение сотрудничества по указанным в соглашении направлениям.
Особый случай представляют соглашения, в предмет которых агломерационная тематика не выносится, но которые де-факто все равно работают на агломерационную интеграцию. Как правило, это двусторонние соглашения между городским округом – ядром агломерации и примыкающим (или близким) к нему муниципальным районом, входящим в первый-второй пояса агломерационной периферии: Томском и Томским муниципальным районом, Иркутском и Иркутским муниципальным районом, Чебоксарами и Моргаушским муниципальным районом. Такие соглашения обычно более «конкретны», чем рассмотренные выше, так как предполагают сотрудничество в сфере решения определенных вопросов местного значения, но при этом также не идут дальше координации управленческой деятельности.
Таким образом, можно констатировать, что наиболее распространенными механизмами межмуниципального сотрудничества в сфере управления развитием агломераций в России являются согласование документов и координация управленческой деятельности через межмуниципальные совещательные и координационные органы. Тем не менее, выделяются «передовые» регионы, пытающиеся вести системную агломерационную политику, прошедшие путь от концептуализации понятия агломераций в своих документах до разработки плановых документов, непосредственно нацеленных на развитие агломераций, а иногда – и до стадии реализации конкретных агломерационных проектов. Можно, в частности, отметить опыт Свердловской области, где утвержден Перечень межмуниципальных агломерационных проектов инфраструктурного развития и строительства жилья в рамках развития Екатеринбургской агломерации. Всего он включает в себя 16 проектов, в основном в сферах развития транспортной инфраструктуры, жилья и благоустройства («Единая система оплаты в транспорте», «Школьный автобус», «Спорткомплекс Верхнее Дуброво», «Северное полукольцо ЕКАД», «Умная агломерация» и др.). Часть этих проектов уже реализованы.
Однако подобные проекты, при всей их важности для развития агломераций, все-таки, как правило, не являются в чистом виде межмуниципальными. Чаще всего это локализованные на территории агломерации региональные проекты, реализуемые при минимальном участии муниципалитетов. В целом можно заключить, что сегодня основным субъектом управления развитием агломераций в России и на локальном уровне выступает государство. Именно субъекты РФ являются заказчиками большинства документов планирования для территорий агломераций – схем территориального планирования, концепций, мастер-планов и пр.; муниципальные образования в лучшем случае согласовывают проекты этих документов. И набор используемых государством инструментов управления развитием агломераций довольно ограничен: среди них реализация конкретных инвестиционных проектов и градостроительное планирование явно превалируют над задачами стимулирования социально-экономического развития, определения приоритетов развития отдельных территорий в границах агломераций, координации налоговой, тарифной, социальной, жилищной и иных политик.
Есть примеры и установления фактического «прямого государственного управления» агломерациями на локальном уровне. В данном случае речь не о двухуровневой «государственно-муниципальной» модели управления, предполагающей некий баланс компетенций между уровнями. Некоторые субъекты РФ поступают проще, в одностороннем порядке «перераспределяя» в свою пользу ключевые полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в агломерации; как правило, это полномочия в сферах градорегулирования, территориального планирования и землепользования[78]. В преамбулах некоторых из соответствующих региональных законов прямо указывается, что полномочия перераспределяются в целях развития агломераций. Таким образом, развитие агломераций используется, как повод для огосударствления местного самоуправления.
Главная причина низкой продуктивности «чистого» межмуниципального сотрудничества в агломерациях заключается в том, что процитированные выше нормы Федерального закона № 131-ФЗ являются, по сути, рамочными и не скоординированы с нормами гражданского, корпоративного, земельного и т. п. законодательства, не подкреплены работающими механизмами их претворения в жизнь. Пытаясь реализовать право на ведение межмуниципальной хозяйственной деятельности, муниципалитеты наталкиваются на многочисленные правовые барьеры, затрудняющие эту деятельность, а то и прямо препятствующие ей. Вот лишь главные из таких ограничений:
– отсутствие четких критериев, в соответствии с которыми хозяйственные общества могут считаться межмуниципальными;
– невозможность прямой передачи муниципального имущества межмуниципальной организации, прямого внесения муниципальными образованиями учредительных взносов в межмуниципальные хозяйственные общества;
– затрудненность реализации полномочий органов местного самоуправления в рамках деятельности межмуниципальной организации с учетом того, что согласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 131-ФЗ межмуниципальные объединения такими полномочиями наделяться не могут;
– отсутствие полномочий органов местного самоуправления по совместному созданию и эксплуатации объектов межмуниципальной инфраструктуры.
Чтобы полностью ликвидировать барьеры в сфере межмуниципального сотрудничества, потребуется внести изменения в большое число законодательных актов. Среди них – Гражданский[79], Градостроительный[80] и Земельный[81] кодексы Российской Федерации, Федеральный закон № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»[82], Федеральный закон № 35-ФЗ «О защите конкуренции»[83], Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[84], Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[85], Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[86], Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»[87] и ряд других законодательных актов.
При этом следует учитывать, что возможность предоставления муниципальных услуг одним публично-правовым образованием потребителям, проживающим на территории другого публично-правового образования, с использованием института «горизонтальных» субсидий между местными бюджетами, введенного Федеральным законом № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»[88], направлена на достижение тех же целей, что и стимулирование развития межмуниципальных коммерческих организаций.
Поиск путей преодоления существующих правовых ограничений межмуниципального сотрудничества с высокой вероятностью порождает неочевидные с правовой точки зрения решения органов местного самоуправления, балансирующие на грани нарушения законодательства. Думается, что не в последнюю очередь по этой причине даже те муниципальные образования, которые все же ведут совместную деятельность, часто предпочитают эту деятельность не афишировать, не говоря о том, чтобы пропагандировать ее как «лучшую практику».
Государство, в свою очередь, нередко интерпретирует эту объективно обусловленную ограниченность межмуниципального сотрудничества как свидетельство имманентной неспособности муниципальных образований эффективно кооперироваться и «берет власть в свои руки». Возникает «порочный круг»: риск одностороннего перераспределения муниципальных полномочий в пользу субъекта РФ порождает общую нестабильность и дестимулирует муниципальные образования сотрудничать в сфере реализации таких полномочий, что, в свою очередь, провоцирует субъекты РФ на расширение интервенции в сферу муниципальной компетенции.
При этом даже практики государственно-муниципального взаимодействия, не предполагающие перераспределения муниципальных полномочий в агломерациях в пользу органов государственной власти субъектов РФ, несут риски недостаточного учета интересов муниципальных образований. В долгосрочной перспективе это не позволяет полноценно использовать потенциал социально-экономического развития агломерации, даже если реализованные в результате этого взаимодействия конкретные проекты оказываются успешными и эффективными.
Управление развитием агломераций «сверху» порождает и специфические риски, не связанные с рисками огосударствления местного самоуправления – в частности, риск «сворачивания» агломерационных проектов при утрате интереса к ним со стороны региональных властей. И это не гипотетический сценарий: ряд «резонансных» агломерационных проектов, активно продвигавшихся в свое время первыми лицами этих регионов, затормозился с приходом новых властей, не обнаруживших в этих проектах своего интереса.
Экспертами предлагались различные модели организации управления развитием агломераций, в основе которых лежал поиск оптимума между утопическими в российских условиях сугубо межмуниципальными моделями и малоэффективными форматами «прямого государственного управления» или объединения муниципальных образований. Так, Агентство по социально- экономическому развитию агломераций (АСЭРА) еще в 2014 году подготовило «Методические рекомендации по организационно-правовым схемам управления городскими агломерациями»[89], в которых предложило несколько альтернативных схем, основанных на комбинации муниципальных и государственных (регионального уровня) компетенций.
Важно, чтобы такого рода схемы не создавались спорадически, «по случаю», а были встроены в сознательную стратегию развития агломераций на региональном уровне, если угодно – в региональную агломерационную политику. Можно предложить своего рода «дорожную карту» развития агломерации в регионе как схематическое отражение этой политики. В ней предлагается выделить следующие четыре этапа.
Этап 1. Формирование рабочей группы по развитию агломерации
Первый этап – организационно-подготовительный. На этом этапе определяется состав «стейкхолдеров», заинтересованных в развитии агломерации: муниципалитеты, субъект РФ, бизнес, научно-исследовательские и общественные организации и т. п. Выявляются отношение стейкхолдеров к межмуниципальному сотрудничеству, их опасения по поводу возможных «бенефициаров» и «проигравших», готовность или неготовность нести ответственность за принимаемые в рамках сотрудничества решения. Из представителей стейкхолдеров формируется рабочая группа как орган, курирующий развитие агломерации. Эта группа может быть создана при совете по развитию агломерации, если такой существует.
Этап 2. Определение перспективных направлений развития агломерации Созданная рабочая группа проводит своего рода SWOT-анализ: выявляет круг проблем муниципальных образований, требующих решения путем сотрудничества, и возможных направлений экономической специализации муниципальных образований на основе оценки их конкурентных преимуществ. По итогам анализа формулируется «меню» перспективных направлений развития агломерации, требующих запуска механизмов межмуниципального и государственно-муниципального сотрудничества.
В таблице 3 приведены некоторые возможные направления развития агломерации в привязке к основным сферам социально-экономического развития.
Таблица 3.
Потенциальные перспективные направления развития агломерации
|
№ |
Сфера |
Направления |
|
1. |
Экономическое развитие |
– Формирование единого рынка труда, расширение спектра рабочих мест, доступных для жителей агломерации – Согласованная профориентационная политика – Согласованная инвестиционная политика |
|
2. |
Жилищная политика |
– Формирование единого рынка жилья – Координация программ сноса ветхого и аварийного жилья |
|
3. |
Градостроительное развитие |
– Согласованное размещение объектов капитального строительства – Совместное обустройство мест массового отдыха населения |
|
4. |
Экологическая политика |
– Согласованное размещение полигонов ТКО – Совместная эксплуатация полигонов ТКО – Совместный мониторинг состояния окружающей среды |
|
5. |
Транспортно-логистическое развитие |
– Интеграция муниципальных и региональных маршрутов общественного транспорта в единую сеть – Унификация сеток тарифов, введение единого проездного билета |
|
6. |
Социальная политика |
– Координация систем предоставления социальных услуг – Обеспечение «безбарьерного» пользования социальной инфраструктурой агломерации – Формирование единых информационных систем – |
|
7. |
Бюджетная и налоговая политика |
– Координация систем налогообложения в части местных налогов – Синхронизация бюджетного процесса – |
|
8. |
Развитие коммунальных сервисов |
– Интеграция коммунальных сетей – Создание межмуниципальных объектов коммунальной инфраструктуры |
Этап 3. Разработка концепции развития агломерации
На основе выделенных перспективных направлений развития агломерации разрабатывается концепция развития агломерации – плановый документ на долгосрочную перспективу. Этот документ не имеет официального статуса, но по договоренности между участниками партнерства после согласования на рабочей группе становится обязательным к учету при разработке или корректировке документов стратегического планирования как субъекта Российской Федерации, так и муниципальных образований, входящих в агломерацию. В соответствии с положениями концепции также корректируются действующие муниципальные и региональные документы стратегического и территориального планирования. Скорректированные документы выносятся на рабочую группу для согласования членами рабочей группы.
Этап 4. Определение организационных форм управления развитием агломерации
Для координации совместной деятельности и реализации положений концепции из перечня форм межмуниципального сотрудничества, предусмотренных законодательством, выбирается оптимальная организационная форма и формируются соответствующие организационные структуры. После этого рабочая группа прекращает деятельность, и дальнейшее сотрудничество ведется уже в рамках созданных структур.
3.3. Оценка эффективности (результативности) государственной политики управления развитием городских агломераций и предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере
Выше отмечалось, что одним из недостатков складывающейся в России государственной агломерационной политики является отсутствие системы индикаторов, позволяющих оценивать ее результативность и эффективность. Поскольку эта политика заключается в управлении развитием агломераций, индикаторы ее успешности будут одновременно отражать развитость агломерации. То есть нужна адекватная методика оценки развитости агломераций.
К разработке таких методик подступались неоднократно – и у нас, и зарубежом – но оптимального результата пока нет. Проблема уже в том, что сама по себе «развитость агломерации» понимается исследователями очень по-разному, и сложились два основных подхода к ее оценке, опирающиеся на разные понимания развитости.
Согласно первому подходу, развитость агломерации трактуется как уровень ее социально-экономического развития. Для оценки развитости в соответствии с этим подходом используются классические социально-экономические показатели – либо непосредственно собираемые в пределах агломерации, либо получаемые путем суммирования значений показателей, характеризующих отдельные территории внутри агломерации. То есть к агломерации применяется та же мерка, что и к любой другой территории, вне зависимости от ее расселенческой специфики. Такой подход можно назвать «синтетическим».
Второй подход рассматривает агломерацию именно как агломерацию и исходит из гипотезы об усилении со временем присущих агломерации характеристик Развитость агломерации в соответствии с этим подходом трактуется как зрелость; иными словами, агломерация считается тем более развитой, чем «более она агломерация». Соответственно, в качестве показателей развитости при таком подходе используются показатели, на основе которых производится выделение агломерации, но с более высокими пороговыми значениями, либо интегральные показатели, основанные на этих показателях. Назовем этот подход «структурным».
В логике оценке эффективности и результативности государственной агломерационной политики можно заключить, что синтетический подход в большей степени позволяет оценить результаты политики, проводимой на общегосударственном уровне, а структурный – на локальном, но это упрощение. Вообще, эти подходы не являются взаимоисключающими и могут быть в той или иной пропорции синтезированы в рамках единой методики.
В России оценка развитости агломераций исторически развивалась в рамках структурного подхода, причем эта оценка воспринималась как естественное продолжение делимитации агломераций.
В методиках Института географии АН СССР и ЦНИИП градостроительства развитость агломерации оценивалась путем расчета специального коэффициента. В методике Института географии коэффициент развитости учитывал значения численности населения городов и поселков городского типа в агломерации и их долю в численности населения агломерации в целом. В методике ЦНИИП градостроительства аналогичный коэффициент рассчитывался как отношение числа городских населенных пунктов агломерации к произведению площади территории агломерации и кратчайшего расстояния между городскими населенными пунктами на территории агломерации. Кроме того, в данной методике, наряду с коэффициентом развитости, использовался и т. н. индекс агломеративности – отношение численности городского населения периферийной зоны к численности городского населения всей агломерации.
В качестве примеров попыток преодолеть ограничения существующих методик оценки развитости агломераций с элементами структурного подхода можно привести также публикации И. В. Волчковой[90] и Н. А. Труновой[91].
В методике И. В. Волчковой для оценки развитости агломераций предложен комплекс индикаторов трех типов (социально-демографические, финансово- экономические и инфраструктурные), при этом индикаторы развития агломерации в целом рассчитываются как среднее арифметическое значений индикаторов развития входящих в агломерацию территорий. Это, на наш взгляд, несколько прямолинейный метод, но, во всяком случае, пространственная неоднородность агломерации принимается во внимание.
Н. А. Трунова предлагает оценивать развитие агломераций по трем группам показателей, в число которых, наряду с показателями, характеризующими развитие агломерации в целом и роль агломерации в развитии региона, включает и показатели, характеризующие «внутреннее развитие агломерации». Такие показатели, по словам Труновой, определяются путем сопоставления значений «в центре и на периферии агломерации», при этом последняя трактуется автором как однородная среда.
Зарубежный опыт оценки уровня развития агломераций богаче и часто сближается с оценкой агломерационного эффекта в экономике. Тематика предлагаемых зарубежными исследователями индикаторов и индексов развитости агломераций весьма разнообразна: от таких комплексных характеристик, как «уровень процветания», до частных параметров, вроде активности малого и среднего бизнеса. Однако применяемые ими методы также в большинстве своем исповедуют синтетический подход, без учета свойств отдельных частей агломераций и агломерационной специфики как таковой. В тех же случаях, когда такой учет производится, во внимание принимаются преимущественно параметры расселения и транспортной доступности; социально-экономические показатели рассчитываются почти исключительно для агломераций в целом.
К примеру, один из немногих примеров применения структурного подхода представлен «индексом агломерированности» территорий Х. Учиды и А. Нельсона. В основу расчета этого индекса положены три критерия: плотность населения территории в целом, численность населения ядра и временная доступность до ядра. То есть фактически это набор классических критериев выделения агломераций, степень проявленности которых рассматривается как мера агломерированности (развитости). Также в контексте структурного подхода можно отметить предложенный Д. Ригатти «индекс конурбации», но это довольно узкий показатель, оценивающий лишь один параметр развитости агломерации: транспортную связность ее частей между собой и в сопоставлении с общей связностью внутри агломерации.
Таким образом, существующие методики оценки развитости агломераций – как отечественные, так и зарубежные – по разным причинам не в полной мере отвечают актуальным запросам. Искомая методика должна, с одной стороны, учитывать внутреннюю сложность и неоднородность агломераций, но, с другой стороны, быть несложной в применении и по возможности опираться на доступные на регулярной основе данные.
Очевидно также, что оценка развитости должна опираться на определенную концепцию развития агломерации как динамичной системы. Является ли развитие агломерации последовательным однонаправленным процессом эволюции от «низших» форм к «высшим» или имеет более сложную траекторию? От ответа на этот и сопутствующие вопросы зависит выбор инструментов и методики оценки.
В настоящем издании мы не берем на себя смелость предъявить законченную методику оценки развитости агломераций. Ограничимся изложением общих принципов, на которые, как нам представляется, должна опираться такая методика[92].
«Ключом» к разработке методики оценки развитости агломераций, на наш взгляд, является понятие агломерационных процессов как движущей силы развития агломерации. Под агломерационными процессами понимаются процессы трансформации различных сфер жизнедеятельности в каждом из населенных пунктов внутри агломерации, в результате которых агломерация в целом приобретает те или иные свойства.
Так, уже на начальном этапе развития агломерации на ее территории разворачиваются процессы интеграции – то есть формирования единых систем и рынков, выходящих за муниципальные и административные границы. Эти процессы, связанные с повышением интенсивности взаимодействия различных субъектов, носят объективный характер, но могут быть ускорены путем принятия управленческих мер органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в агломерацию, и/или органами государственной власти.
К примеру, рост числа лиц, работающих за пределами мест проживания в рамках агломерации – это естественный процесс интеграции рынка труда агломерации. Однако согласование органами местного самоуправления различных муниципальных образований мер транспортной политики, облегчающих доступ работников к местам занятости, может дополнительно стимулировать такую интеграцию. Строительство крупных объектов инфраструктуры межмуниципального уровня ведет к снижению транзакционных издержек субъектов взаимодействия в рамках агломерации и, опять же, способствует интеграции рынков и т.д.
Достигнутый уровень интеграции по разным параметрам характеризует интегрированность агломерации. Однако изменения, происходящие внутри агломерации по мере ее развития, не ограничиваются ростом интегрированности. Вследствие процессов интеграции распределение социально-экономических параметров по территории агломерации меняется – таким образом, устанавливается определенный «баланс» или «дисбаланс» по этим параметрам. Наряду с интегрированностью как мерой развитости агломерации можно говорить также о ее сбалансированности.
Связь между процессами интеграции и формирования внутриагломерационных балансов и дисбалансов можно проиллюстрировать следующим примером. По мере развития агломерации изначально автономные транспортные системы муниципальных образований тяготеют к интеграции в единую систему – со сквозной маршрутной сетью, общей системой проездных документов, транспортными предприятиями, не замыкающими деятельность внутри одного муниципального образования. То, в какой степени этого удалось достичь, характеризует интегрированность агломерации.
Вследствие этого растет транспортная доступность по всей территории агломерации, сглаживаются контрасты между территориями с высокой и низкой транспортной доступностью. Таким образом, формируется баланс по параметрам транспортной доступности по территории агломерации.
В то же время, отдельные территории внутри агломерации, обладающие наиболее выгодным транспортно-географическим положением, постепенно усиливают специализацию на транспортных функциях и приобретают роль местных «хабов», притягивающих инвестиции, малый бизнес и т.п. В перспективе такие точки роста могут стать внутриагломерационными центрами второго порядка, оттягивающими часть функций у ядра агломерации – классическими.
Если интегрированность по мере развития агломерации последовательно увеличивается, то параметры сбалансированности меняются неравномерно и нелинейно. Стремление к внутриагломерационной однородности, балансу по одним параметрам сочетается с конкуренцией по другим. Можно заключить, что в общем случае для различных стадий процесса развития агломераций характерны разные состояния сбалансированности на фоне последовательной интеграции.
Можно предложить следующую стадиальную схему:
1. На начальном этапе существует дисбаланс между ядром и периферией агломерации «в пользу ядра». При этом сама периферия характеризуется относительной однородностью.
2. По мере интеграции агломерации на периферии возникают точки роста, которые «подтягиваются» к ядру по отдельным характеристикам и в некоторых отношениях опережают ядро; по периферии и по агломерации в целом таким образом нарастает дисбаланс.
3. Дисбаланс снижается – как внутри периферии, так и в целом по агломерации – на фоне роста среднего уровня социально-экономических параметров.
4. На периферии возникают новые точки роста, развитие которых вновь нарушает баланс внутри агломерации. Однако этот дисбаланс «отталкивается» уже от более высокого среднего уровня по сравнению с дисбалансом, характерным для 2 стадии.
Подчеркнем, это гипотетическое предположение, базирующееся на общих представлениях о ходе и характере агломерационных процессов. Приведенная схема требует проверки на примерах конкретных агломераций.
Также важно подчеркнуть, что качественная интерпретация наблюдаемых дисбалансов в зависимости от затрагиваемых ими параметров может быть различной.
Это приводит нас к необходимости различать параметры двух типов: тех, дисбаланс в отношении которых однозначно свидетельствует о негативных тенденциях в развитии агломерации (далее – параметры 1 типа), и тех, аналогичная характеристика которых может свидетельствовать также и об эффективной специализации, нормальной для зрелых стадий развития агломерации (далее – параметры 2 типа). Для точной диагностики природы наблюдаемых явлений в обоих случаях необходим более углубленный анализ ситуации в агломерации. Ключевым основанием для качественной оценки, очевидно, должен быть уровень достигнутых значений показателей, характеризующих наблюдаемые параметры – не ниже определенного порога, устанавливаемого эмпирически.
При этом параметры 1 и 2 типов взаимосвязаны, так как чрезмерно усиливающаяся специализация территорий в определенных сферах может обернуться негативными последствиями для иных территорий агломерации. Фактически растущий дисбаланс по параметрам 2 типа создает риски снижения агломерационных эффектов (табл. 4). Таким образом, можно говорить о максимальном уровне допустимого дисбаланса, который может быть различным для разных сфер.
Таблица 4.
Примеры рисков снижения (недостижения) агломерационного эффекта в случае нарастания дисбалансов по параметрам 2 типа
|
№ |
Сферы возникновения дисбалансов |
Риски |
|
1. |
Миграции |
Рост нагрузки на инфраструктуру на территориях приема мигрантов, обострение социальной обстановки |
|
2. |
Рынок труда |
Потери поступлений по НДФЛ муниципальными образованиями, «экспортирующими» трудовых мигрантов, снижение бюджетной обеспеченности; появление «спальных» муниципальных образований, не имеющих перспектив экономического развития |
|
3. |
Транспорт |
Снижение транспортной доступности для территорий, пересекаемых скоростными магистралями |
|
4. |
Рынок жилья |
Ухудшение качества городской среды, снижение доступности жилья в муниципальных образованиях ближней периферии |
Как интегрированность, так и сбалансированность агломерации можно оценить с помощью системы индикаторов для каждой из сфер, в которой проявляются соответствующие процессы.
Так, в качестве индикаторов интегрированности могут быть использованы следующие показатели:
– объем миграций между муниципальными образованиями в составе агломерации;
– доля потребителей коммунальных услуг, предоставляемых предприятиями, расположенными за пределами муниципальных образований их проживания (размещения);
– число маршрутов пассажирского транспорта, охватывающих территории нескольких муниципальных образований;
– число реализуемых межмуниципальных инвестиционных проектов и др. Отдельную категорию индикаторов интегрированности составляют показатели, характеризующие степень взаимного соответствия (непротиворечивости) правовых актов и программ муниципальных образований в составе агломерации в сферах стратегического, территориального, транспортного планирования, регулирования местных налогов, а также транс портных и коммунальных тарифов.
Чем выше значения индикаторов интегрированности, тем более интегрированной и более развитой является агломерация.
На основе частных индикаторов интегрированности по различным сферам может быть сформирован комплексный индикатор интегрированности для агломерации в целом.
Сбалансированность, в свою очередь, может быть оценена через индикаторы дисбаланса, который можно оценивать через коэффициенты вариации значений соответствующих показателей в границах агломерации. Коэффициент вариации рассчитывается как отношение среднеквадратического отклонения (квадратного корня из дисперсии) значений показателя по муниципальным образованиям агломерации к среднему арифметическому значению данного показателя по муниципальным образованиям агломерации.
Предложенные индикаторы с учетом отмеченных ограничений, как представляется, и должны лечь в основу методики оценки развитости агломераций, которую одновременно можно рассматривать и как методику оценки результативности государственной политики управления развитием городских агломераций. При этом очевидно, что на практике значительные сложности может вызвать сбор значений первичных показателей для расчета индикаторов, поэтому может возникнуть необходимость адаптации методики в зависимости от наличия информации.
Заключение
Российские городские агломерации – важные фокусы социального развития и экономического роста страны. В условиях структурной перестройки экономики и приоритетного развития высокотехнологичных отраслей, цифровизации экономики, государственного управления и общественной жизни роль агломераций еще более возрастает, поскольку именно они являются средоточием человеческого капитала, емких и динамичных рынков, инноваций и высокотехнологичных основных фондов.
Однако большинство крупных и крупнейших российских агломераций пока не готовы в полной мере играть роль таких точек роста. Многие из них сохраняют «тяжелую» структуру экономики, характерную для индустриального уклада, и, как следствие, слабо генерируют собственные внутренние источники экономического роста и проигрывают в общероссийской и глобальной конкуренции за инвестиции и человеческий капитал.
Недостаточны и финансовые ресурсы (муниципальные финансы и финансы городов федерального значения), концентрируемые на территории агломераций, что определяет высокую зависимость развития даже крупнейших из них от финансово-бюджетных решений, принимаемых на федеральном и региональном уровнях.
Сохраняются риски усиления пространственных дисбалансов в социально-экономическом развитии территорий агломерации, в том числе: «перегрузка» ядер агломераций, стягивающих основные потоки маятниковых мигрантов, бесконтрольный экстенсивный рост ядер, ведущий к удорожанию инфраструктурного обеспечения, ухудшению связности и усложнению управления, дезинтеграция инфраструктурных комплексов.
Растущая неадекватность статистического учета населения в пределах агломераций, как и само по себе отсутствие агломераций в системе официальной статистики, влечет риски принятия неверных управленческих решений. В этих условиях формирование сфокусированной государственной политики поддержки развития агломераций в целях стимулирования позитивных структурных преобразований, мобилизации агломерационных эффектов и преодоления существующих проблем и «издержек роста» представляется крайне актуальной задачей.
В качестве приоритетных направлений такой государственной политики может быть предложен следующий комплекс мер.
В качестве базовой меры представляется целесообразным закрепить на уровне федерального закона юридически значимые критерии отнесения территорий к городским агломерациям. Это позволило бы устранить существующую неопределенность границ агломераций при планировании и управлении, а также при принятии решений о предоставлении финансовой поддержки. Также в соответствии с официально установленными критериями отнесения территорий к городским агломерациям следует сформировать «базовые» статистические границы городских агломераций, в рамках которых должно вестись наблюдение по ключевым индикаторам, позволяющим оценить результативность и эффективность мер государственной поддержки. В число таких индикаторов, наряду с традиционными индикаторами социально-экономического развития, должны входить индикаторы интегрированности и сбалансированности (дисбаланса) агломераций.
Кроме того, поскольку существующий объем полномочий органов местного самоуправления неадекватен задачам межмуниципального взаимодействия в рамках социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития агломераций, предлагается рассмотреть вопрос об установлении специального объема полномочий для муниципальных образований в границах крупных и крупнейших агломераций, в том числе муниципальных образований и городов федерального значения – ядер соответствующих агломераций, включая вопрос о целесообразности установления особенностей осуществления публичной власти на территориях крупных и крупнейших городских агломераций специальным федеральным законом, принятие которого допускает новая редакция статьи 131 Конституции Российской Федерации.
Также представляется целесообразным определить статус долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций (ДПР) в системе документов стратегического планирования. Предлагается установить, что ДПР является аналогом планов мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, предусмотренных Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В качестве документов стратегического планирования, планами мероприятий по реализации которых являются ДПР, могут выступать как стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, так и специально разработанные стратегии социально-экономического развития агломераций как части территории субъекта Российской Федерации (ч. 9 ст. 32 Федерального закона № 172-ФЗ). В этом контексте Методические рекомендации по разработке ДПР следовало бы дополнить, зафиксировав в них:
– принцип соответствия структуры ДПР структуре целей и задач соответствующего документа стратегического планирования;
– критерии отнесения мероприятий (проектов) к мероприятиям (проектам) агломерационного значения как основания для включения в ДПР.
Отдельной задачей, выходящей за рамки совершенствования государственной политики по развитию городских агломераций, но наиболее актуальной именно на этих территориях, является совершенствование законодательного регулирования межмуниципального сотрудничества. В этой связи сохраняется явная потребность в подготовке законопроектных предложений в целях устранения существующих барьеров и неясностей правового регулирования и создания правовых возможностей для совместной реализации основных полномочий органов местного самоуправления в рамках заключения межмуниципальных соглашений, формирования межмуниципальных хозяйственных обществ, межмуниципального имущества, предоставления муниципальным образованием общественных услуг жителям соседних муниципальных образований, в том числе:
– для внесения муниципальными образованиями учредительных взносов в межмуниципальные общества с ограниченной ответственностью путем внесения данного случая в перечень возможных способов приватизации государственного и муниципального имущества;
– для заключения с межмуниципальными хозяйственными обществами договоров безвозмездного пользования, договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, путем исключения для таких обществ законодательного требования, согласно которому такие договоры могут быть заключены только по результатам проведения конкурсов или аукционов;
– для привлечения межмуниципальными юридическими лицами частного капитала, в том числе в форматах муниципально-частного и государственно-частного партнерства;
– для установления четких юридических критериев признания некоммерческих организаций или хозяйственных обществ межмуниципальными.
При этом следует отдельно рассмотреть вопрос о приоритизации мер, направленных на стимулирование, с одной стороны, развития межмуниципальных некоммерческих организаций и хозяйственных обществ и, с другой стороны, предоставления муниципальных услуг одним публично-правовым образованием потребителям, проживающим на территории другого (как правило, соседнего) публично-правового образования, с использованием института «горизонтальных» субсидий между местными бюджетами.
В Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в Градостроительном кодексе РФ следовало бы установить специальные полномочия субъектов РФ по определению порядков согласования основных параметров стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, находящихся в границах агломераций, и координации градостроительной политики на территории городских агломераций. Такие порядки должны предусматривать перечни основных параметров социально-экономического и градостроительного развития территорий, подлежащих согласованию субъектом РФ, а также процедуры такого согласования.
В целях привлечения дополнительных ресурсов в инфраструктурное развитие агломераций представляется целесообразным с учетом накопленного опыта на региональном и муниципальном уровнях институционализировать механизм обязательного участия профессиональных застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства (за исключением проектов комплексного развития территорий), в развитии социальной инфраструктуры в натуральной форме (путем создания необходимых объектов социальной инфраструктуры) или в финансовой форме (путем уплаты инфраструктурного платежа). Форма и объем участия застройщика в развитии социальной инфраструктуры могли бы определяться соглашением между застройщиком и муниципальным образованием, заключение которого в установленных случаях было бы обязательным для получения разрешения на строительство.
Первым шагом на пути внедрения такого механизма могло бы стать проведение эксперимента на территориях крупнейших городских агломераций, по результатам которого можно было бы принять решение о совершенствовании законодательного регулирования в данной сфере для всех территорий РФ.
Кроме того, в свете появления в последние годы новых инструментов, которые могут быть использованы для поддержки социально-экономического развития городских агломераций, представляется целесообразным организовать системный мониторинг применения таких инструментов (уделяя особое внимание практикам использования «горизонтальных субсидий» и дифференцированных нормативов налоговых отчислений в бюджеты муниципальных образований, реализующих совместные инфраструктурные проекты), на основе которого формировать ежегодные доклады о лучших практиках управления городскими агломерациями с целью выявления, верификации и распространения лучших практик.
Список использованных источников
Нормативно-правовые источники
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г., № 0001202210060013
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.10.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.01.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 16
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 01.01.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. № 44 ст. 4147
5. Федеральный закон от 28.12.2022 № 562-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2 января 2023 г. № 1 (часть I) ст. 9
6. Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 августа 2019 г. № 31 ст. 4466
7. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 29 (часть I) ст. 4350
8. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 13.07.2024) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 26 (часть I) ст. 3378
9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. № 14 ст. 1652
10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 01.01.2025) «О защите конкуренции» // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3434
11. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.01.2025) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822
12. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.01.2025) «О приватизации государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 4 ст. 251
13. Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 № 996 «Об утверждении Правил согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций» // Собрание законодательства Российской Федерации, 6 июня 2022 г. № 23 ст. 3824
14. Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 (ред. от 30.05.2024) «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2021 г. № 31 ст. 5901
15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2459 (ред. от 19.06.2023) «Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» // Собрании законодательства Российской Федерации от 11 января 2021 г. № 2 (часть II) ст. 468
16. Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2023 № 2058-р (ред. от 29.12.2023) «Об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития ряда агломераций на период до 2030 года»
17. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 № 3268-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»
18. Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2022 № 2290-р (ред. от 26.01.2024) « Плане мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 34, ст. 6044
19. Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 № 1704-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р»
20. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 40, ст. 6877
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2019 № 3227-р (ред. от 09.11.2023) «Об утверждении плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 2020 г. № 1 (часть II) ст. 142
22. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р (ред. от 07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»
23. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»
24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р утвердило Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
25. Постановление Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 года №105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» (с изменениями на 27 декабря 2022 года)
26. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 года №1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»
27. Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 года №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»
28. Постановление Законодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 года №2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года»
29. Постановление Правительства Свердловской области от 31 августа 2009 года №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области»
30. Постановление администрации Новосибирской области от 7 сентября 2009 года №339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»
31. Закон Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ (ред. от 02.10.2023) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (принят Законодательным Собранием Приморского края 13.11.2014)
32. Приказ Минэкономразвития России от 26.09.2023 № 669 (ред. от 31.05.2024) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций»
33. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 сентября 2014 года №263 «….. утвердил перечень пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в РФ»
34. Приказ Минрегиона России от 18 марта 2014 года №75 «О мерах по реализации отбора пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в Российской Федерации»
35. Приказ Минрегиона России от 18.03.2014 № 74 «О внесении изменений в приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 415 «О Межведомственной рабочей группе по социально-экономическому развитию городских агломераций»
36. Письмо Минфина России от 30.11.2020 № 06-04-11/01/104365 «О размещении на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет Методических рекомендаций по предоставлению «горизонтальных» субсидий на муниципальном уровне»
37. Письмо Минтранса России от 28 декабря 2016 г. № ЕД-24/18277 «О составе дорожной сети городской агломерации»
38. Протокол от 21 ноября 2016 года №10 президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта приоритетных проектов
39. Методические рекомендации по организационным схемам управления городскими агломерациями: приложение №4 к протоколу заседания Межведомственной рабочей группы от 19 мая 2016 г. №2 82-АЦ
40. Проект федерального закона №189686-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» был внесён на рассмотрение в Государственную Думу 31 мая 2018 года
41. Приказ Минрегиона России от 30.09.2013 № 415 (ред. от 18.03.2014) «О Межведомственной рабочей группе по социально-экономическому развитию городских агломераций» (утратил силу)
Учебники, монографии, брошюры
42. Антонов Е. В., Куликов Д. А., Савоскул М. С. Городские агломерации: подходы к определению и делимитации границ. // Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации. Межмуниципальное сотрудничество как механизм управления городскими агломерациями: монография / под ред. К. А. Ивановой. Научный редактор издания Э. Маркварт – М.: Изд-во «Проспект», 2021
43. Глазычев В., Стародубровская И. и др. Челябинская агломерация: потенциал развития. – Челябинск, 2018.
44. Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация и расселение // Вопросы географии. – М.: Мысль, 1986.
45. Лаппо Г. М. География городов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997
46. Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР. – М.: Наука, 1978
47. Любовный В. Я. Городские агломерации в России: проблемы развития и регулирования // Сборник трудов Академических чтений «Проблемы развития агломераций в России». – М.: КРАСАНД, 2019.
48. Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы. Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1999.
49. Полян П. М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. – М., 1988.
50. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. ред. А. П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2023.
Периодические издания
51. Антонов Е. В. Городские агломерации: подходы к выделению и делимитации // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. – № 13 (1)
52. Волчкова И. В. Методические аспекты индикативного анализа состояния и развития агломераций. // Экономические науки. – 2024. – №1(110)
53. Нещадин А., Прилепин А. Городские агломерации как инструмент динамичного социально- экономического развития регионов России // Общество и экономика. – 2021. – № 12.
54. Райсих А Э. Определение границ городских агломераций России: создание модели и результаты. // Демографическое обозрение. № 2. 2020.
55. Соколов С. Н. Агломерационные формы расселения Югры. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2024. № 12-8.
56. Трунова Н. А. Совершенствование методических подходов к анализу и оценке факторов, влияющих на развитие городских агломераций // Экономические науки. – 2021. – № 3
Интернет-ресурсы
57. «Концепция развития Московской метрополии», разработанная Центром стратегических разработок (доступ по ссылке: https://csr-nw. ru/tracks/detail.php?ID=1135) (дата обращения -18.11.2024 г.)
58. Агафонов Н. Т., Лавров С. Б., Хорев Б. С. О некоторых ошибочных концепциях в урбанистике. // Известия ВГО, 1982. № 6. Доступ по ссылке: http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0551/arxiv01.php (дата обращения - 12.11.2024 г.)
59. Богоров В., Новиков А., Серова Е. Самопознание города // Археология периферии. М., 2023. С. 380–405. Доступ по ссылке: http://issuu.com/mosurbanforum/docs/_d_uf_380-405_ data (дата обращения – 24.11.2024 г.)
60. Геддес П., монография 1915 года «Эволюция городов» (Cities in Evolution). Доступ по ссылке: https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft/page/n9/mode/2up (дата обращения - 18.11.2024 г.)
61. Доступ по ссылке: http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=16197 (дата обращения – 28.11.2024 г.)
62. Доступ по ссылке: http://www.krskstate.ru/dat/bin/docs_attach/73755_773_p.doc (дата обращения – 28.11.2024 г.)
63. Доступ по ссылке: http://www.minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/ page_1293/08.06.15_soglashenie_ob_sovmestnom_sozdanii_na.pdf (дата обращения – 28.11.2024 г.)
64. Доступ по ссылке: https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-define-metro-area
65. Доступ по ссылке: https://minstroy.midural.ru/uploads/2 этап_Книга 1_Отчет_Часть 1.pdf (дата обращения – 28.11.2024 г.)
66. Доступ по ссылке: https://minstroy.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Tom-6.pdf (дата обращения – 28.11.2024 г.)
67. Доступ по ссылке: https://tomsk.gov.ru/files/front/download/ id/139371 (дата обращения – 28.11.2024 г.)
68. Доступ по ссылке: https://www.eg-online.ru/article/52751 (дата обращения – 28.11.2024 г.)
69. Доступ по ссылке: https://www.researchgate.net/ publication/329657653_Boundary_delimitation_of_Chelyabinsk_agglomeration (дата обращения – 28.11.2024 г.)
70. Махрова А. Г., Бабкин Р. А Анализ пульсаций системы расселения Московской агломерации с использованием данных сотовых операторов // Региональные исследования. – 2021. № 2. – С. 68–78. Доступ по ссылке: https://elibrary.ru/item.asp?edn=xwavrr&ysclid=lki9xnv96a477818211 (дата обращения – 24.11.2024 г.)
71. Махрова А., Нефедова Т., Трейвиш А. Московская агломерация и «Новая Москва» / Pro et contra. 2022. № 6 (57). С. 21. Доступ по ссылке: https://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_57_19-32.pdf (дата обращения - 18.11.2024 г.)
72. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 3 сентября 2021 года. Пункт 4. Доступ по ссылке: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/66958 (дата обращения - 30.11.2024 г.)
73. Перцик Е. Н. Проблемы развития городских агломераций. // Academia. Архитектура и строительство. 2009. № 2. С. 63–69. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-gorodskih-aglomeratsiy (дата обращения - 12.11.2024 г)
74. Пономарев Ю., Радченко Д. Реальные границы агломераций и распространение коронавируса. // Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития, 2020. № 9(111). Апрель. Доступ по ссылке: https://www.iep.ru/upload/iblock/e9a/5.pdf (дата обращения – 24.11.2024 г.)
75. Публикация Фонда «Институт экономики города» «Концепция оценки уровня развития городских агломераций» (доступ по ссылке: https://www.urbaneconomics. ru/sites/default/files/koncepciya_ocenki_urovnya_razvitiya_gorodskih_aglomeraciy_13.01.17.pdf) (дата обращения – 30.11.2024 г.)
76. Райсих А. Э. Определение границ городских агломераций России: создание модели и результаты. // Демографическое обозрение. № 2. 2020. С. 54–96. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/ opredelenie-granits-gorodskih-aglomeratsiy-rossii-sozdanie-modeli-i-rezultaty (дата обращения – 18.11.2024 г.)
77. Райсих А. Э. К вопросу об определении границ городских агломераций: мировой опыт и формулировка проблемы.// Демографическое обозрение. № 1. 2020. – С. 27–53. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/ article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-granits-gorodskih-aglomeratsiy-mirovoy-opyt-i-formulirovka-problemy (дата обращения – 24.11.2024 г.)
78. Уляева А. Г. Анализ методических подходов к выделению агломерационных образований /// Региональная экономика: теория и практика. – т. 14, вып. 12, декабрь 2016. – С. 22–24. Доступ по ссылке: https://www. fin-izdat.ru/journal/region/detail.php?ID=70151 (дата обращения – 12.11.2024 г.)
лист-заверитель
Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно.
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на первоисточники.
Список использованных источников включает 78 (семьдесят восемь) наименований.
Экземпляр выпускной квалификационной работы сдан в деканат.
«___»___________202__ г.
________________ ________________________
(подпись студента) (фамилия, имя, отчество студента)
Скачано с www.znanio.ru
[1] Агафонов Н. Т., Лавров С. Б., Хорев Б. С. О некоторых ошибочных концепциях в урбанистике. // Известия ВГО, 1982. № 6. Доступ по ссылке: http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0551/arxiv01.php (дата обращения - 12.11.2024 г.)
[2] Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 01.09.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822
[3] Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР. – М.: Наука, 1978. – С. 17–18.
[4] Полян П. М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. – М., 1988. – 220 с.
[5] Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы. Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1999. С. 105.
[6] Перцик Е. Н. Проблемы развития городских агломераций. // Academia. Архитектура и строительство. 2009. № 2. С. 63–69. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-gorodskih-aglomeratsiy (дата обращения - 12.11.2024 г)
[7] Любовный В. Я. Городские агломерации в России: проблемы развития и регулирования // Сборник трудов Академических чтений «Проблемы развития агломераций в России». – М.: КРАСАНД, 2019. – С. 17–33.
[8] Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»
[9] Уляева А. Г. Анализ методических подходов к выделению агломерационных образований /// Региональная экономика: теория и практика. – т. 14, вып. 12, декабрь 2016. – С. 22–24. Доступ по ссылке: https://www. fin-izdat.ru/journal/region/detail.php?ID=70151 (дата обращения – 12.11.2024 г.)
[10] П. Геддес, монография 1915 года «Эволюция городов» (Cities in Evolution). Доступ по ссылке: https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft/page/n9/mode/2up (дата обращения - 18.11.2024 г.)
[11] Лаппо Г. М. География городов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – С. 100–102.
[12] Райсих А. Э. Определение границ городских агломераций России: создание модели и результаты. // Демографическое обозрение. № 2. 2020. С. 54–96. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/ opredelenie-granits-gorodskih-aglomeratsiy-rossii-sozdanie-modeli-i-rezultaty (дата обращения – 18.11.2024 г.)
[13] Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация и расселение // Вопросы географии. – М.: Мысль, 1986. С. 52–62.
[14] Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР. – М.: Наука, 1978. – С. 25.
[15] Лаппо Г. М. География городов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – С. 90-91.
[16] Антонов Е. В., Куликов Д. А., Савоскул М. С. Городские агломерации: подходы к определению и делимитации границ. // Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации. Межмуниципальное сотрудничество как механизм управления городскими агломерациями: монография / под ред. К. А. Ивановой. Научный редактор издания Э. Маркварт – М.: Изд-во «Проспект», 2021 – С. 44–69.
[17] «Концепция развития Московской метрополии», разработанная Центром стратегических разработок (доступ по ссылке: https://csr-nw. ru/tracks/detail.php?ID=1135) (дата обращения -18.11.2024 г.)
[18] Нещадин А., Прилепин А. Городские агломерации как инструмент динамичного социально- экономического развития регионов России // Общество и экономика. – 2021. – № 12. – С. 121–139.
[19] Махрова А., Нефедова Т., Трейвиш А. Московская агломерация и «Новая Москва» / Pro et contra. 2022. № 6 (57). С. 21. Доступ по ссылке: https://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_57_19-32.pdf (дата обращения - 18.11.2024 г.)
[20] Сбором статистики в рамках Евросоюза занимается Евростат (Eurostat) – статистическая служба ЕС. Доступ по ссылке: https://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения - 24.11.2024 г.)
[21] Антонов Е. В. Городские агломерации: подходы к выделению и делимитации // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. – № 13 (1). – С. 180–202.
[22] Райсих А. Э. К вопросу об определении границ городских агломераций: мировой опыт и формулировка проблемы.// Демографическое обозрение. № 1. 2020. – С. 27–53. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/ article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-granits-gorodskih-aglomeratsiy-mirovoy-opyt-i-formulirovka-problemy (дата обращения – 24.11.2024 г.)
[23] Райсих А. Э. Определение границ городских агломераций России: создание модели и результаты. // Демографическое обозрение. № 2. 2020. С. 54–96. Доступ по ссылке: https://cyberleninka.ru/ article/n/opredelenie-granits-gorodskih-aglomeratsiy-rossii-sozdanie-modeli-i-rezultaty (дата обращения – 24.11.2024 г.)
[24] Одной из целей введения этого алгоритма была унификация различных методик выделения населенных пунктов и агломераций, применяющихся в странах, входящих в ОЭСР. Пилотные расчеты границ FUA были проведены и для России.
[25] Уляева А. Г. Анализ методических подходов к выделению агломерационных образований /// Региональная экономика: теория и практика. – т. 14, вып. 12, декабрь 2023. – С. 17–27. Доступ по ссылке: https://www.fin-izdat.ru/journal/region/detail.php?ID=70151; (дата обращения – 24.11.2024 г.)
[26] Пономарев Ю., Радченко Д. Реальные границы агломераций и распространение коронавируса. // Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития, 2020. № 9(111). Апрель. Доступ по ссылке: https://www.iep.ru/upload/iblock/e9a/5.pdf (дата обращения – 24.11.2024 г.)
[27] Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. ред. А. П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2023. – С. 115.
[28] Богоров В., Новиков А., Серова Е. Самопознание города // Археология периферии. М., 2023. С. 380–405. Доступ по ссылке: http://issuu.com/mosurbanforum/docs/_d_uf_380-405_ data (дата обращения – 24.11.2024 г.)
[29] Махрова А. Г., Бабкин Р. А Анализ пульсаций системы расселения Московской агломерации с использованием данных сотовых операторов // Региональные исследования. – 2021. № 2. – С. 68–78. Доступ по ссылке: https://elibrary.ru/item.asp?edn=xwavrr&ysclid=lki9xnv96a477818211 (дата обращения – 24.11.2024 г.)
[30] Доступ по ссылке: https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-define-metro-area
[31] Соколов С. Н. Агломерационные формы расселения Югры. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2024. № 12-8. – С. 61–66.
[32] Райсих А Э. Определение границ городских агломераций России: создание модели и результаты. // Демографическое обозрение. № 2. 2020. – С. 63.
[33] Глазычев В., Стародубровская И. и др. Челябинская агломерация: потенциал развития. – Челябинск, 2018. – 278 с.
[34] Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 года №1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»
[35] Доступ по ссылке: https://www.researchgate.net/ publication/329657653_Boundary_delimitation_of_Chelyabinsk_agglomeration (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[36] Доступ по ссылке: http://www.krskstate.ru/dat/bin/docs_attach/73755_773_p.doc (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[37] Доступ по ссылке: https://www.eg-online.ru/article/52751 (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[38] Доступ по ссылке: http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=16197 (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[39] Постановление администрации Новосибирской области от 7 сентября 2009 года №339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»
[40] Постановление Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 года №105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» (с изменениями на 27 декабря 2022 года).
[41] Доступ по ссылке: http://www.minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/ page_1293/08.06.15_soglashenie_ob_sovmestnom_sozdanii_na.pdf (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[42] Постановление Правительства Свердловской области от 31 августа 2009 года №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области»:
[43] Доступ по ссылке: https://minstroy.midural.ru/uploads/2 этап_Книга 1_Отчет_Часть 1.pdf (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[44] Доступ по ссылке: https://tomsk.gov.ru/files/front/download/ id/139371 (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[45] Постановление Законодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 года №2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года»
[46] Доступ по ссылке: https://minstroy.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Tom-6.pdf (дата обращения – 28.11.2024 г.)
[47] Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 года №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»
[48] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р утвердило Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
[49] Протоколом от 21 ноября 2016 года №10 президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта приоритетных проектов
[50] Письмо Минтранса России от 28 декабря 2016 г. № ЕД-24/18277 «О составе дорожной сети городской агломерации»
[51] Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 7, ст. 702
[52] Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 N 1704-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р»
[53] Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 N 3268-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»
[54] Проект федерального закона №189686-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» был внесён на рассмотрение в Государственную Думу 31 мая 2018 года
[55] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.09.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822
[56] Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-ФЗ (ред. от 01.09.2024) "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. N 52 (часть I) ст. 8973
[57] Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 16
[58] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г., № 0001202210060013
[59] Приказ Минрегиона России от 30.09.2013 N 415 (ред. от 18.03.2014) «О Межведомственной рабочей группе по социально-экономическому развитию городских агломераций» (утратил силу), действует Приказ Минрегиона России от 18.03.2014 N 74 "О внесении изменений в приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N 415 "О Межведомственной рабочей группе по социально-экономическому развитию городских агломераций"
[60] Приказ Минрегиона России от 18 марта 2014 года №75 «О мерах по реализации отбора пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в Российской Федерации»
[61] Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 сентября 2014 года №263 утвердил перечень пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в РФ
[62] Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2019 N 3227-р (ред. от 09.11.2023) «Об утверждении плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 2020 г. N 1 (часть II) ст. 142
[63] Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 N 2613-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 40, ст. 6877
[64] Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2022 N 2290-р (ред. от 26.01.2024) « Плане мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 34, ст. 6044
[65] Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 996 "Об утверждении Правил согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций" // Собрание законодательства Российской Федерации, 6 июня 2022 г. N 23 ст. 3824
[66] Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 13.07.2024) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 26 (часть I) ст. 3378
[67] Приказ Минэкономразвития России от 26.09.2023 N 669 (ред. от 31.05.2024) "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций"
[68] Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р (ред. от 07.02.2022) <Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года>
[69] Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 3 сентября 2021 года. Пункт 4. Доступ по ссылке: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/66958 (дата обращения - 30.11.2024 г.)
[70] На совещании по развитию дальневосточных городов 11 сентября 2023 года в рамках Восточного экономического форума Президентом Российской Федерации была поставлена задача определить типовую структуру мастер-планов, закрепить само понятие «мастер-план» и определить его место в системе документов стратегического планирования. Доступ по ссылке: http://kremlin.ru/events/president/ transcripts/72250 (дата обращения – 30.11.2024 г.)
[71] Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2023 N 2058-р (ред. от 29.12.2023) <Об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития ряда агломераций на период до 2030 года>
[72] Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 N 3268-р (ред. от 21.10.2024) <Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года>
[73] Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1189 (ред. от 30.05.2024) "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2021 г. N 31 ст. 5901
[74] Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2459 (ред. от 19.06.2023) "Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" // Собрании законодательства Российской Федерации от 11 января 2021 г. N 2 (часть II) ст. 468
[75] Федеральный закон от 02.08.2019 N 307-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" // Собрании законодательства Российской Федерации от 5 августа 2019 г. N 31 ст. 4466
[76] Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 06-04-11/01/104365 <О размещении на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет Методических рекомендаций по предоставлению "горизонтальных" субсидий на муниципальном уровне>
[77] Федеральный закон от 28.12.2022 N 562-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации, 2 января 2023 г. N 1 (часть I) ст. 9
[78] Закон Приморского края от 18.11.2014 N 497-КЗ (ред. от 02.10.2023) "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края" (принят Законодательным Собранием Приморского края 13.11.2014)
[79] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.10.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301
[80] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 01.01.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 16
[81] Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 01.01.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. N 44 ст. 4147
[82] Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 01.01.2025) "О приватизации государственного и муниципального имущества" // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 января 2002 г. N 4 ст. 251
[83] Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 01.01.2025) "О защите конкуренции" // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3434
[84] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.01.2025) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822
[85] Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1652
[86] Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 29 (часть I) ст. 4350
[87] Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 13.07.2024) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 26 (часть I) ст. 3378
[88] Федеральный закон от 02.08.2019 N 307-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 августа 2019 г. N 31 ст. 4466
[89] Методические рекомендации по организационным схемам управления городскими агломерациями: приложение №4 к протоколу заседания Межведомственной рабочей группы от 19 мая 2016 г. №2 82-АЦ
[90] Волчкова И. В. Методические аспекты индикативного анализа состояния и развития агломераций. // Экономические науки. – 2024. – №1(110). – С. 73–77.
[91] Трунова Н. А. Совершенствование методических подходов к анализу и оценке факторов, влияющих на развитие городских агломераций // Экономические науки. – 2021. – № 3. – С. 205–208.
[92] Публикация Фонда «Институт экономики города» «Концепция оценки уровня развития городских агломераций» (доступ по ссылке: https://www.urbaneconomics. ru/sites/default/files/koncepciya_ocenki_urovnya_razvitiya_gorodskih_aglomeraciy_13.01.17.pdf) (дата обращения – 30.11.2024 г.)
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.