Изучение пьесы М. Горького "на Дне" с Использованием сценических интерпретаций.
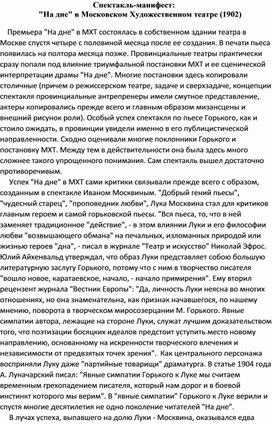
Спектакль-манифест:
"На дне" в Московском Художественном театре
(1902)
Премьера "На
дне" в МХТ состоялась в собственном здании театра в Москве спустя четыре с
половиной месяца после ее создания. В печати пьеса появилась на полтора месяца позже.
Провинциальные театры практически сразу попали под влияние триумфальной
постановки МХТ и ее сценической интерпретации драмы "На дне". Многие
постановки здесь копировали столичные (причем о режиссерском театре, задаче и
сверхзадаче, концепции спектакля провинциальные антрепренеры имели смутное
представление, актеры копировались прежде всего и главным образом мизансцены и
внешний рисунок роли). Особый успех спектакля по пьесе Горького, как и стоило
ожидать, в провинции увидели именно в его публицистической направленности.
Сходно оценивали многие поклонники Горького и постановку МХТ. Между тем в
действительности она была здесь много сложнее такого упрощенного понимания. Сам
спектакль вышел достаточно противоречивым.
Успех "На дне" в МХТ сами критики связывали
прежде всего с образом, созданным в спектакле Иваном Москвиным. "Добрый
гений пьесы", "чудесный старец", "проповедник
любви", Лука Москвина стал для критиков главным героем и самой горьковской
пьесы. "Вся пьеса, то, что в ней заменяет традиционное
"действие", - в этом влиянии Луки и его философии любви
"возвышающего обмана" на печальных, изломанных природой или жизнью
героев "дна", - писал в журнале "Театр и искусство" Николай
Эфрос. Юлий Айхенвальд утверждал, что образ Луки представляет собою большую
литературную заслугу Горького, потому что с ним в творчество писателя
"вошло новое, каратаевское, начало, - начало примирения". Ему вторил
рецензент журнала "Вестник Европы": "Да, личность Луки неясна во
многих отношениях, но она знаменательна, как признак начавшегося, по нашему
мнению, поворота в творческом миросозерцании М. Горького. Явные симпатии
автора, лежащие на стороне Луки, служат лучшим доказательством того, что
поэтизации босяцких идеалов предстоит уступить место новому направлению, основанному
на искренности творческого влечения и независимости от предвзятых точек
зрения". Как центрального персонажа восприняли Луку даже
"партийные товарищи" драматурга. В статье 1904 года А.
Луначарский писал: "Явные симпатии Горького к Луке мы считаем временным
грехопадением писателя, который нам дорог и в боевой инстинкт которого мы
верим". В "явные симпатии" Горького к Луке верили и спустя
многие десятилетия не одно поколение читателей "На дне".
В лучах успеха, выпавшего на долю Луки - Москвина, оказывался
едва заметен Сатин К.Станиславского. Рецензент журнала "Гражданин",
посвятив добрую половину своей статьи анализу образа Луки, о Сатине даже не
вспомнил. Другие авторы прямо замечали: "Угол зрения художника легко
определяется благодаря центральной фигуре в пьесе - страннику Луке, 60-летнему
старцу. Другим резонером является некто Сатин. (...) Но Сатин не занимает
такого выдающегося места в общей концепции пьесы". Даже те, кто негативно
отнесся к "новому, каратаевскому, началу в творчестве Горького", не
могли не отметить зависимости Сатина от Луки в спектакле МХТ, равно как и
внутренней противоречивости образа, созданного Станиславским. Н.Эфрос полагали,
что виноват в этом прежде всего сам автор: "Не скажу, чтобы сам Горький
вполне разобрался в этом спутанном образе". Тем не менее полагал, что в
образе, созданном Станиславским, все же "было больше внешней живописности,
чем нужно, чем позволяла правда "дна".
Известно, что работа над пьесой в МХТ шла трудно и
противоречиво. Разработанный и созданный Станиславским режиссерский план
изобиловал бытовыми деталями и подробностями. Знаменитый поход на Хитров рынок
оставил очень разные впечатления у Немировича-Данченко и Станиславского. Как
описывает О.Радищева, основываясь на переписке и дневниках двух художников,
"отношения к впечатлениям от незнакомой среды сложились разные.
Немирович-Данченко в сравнении пьесы с жизнью постиг "глубину и простоту
"трагедии человеческого падения", нарисованную Горьким".
Станиславский воспринимал все эмоционально: "Ужас!" Впоследствии он
описал свое впечатление в "Моей жизни в искусстве", заново его
переживая и снабжая яркими подробностями небезопасного ночного визита в
уголовный мир, которые заставили Немирович-Данченко написать на полях:
"Опять К.С. [Константин Сергеевич] увлекся: дело было днем и вообще не
страшно".
Вдохновленный экскурсией на Хитров рынок, соприкосновением
с бытом, которого прежде он не знал совершенно, Станиславский стремился в своей
интерпретации пьесы показать не экзотику "дна", а его обыденность, не
отделенность его от других слоев общества, а связность, общность с ними. При
этом режиссер ввел в спектакль 17 не предусмотренных автором персонажей с
подробными биографиями, действиями, характерами, явно перегрузив ими пьесу.
Через месяц "кривлянья" и поисков "характерности"
неожиданно выяснилось, что реализм гасил "интерес", из пьесы исчезала
пружина. Не было той самой "драматической жилки", что сделала бы
мысль "Вся Россия - дно" не простым утверждением, а волнующим
размышлением.
Скоро репетиции по режиссерскому плану Станиславского стали
заходить в тупик. И бразды правления взял в свои руки Немирович-Данченко.
В письме Чехову от 19 декабря 1902 года
Станиславский писал: "Вл.Ив. нашел настоящую манеру играть пьесы
Горького. Оказывается, надо легко и просто докладывать роли. Быть характерным
при таких условиях трудно, и все оставались самими собой, стараясь внятно
подносить публике удачные фразы роли". Требованием "докладывать
роли" Немирович сообщал спектаклю романтическое звучание, превращал его в
манифест.
Манифест не является обозначением литературного или
театрального жанра. Но в качестве характеристики постановочного стержня
"На дне" в МХТ это слово кажется наиболее точным. В традиционном
понимании под манифестом принято понимать "обращение, декларацию
общественных организаций, политических партий, имеющие программный
характер", либо "изложение творческих принципов какого-либо
литературного или художественного направления, группы". Именно как манифест
- декларацию демократических взглядов, уже нашедших свое воплощение в ранних
романтических рассказах Горького, декларацию гуманистических идеалов, - решал
пьесу Немирович-Данченко.
"Манифестации" горьковской драмы была подчинена
работа над мизансценами. Если Станиславский стремился воссоздать на сцене быт
реальных ночлежников, то Немирович-Данченко прежде всего ставил задачу донести
до зрителей идею, слово каждого персонажа, его "правду" и его
философию. Это слово должно было пробудить и сочувствие зрительного зала, и заставить
задуматься, и завлечь каждого в процесс размышлений над жизнью. Именно поэтому
Немирович не только отверг режиссерский план Станиславского в целом, но также
решительно вносил, на первый взгляд, малозначимые изменения в авторский текст.
Ужас при виде жизни "на дне" (поразивший Станиславского во время
знаменитой экскурсии) не должен бы, по мнению Данченко, фокусировать на себе
внимание. Образы ночлежников романтизировались и поэтизировались.
Немирович-Данченко старательно исключал все, что могло бы внести ноту
диссонанса в эту романтизацию. Тщательно корректировал, к примеру, сцены
пьянства ночлежников, вычеркивая употребление ими водки, заменяя ее пивом. У
Станиславского во время драки Сатин размахивал бутылкой - Немирович дал ему в
руки сапог.
Сам Станиславский своего героя не то чтобы не понимал, но
его трактовка явно шла вразрез с тем, что предлагали ему Немирович-Данченко и
Горький. В его собственно режиссерском плане характеристики Сатина рисуют образ
"забулдыги", высокомерного босяка, который к финалу начинает
"что-то понимать". Нынешнюю жизнь Сатина в ночлежке Станиславский
видел нравственно ниже его прошлой жизни. Уже во втором действии он называл
бывшего телеграфиста лентяем. Свои тирады в четвертом акте Сатин произносит, постепенно
пьянея. К монологу о "лжи - религии рабов" Станиславский сделал
примечание: "Кабацкий оратор. Пьяно-вдохновенно. Постепенно вдохновляется.
Чувствуются горечь и раскаяние. Зазвучали лучшие струны". Станиславскому
казалось, что под влиянием бесед с Лукой Сатин меняется к лучшему, что он
теперь "немного понял жизнь", а точнее, Лука заставляет его вспомнить
о чем-то лучшем в себе, далеко запрятанном где-то внутри. "Решительно, он
сегодня как-то ободрился и стал напоминать прежнего Сатина", "Сатин
поет что-то хорошее, оперное, из прежних воспоминаний, например, "Чуют
правду", - записывает режиссер. Однако реализовать этот замысел образа ему
не удалось.
В конце концов драматург посоветовал артисту на время
забыть о натурализме и бросить монологи Сатина о Человеке в зал "как
прокламацию". Публика действительно запомнила "хорошо
докладываемые" Станиславским слова "Человек - это звучит гордо"
и "Правда - бог свободного человека". Сам Горький утверждал в
письмах: "Сатин в четвертом акте - великолепен как дьявол". Эфрос в
своей рецензии также заметил: "Отдельные стороны Сатина, неуходившие силы,
дерзость насмешки и отрицания передавались артистом ярко, они звали к себе
внимание, они тревожили воображение".
Сам Станиславский остался недоволен созданным им образом. В
конце концов он отказался от этой роли. Что-то в ней ему мешало. И прежде всего
это "что-то" было внутренними противоречиями создаваемого образа. Не
было той цельности образа, что захватила публику в актерском создании Москвина,
а также В.Качалова (Барон) и О.Книппер-Чеховой (Настя). Эти трое и определили
успех постановки, отказавшись "легко и просто докладывать роли" и
создав психологически полноценные и полновесные сценические образы. Чрезвычайно
поразил и увлек публику Барон - В.Качалов. О нем писали: "Особенно цельное
впечатление производит В.Качалов в роли Барона". "Контраст
между теперешним жалким положением этого бывшего представителя светского
общества и усвоенными им с детства привычками "хорошего тона" (...)
были мастерски переданы, и бедный Барон в исполнении г.Качалова вызывал к себе
не гадливое чувство презрительности, а был именно жалок, местами даже
трогателен". "Пользуясь очень умело авторским материалом, (Качалов)
красноречиво рассказал всю печально-глупую повесть этого босяка-неженки. (...)
Зрители воспринимали живую, интересную фигуру, убогую душу, странную смесь
чванства и самопрезрения; и сквозь сознание своего превосходства над Настей
странно проступала любовь к ней". Любопытно, что Ольга Книппер вовсе
отказалась от экскурсии на Хитров рынок, а также и от
полушутливого-полусерьезного предложения Горького познакомиться с настоящей
проституткой.
Как могла воспринять публика спектакль, персонажами
которого - впервые в истории российского театра! - стали последние люди в
обществе, даже лишенные права называться членами этого общества, его
аутсайдеры, социальные отбросы? Для нее это была и своего рода экзотика, и
нарушение общепризнанных эстетических норм и правил приличия. Поэтому иные
зрители возмущались: "Ощущение, будто вас насильно полощут в помойной
яме". Газеты публиковали карикатуры, на которых была изображена
ужасающаяся дама - аллегория светской публики. Сочиняли стихи:
Я привез тебе подарок,
и подарок непростой...
Я нашел его в помоях
"на дне"... ямы выгребной!
Один из рецензентов жестоко иронизировал по поводу
художественного содержания пьесы: "Ах, как хорошо, как талантливо, как
честно, как возвышенно лгал нам в тот вечер Максим Горький!»
Другие рецензенты, напротив, восторгались: "Под
грязью, под смрадом, под гнусностью, под ужасом, в ночлежке, среди отребьев:
- Жив человек! Это пьеса-песнь.
Эта пьеса - гимн человеку. Она радостна и
страшна".
В то же время внешний вид ночлежников, этнографическая
точность их костюмов и обиталища, воплощенных на сцене художником В.Симовым,
действовали не менее сильно, чем брошенные в зал речи-"прокламации".
"Когда на сцене открывалась костылевская ночлежка, в первую минуту
казалось, что здесь ни души, потом становилось заметно, как в смрадном тепле
что-то движется, движется движением плесени. Из куч загаженной рвани доносится
обрывок речи, пьяный выкрик, тупой смешок, глухой стон, больной умирающий
вздох. Не то чтобы рвань скрывала людей. Эта рвань, оказывается,
люди". Конкретно-исторический фон был настолько точен и достоверен,
что критика и публика не спешили сомневаться в том, что перед ними прежде всего
- социальная драма. "Имея внешний вид жанровых сцен, бедная фабулой, она
(драма "На дне") задевает самые большие социальные, моральные и даже
философские вопросы", - писал Николай Эфрос, подчеркивая тем самым, что
наиболее важный слой драмы, по его мнению, составляет ее социальная
"правда".
Таким образом, спектакль изначально сочетал в себе две крайние
формы - натуралистическую и символическую. "Докладывание ролей"
призвано было обнажить идейную сущность каждого персонажа, вывести героев
из-под влияния быта (очень сильно влиявшего в начале века на отношение зрителей
к пьесе и ее героям) в умозрительные сферы. Немирович-Данченко, человек с
хорошим литературным чутьем, уловил то, что никак не давалось
Станиславскому-режиссеру. Он понял, что цельность горьковской драмы
основывается не на социальной фабуле, а на философской мысли о Человеке,
которая, однако, была пронесена через весь спектакль Лукой - Москвиным, а не
Сатиным - Станиславским, как хотел того автор.
***
Устойчивый интерес к пьесе Горького сохранялся на
протяжении всего дооктябрьского периода и первого пореволюционного десятилетия.
Согласно летописи, составленной С. С. Даниловым, до 1917 года каждый
театральный сезон приносил не менее двух премьер "На дне". По
некоторым данным, за семь послеоктябрьских сезонов пьеса выдержала
222 представления и по числу зрителей заняла 4-е место - ее посмотрели
188425 человек. Для сравнения: "Принцессу Турандот", побившую
рекорд по числу постановок (407) посмотрело меньше зрителей -
172483 человека... Но уже к концу 20-х интерес к пьесе заметно
ослабевает. Она ставится едва ли чаще одного раза в два года. Временно
привлекает к себе внимание критики в 1937 году - в связи с 35-летием
постановки в МХАТе, но и здесь она идет все реже и реже.
Сразу же после смерти Горького в 1936 году появляется
несколько новых постановок "На дне" в разных городах страны. Скоро,
однако, едва волна посмертного интереса к творчеству писателя пошла на спад,
резко упала и популярность драмы "На дне". Нельзя сказать, что пьеса
совсем сходит со сцены, но основная масса постановок той поры -
спектакли-близнецы. Они схематичны и неинтересны, лишены личного отношения к
драме. Именно в этот период драма вдруг перестает отвечать запросам времени. В
1932 году Горький опубликовал свою статью "О пьесах", в которой
назвал Луку защитником философии "утешительной лжи", а Сатина
представил героем, разоблачающим лживую сущность Луки и его философии,
представителем "воинствующего гуманизма". По данному драматургом
"рецепту" большинство театров и пытались тогда ставить драму
Горького. Лука чаще всего трактовался плоско и однопланово: лжец-утешитель,
жулик, хитрец и проныра. Чтобы дискредитировать Луку, режиссер Ф.Каверин, к
примеру, вводил в свой спектакль ряд картин, отсутствующих у Горького: сбор
денег на похороны Анны, кража Лукой этих денег...
40-50-е - глухой период для драмы. На сценических
подмостках пьеса "оживает" только во второй половине 50-х гг.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.
![]()

