
Маргарет Б%лиотека психоанализа
Фред Лайн
Анни
Бергман
хологическое рождение человеческого младенца

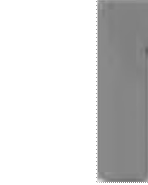 хологическое рождение человеческого
младенца
хологическое рождение человеческого
младенца
MARGARET S. MAHLER
FRED PINE
ANNI BERGMAN
THE PSYCHOLOGICAL BIRTH
OF THE HUMAN INFANT
Symbiosis and Individuation
Basic Books, Inc., Publishers
New York
МАРГАРЕТ С. МАЛЕР ФРЕД ПАЙН
Анни БЕРГМАН
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА
Симбиоз и индивидуация
Перевод с английского
Москва
Когито-ЦЕнтр
2011
удк 159.92
ББК 88 м 18
Все права защищены. Любое использование материалов
Данной книги полностью или частично без разрешения правообладателя запрещается
Переводчики:
Е. А. Шадрова, Е. А. Перова
Научный редактор:
М. В. Ромашкевич
Малер Маргарет С., Пайн Фред, Бергман Анни
М 18 Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация. Пер. с англ.— М.: Когито-Центр, 2011. — 413 с. (Библиотека психоанализа)
ISBN 0-465-06659-3 (англ.)
ISBN 978-5-89353-ЗЗЗ-О (рус.)
удк 159.92
ББК 88
В этой давно уже ставшей классикой книге рассмотрены вопросы психологического рождения ребенка, которое в отличие от биологического представляет собой медленно разворачивающийся интрапсихический процесс. В основе сформулированной в книге новой периодизации психического развития младенца лежат эмпирические данные, полученные авторами посредством оригинальной методологии лонгитюдного наблюдения. В центре внимания авторов — процессы нормальной сепарации-индивидуации, которые рассматриваются как две взаимодополняющие линии развития. Детально описываются субфазы сепарации-индивидуации в процессе выполнения возрастных задач, которые встают перед ребенком и его матерью по мере движения ребенка к собственной индивидуальности.
О Margaret S. Mahler, 1975
О Fred Pine, Appendices, 1975
О Когито-центр, перевод на русский язык, 2011
ISBN 0-465-06659-3 (англ.)
ISBN 978-5-89353-ЗЗЗ-О (рус.)
М.
Ромашкевич. О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ МАРГАРЕТ МАЛЕР![]()
ВВЕДЕНИЕ И
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР![]() 13
13
ЧАСТЬ![]()
СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Глава 1 ОБЗОР![]() 21
21
Глава 2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ и ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕТТИНГА![]()
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СИМБИОЗЕ И СУБФАЗАХ ПРОЦЕССА
СЕПАРАЦИИ-ИНДИВИДУАЦИИ
|
Глава З |
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ-ИНДИВИДУАЦИИ |
|
Глава 4 |
ПЕРВАЯ СУБФАЗА: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕЛА |
|
Глава 5 |
ВТОРАЯ СУБФАЗА: ПРАКТИКОВАНИЕ |
|
Глава 6 |
ТРЕТЬЯ
СУБФАЗА: ВОССОЕДИНЕНИЕ |
|
Глава 7 |
ЧЕТВЕРТАЯ СУБФАЗА: КОНСОЛИДАЦИЯ |
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТАНТНОСТИ ОБЪЕКТА 165
РАЗВИТИЕ ПО СУБФАЗАМ НА ПРИМЕРЕ ПЯТИ ДЕТЕЙ
|
Глава 8 Брюс |
|
|
|
Глава 9 ДОННА |
|
|
|
Глава 10
ВЕНДИ |
|
|
|
Глава 12 Сэм |
ЧАСТЬ IV |
264 |
|
РЕЗЮМЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ Глава 13 ВАРИАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СУБФАЗ В ИХ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ |
||
|
С
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ Глава 14 ЭПИГЕНЕЗ СЕПАРАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ, ОБЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА |
279 |
|
|
И
ПРИМИТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Глава 15 К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯДЕРНОЙ |
298 |
|
|
ИДЕНТИЧНОСТИ
И ГРАНИЦ Я Глава 16 НЕКОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ |
311 |
|
|
О ЗНАЧЕНИИ КРИЗИСА
ВОССОЕДИНЕНИЯ |
317 |
|
ПРИЛОЖЕНИЯ
АнАлиз ДАННЫХ И ЕГО НАУЧНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ ЕДИНИЧНОГО СЛУЧАЯ
В СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Приложение А.
ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ![]() 327
327
Приложение В. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....З4З
Приложение С. НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 351
Литература![]() 378
378
Словарь терминов![]() 403
403
О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ
МАРГАРЕТ МАЛЕР
уществуют две противоположные точки зрения на раннее детское развитие. В чем-то они даже антагонистичны. На одном полюсе находится Маргарет Малер, на другом Дэниэл Стерн.
Самой большой ценностью и общепризнанным открытием Маргарет Малер является определение доэдиповых стадий развития ребенка. И хотя существует критические высказывания по поводу ее теории, это напоминает неоднозначное принятие в свое время идей Фрейда: в обоих случаях критика не столько отрицает, сколько развивает плодотворные идеи.
Обращает на себя внимание «детскость» логики Малер в противовес «взрослости» («взрослообразию») логики большинства аналитиков. В книге «Психика и ее лечение: психоаналитический подход» (М., 2001) В. Тэхкэ пишет о необходимости «осознания повсеместного распространения взрослообразных наклонностей и формулировок в психоаналитических теориях раннего развития. Взрослообразие здесь относится к объяснению психических процессов и поведения в терминах способностей, характерных черт и структур, которые, очевидно или вероятно, еще не сформировались на этой стадии развития. Взрослообразие проявляется как неправильное словоупотребление, так что ранние эволюционные феномены описываются словами, которыми обычно характеризуются феномены, относящиеся к значительно более поздним стадиям развития». «Детскость» логики — умение понимать, что чувствует младенец, в противовес «взрослообразию» с бесчувствием к младенцу и проецированием на него взрослых чувств.
Например, такой авторитетный детский аналитик и известный критик теории Малер как Дэниэл Стерн в своей книге «Межличностный мир ребенка» (СПб., 2006) пишет: «Матери прекрасно знают, что младенец может утвердить свою независимость и сказать решительное „НЕТ!” в четыре месяца тем, как он отводит взгляд, в семь месяцев жестами и интонациями голоса, а в два года словами. Основная клиническая тема автономии или независимости проявляется во всех видах социального поведения, которые регулируют количество и качество вовлеченности». Стерн пытается доказать существование автономии и независимости у младенца практически с рождения, противопоставляя свой взгляд взглядам Малер о наличии аутической и симбиотической стадий развития, а также полемизируя с ней в целом о том, что, на его взгляд, многие функции у младенца появляются гораздо раньше, чем она считает. Возможно, он не замечает, что вступает в противоречие даже с общеизвестным положением Фрейда о том, что изначально в бессознательном нет слова нет, с которым связана автономия и независимость. Но его взгляды соответствуют позиции Мелани Клайн, согласно которой дети — это изначально «монстры», жаждущие пожрать материнскую грудь из зависти и мести, хотя он критикует Мелани Клайн не меньше, чем Маргарет Малер.
Интересно, что Д. Стерн и М. Клайн вступают в противеречие даже с Библией: изначально Адам и Ева жили в Раю — «в добре» = в рамках понятия да. Только съев яблоко, они познали «зло» = понятие нет, которого они не знали с момента создания.
Рене Шпиц в своих книгах «Первый год жизни» (М., 2000), ![]() „НЕТ
” и „ДА”» (М., 2001) наглядно показал, как понятие нет появляется и развивается
в конце первого — начале второго года жизни. В книге «Первый год жизни» Р. Шпиц
назвал главу 11 «Происхождение и начало человеческой коммуникации...». Книга М.
Малер называется «Психологическое рождение человеческого младенца». В обоих
случаях я выделил слово человеческий.
„НЕТ
” и „ДА”» (М., 2001) наглядно показал, как понятие нет появляется и развивается
в конце первого — начале второго года жизни. В книге «Первый год жизни» Р. Шпиц
назвал главу 11 «Происхождение и начало человеческой коммуникации...». Книга М.
Малер называется «Психологическое рождение человеческого младенца». В обоих
случаях я выделил слово человеческий.
Позиция М. Малер сходна с позицией Р. Шпица и противоположна позиции Д. Стерна. Младенец в 7 месяцев, говоря
8
О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ МАРГАРЕТ МАЛЕР
нет интонациями, сохраняет любовную привязанность к материнскому объекту, а тоддлер (ползунок) в 2 года, говоря нет словами, сохраняет агрессивную привязанность к материнскому объекту. При этом в обоих случаях их внутренний мир и их собственное Я сохраняются. А младенец 4 месяцев, отворачивая голову, испытывает глобальную катастрофу своего Я, которое фрагментированно и только-только начинает соединяться во что-то целостное. Он психологически умирает (= его ментализация исчезает), и для него больше не существует ни он сам, ни материнский объект. Остается только физиологическая = животная коммуникация с матерью или няней. Мы все знаем о сильной грусти и последующей анаклитической депрессии, развивающейся у младенцев в этом возрасте в результате отворачивания лица матери. Д. Стерн не объясняет неэмпатичности матери, от которой младенец отводит лицо в 4 месяца. Для взрослообразно мыслящих людей будет понятней, если перевод взгляда сравнить с таким выворачиванием ребенком тела, когда его головка выпадает из рук взрослого. Но мы же понимаем, что не должны допустить этого, как бы младенец ни выворачивался. Это не признак его взрослости, а признак его регресса в физиологическую активность. Или понятнее будет сравнение со взрослым психотиком, впадающим в острый бред и галлюциноз с отрывом от реальности. Мать в этом возрасте не персональная, а сравнима с целым миром, для младенца она — контакт с реальностью, мать-обстановка. В 4 месяца (период нормального симбиоза) младенец совсем не переносит фрустрации, он просто умирает ментально и возвращается на физиологический способ существования, как это было в периоде нормального аутизма (с рождения до 2 месяцев). В 7 месяцев персонификация матери появляется, но еще не устойчивая, легко разрушаемая, пока ребенок не прошел через испытание «страхом чужака 8-месячных». А в 2 года мать уже устойчиво персональная.
Другой пример Д. Стерна — младенец до 2 месяцев распознает мать по запаху и по тактильным ощущениям, и это якобы свидетельствует о психологической коммуникации его с матерью — так же противоположен логике М. Малер.
Со времен исследований Дж. Боулби мы все знаем об импринтинге, который не имеет никакого отношения к ментализации. Так же общеизвестно, что у младенцев, как и у всех животных, есть врожденные физиологические инстинкты. Детеныш любого млекопитающего отличает запах молока своей матери, но это никак не свидетельствует о человеческой, ментальной коммуникации.
«Детскость» и «человечность» взглядов М. Малер — отличительные особенности ее мышления, подхода, теории. Именно ее чувствительность к эмоциям младенца помогла ей внести еще один очень важный вклад в развитие детского (и не только детского) психоанализа: определение нормы развития. Известно определение («достаточно хорошей матери» Д. Винникотта. М. Малер и ее сотрудники многократно вели киносъемку для фиксации разнообразных младенческих феноменов развития и коммуникации с матерями, а также с другими взрослыми и детьми. Чтобы составить часовой фильм о таких «достаточно нормальных» младенцах с «достаточно хорошими матерями», понадобилось сделать выборку из материалов более чем 10 лет видеозаписей!
Критерии «нормальности» устанавливались интуитивно, исходя из личной чувствительности авторов и исполнителей наблюдений и съемок. Данная книга М. Малер написана, в частности, благодаря таким съемкам и их последующему анализу. Чувствительность к «норме» является очень важной в исследованиях людей вообще, а младенцев и тоддлеров (ползунков) особенно. Очень важно выделить те пары матерей — младенцев, а также то время суток и такие ситуации, которые вовсе не отмечены властным материнским давлением (отыгрыванием матерью своих проблем) на младенца или которые содержат это давление в минимальной степени. Это давление часто бывает таким неявным, подспудным, что взрослые привыкли его не замечать. Все мы знаем плачевные результаты такого давления по своим взрослым и детским пациентам, когда они приходят к нам на терапию. Каково же младенцу с его в сотни раз большей чувствительностью! Результатом этого часто бывает общеизвестный симптом защитного прогресса,
10
О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ МАРГАРЕТ МАЛЕР
как и симптом защитного регресса. Защитный прогресс может восприниматься нечувствительными детскими исследователями как более раннее «нормальное» развитие, чем описывает Малер, и давать повод для критики ее теории. Думаю, что это тоже может вводить в заблуждение многих детских исследователей, если они не чувствуют, насколько младенец свободен для проявления своих возможностей, чтобы наблюдать его собственные реакции, а не реакции вынужденного поведения. Это я называю <<чувствительностью к норме», которая свойственна исследованиям М. Малер. В этом смысле понятно выбранные М. Малер часы наблюдений — дневное время после завтрака и всех утренних дел, когда большинство матерей ведет или везет своих малышей на прогулку в парк. Они оказываются в окружении знакомых матерей с младенцами, живущих по соседству, относящихся к такому же среднему классу. И время дня, и окружение, и обстановка благоприятствуют максимальной свободе от актуального внешнего давления, что минимизирует провокации внутренних давлений и отыгрываний. Создается свободное (переходное) пространство для коммуницирования в режиме, аналогичном свободному ассоциированию в ходе анализа. Далеко не все детские исследователи учитывают влияние окружающей обстановки в клинике, когда исследуют младенцев и тоддлеров.
Думаю, книгу М. Малер оценят, в первую очередь, те, кто понимает разницу между естественным нормальным развитием младенца и насильственно (травматически) гиперстимулированным развитием. Уже много написано о скрытом домашнем насилии, но в основном о более старших детях. О младенческом скрытом насилии мы еще очень мало знаем и, думаю, пока еще очень боимся узнать.
Когда Хайнц Кохут пытался объяснить скрытое насилие аналитиков над пациентами, он имел в виду именно этот младенческий уровень коммуникации, недоступный обычному аналитическому взгляду. Классический аналитик в своей нейтрально-абстинентной технике ведет себя так, как если бы в пациенте не было младенческих частей личности. Большинство аналитиков, современников Х. Кохута, к сожалению,
его не поняли. Но со временем число понимающих явно возрастает, и это радует. Растет также число аналитиков, понимающих М. Малер. Это частое явление в истории, когда гениев начинают понимать только потомки.
Выработать взгляд на период нормального симбиоза не как на <<адгезивную идентификацию>> (по Эстер Бик), не как на <<пожирание младенцем груди-матери>> (по Мелани Клайн), но как на нормальный процесс развития — в этом одна из важных заслуг Маргарет Малер. Когда мы читаем какого-то автора, важно не только понять, что и как он видит, но и «с какой колокольни он смотрит>>, почему ему видится именно это.
Позиция М. Малер позволяет нам видеть <<развивающегося ребенка» и вести с ним диалог, что намного терапевтичнее, чем борьба с «трансферентным ребенком», поскольку диалог и сотрудничество с последним невозможны (Тэхкэ В. «Психика и ее лечение: психоаналитический подход>>). два понятия В. Тэхкэ («развивающийся>> и <<трансферентный ребенок») являются хорошей метафорой более давних понятий фиксации и искажений развития. Чтобы возобновить остановленное развитие, надо войти в контакт с той зоной роста личности, которая не была искажена последующей травматизацией или гиперстимуляцией. Надо войти в контакт с ребенком «за 5 минут до войны» («развивающимся»). для этого надо преодолеть сопротивление «инвалида войны» («трансферентного ребенка»). Первый младше и слабее второго, поэтому контакт с ним так затруднен, а контакт со вторым так соблазнителен. Второй способен только на псевдоконтакт или на перверзный контакт, что часто остается нераспознанным, и псевдоанализ с ним может длиться до бесконечности.
М. Ромашкевич
действительный член Московского психоаналитического общества, тренинг-терапевт Общества психоаналитической психотерапии, профессор Института практической психологии и психоанализа
ВВЕДЕНИЕ
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
же в 1949 г. М. С. Малер впервые в общих чертах отметила, что синдромы шизофреноподобных ранних детских психозов имеют аутистическую или симбиотическую природу или сочетают оба этих типа [1] . В 1955 г. совместно с Гослинер она представила свою гипотезу универсальности симбиотических источников определенных состояний человека и высказала предположение об обязательности процесса сепарации-индивидуации в ходе нормального развития [2] .
Эти гипотезы привели к созданию исследовательского проекта под названием <<Естественная история детского симбиотического психоза», выполненного в Детском центре Мастерса в Нью-Йорке под руководством Малер и д-ра Мануэля Фюрера (ведущие исследователи). Проект спонсировался Национальным институтом психического здоровья (USPHS). Он был задуман с целью изучения внутрипсихического процесса сепарации-индивидуации и тяжелых отклонений на симбиотической фазе развития. Результаты данного исследования описаны в книге «О симбиозе и сложностях индивидуации в человеческом развитии: Том 1, Ранние детские психозы» (Оп Нитап Symbiosis and the Vicissitudes of lndividuation: V. 1, Infantile Psychosis) 3 .
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА
На начальных этапах исследование было ограничено изучением детей с симбиотическими психозами и их матерей. Тем не менее необходимость дальнейшей валидизации вышеуказанных гипотез относительно нормального развития человека становилась все более и более очевидной для обоих ведущих исследователей проекта. Сравнение с нормальными детьми и их матерями было необходимо, чтобы подтвердить универсальность гипотез. И начиная с 1959 г. в Детском центре Мастерса стало проводиться исследование контрольной группы «среднестатистических матерей и их нормальных детей». Пилотное исследование «Развитие самоидентичности и ее нарушения» стало возможным благодаря грантам фондов Филд и Таконик. Целью исследования было изучение того, как здоровые дети приобретают чувство собственного «индивидуального существования» и идентичности. Вместе с Малер и Фюрером в нем приняли участие Анни Бергман и впоследствии Эдит Аткин.
Когда в самом начале 1960-х годов Национальная ассоциация психического здоровья проявила интерес к сравнительному исследованию в рамках нашего проекта «Развитие интеллекта у детей, страдающих шизофренией, и у нормальных тоддлеров», взаимодополняемость этих двух исследовательских проектов стала очевидной. К нашей исследовательской группе присоединился д-р Дэвид Л. Майер, и с тех пор к изучению нормативного развития подключилось множество сотрудников, до этого занимавшихся исключительно симбиотическими психозами. В нашем проекте они стали работать в качестве психиатров-исследователей или наблюдателей.
Взаимодополняемость двух исследовательских проектов потребовала усовершенствованной, инновационной методологии, разработкой которой в 1961 г. занялся д-р Фред Пайн. (Работа, выполненная Пайном и Фюрером в 1963 г. — «Изучение фазы сепарации-индивидуации: методологический обзор», — обобщает данный этап всей нашей работы[3] .)
14
ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
По мере развития методологии, позволявшей проводить более систематические психоаналитически ориентированные наблюдения, совместные усилия Малер, Фюрера, Пайна, Бергман и многих других сотрудников привели к разработке новых положений: были сформулированы дополнительные гипотезы о четырех субфазах нормального или околонормального развития[4] . Стало очевидным, что валидность этих дополнительных гипотез должна быть проверена повторным и расширенным изучением другой группы среднестатистических матерей и их нормальных детей.
В феврале 1963 г. Малер обратилась в Национальный институт психического здоровья с просьбой о гранте на исследование. В своей заявке она сообщила: ей вместе с коллегами удалось обнаружить, что корни детского психоза следует искать во второй половине первого года и на втором году жизни. данный временной период в развитии надо считать «фазой сепарации-индивидуации». Малер указала, что целью предполагаемого исследования было верифицировать последовательность четырех субфаз в процессе сепарации-индивидуации при помощи лонгитюдного изучения другой группы диад «мать—дитя» и выделить варианты материнско-детского взаимодействия, типичного для каждой субфазы, а также соответствующие паттерны развития ребенка. Предполагалось, что приобретение дополнительного знания об этом малоисследованном периоде развития могло бы оказаться полезным для предотвращения тяжелых эмоциональных нарушений. Национальный институт психического здоровья выдал для этого исследования грант (МНО82З8) на пять лет (впоследствии продленный). Результаты исследования представлены в данной книге.
Д-р Джон Б. Макдевитт стал нашим партнером в 1965 г. Он внес бесценный вклад в систематизацию нашей работы
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА
и повысил ее точность. Впрочем, большую часть своего времени он предпочитал посвящать не написанию данной книги, а тем важным аспектам исследования, которые представляли для него особый интерес и имели отношение к последующему продолжению работы.
Книга <<Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация» делится на четыре части. Авторы решили вначале представить основные предпосылки, исходя из которых можно подойти к рассмотрению формулировок, используемых в частях II и III. Поэтому в части I, главе 1 (написанной Пайном и Малер), мы обобщаем богатую россыпь идей, содержащихся в двадцати или более тематических работах Малер и ее нынешних и бывших сотрудников. На эту вводную главу во многом оказали влияние наши совместные дискуссии. (В этой и других главах книги используются фрагменты стенограмм собраний нашего небольшого коллектива.)
Часть 1, глава 2, как и приложение (написанное Пайном), описывают функционирование и усовершенствование сеттинга исследования с методологической точки зрения. Связь между работой Пайна и работой Малер и Бергман становится очевидной в частях II и III.
В части II, в главах 3—6, Бергман и Малер описывают свое клиническое исследование первых трех субфаз процесса сепарации-индивидуации и приводят клинические иллюстрации. В главе 7 речь идет о четвертой субфазе и о константности объекта в его психоаналитическом (эмоциональном) значении.
В части III, составленной Малер и Бергман, приводятся показательные «истории субфаз» из развития пяти детей, которых мы наблюдали во взаимодействии с их матерями. Таким образом, в данном разделе мы пытаемся обосновать предположения о широком среднем диапазоне «вариативности нормальности», содержащиеся в части II. Представленные случаи могут служить ярким подтверждением концепции Макдевитта и Пайна, на которую в основном опирается глава 7.
В заключительной части IV Малер подводит итоги исследовательских наблюдений и предлагает некоторые обобщения и изменения акцентов в прежде принятых метапсихо-
16
ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
логических концепциях. Она также указывает на некоторые (но не на все) специфические области, которые, по ее мнению и мнению ее сотрудников, требуют дальнейшего психоаналитического исследования.
Маргарет С. Малер Фред Пайн
Анни Бергман
В ПЕРСПЕКТИВЕ
ГЛАВА 1
 иологическое рождение
человеческого младенца и психологическое рождение индивидуума не совпадают во
времени. Первое — это яркое, наблюдаемое и имеющее четкие границы событие, а
второе — медленно разворачивающийся внутрипсихический процесс.
иологическое рождение
человеческого младенца и психологическое рождение индивидуума не совпадают во
времени. Первое — это яркое, наблюдаемое и имеющее четкие границы событие, а
второе — медленно разворачивающийся внутрипсихический процесс.
Для более или менее нормального взрослого переживание как своей полной погруженности в окружающий мир, так и своей полной отделенности от мира принимается как должное, как сама жизнь. Осознание своего Я и поглощенность чем-либо без самоосознания являются двумя полярностями, между которыми он движется с разной степенью легкости. Но это также является результатом медленно разворачивающегося процесса.
Мы рассматриваем психологическое рождение индивидуума как процесс сепарации-инДивиДуации: установление чувства собственной отдельности и формирование отношений с реальным миром, особенно в аспекте опыта, связанного с собственным телом и с главным представителем окружающего мира — первичным объектом любви. Как любой внутрипсихический процесс, сепарация-индивидуация оказывает влияние на весь жизненный цикл целиком. Она никогда не заканчивается, и в новых жизненных фазах можно увидеть действующие отголоски самых ранних процессов. Но принципиальные психологические достижения данного процесса происходят в период от четырех или пяти месяцев до 30-го или 36-го месяца — в период, который мы называем фазой сепарации-инДивиДуации. Нормальный процесс сепарации-индивидуации, следуя сразу
за нормальным, с точки зрения развития, симбиотическим периодом, подразумевает достижение ребенком отдельного функционирования в присутствии и при условии эмоциональной доступности матери (Mahler, 1963). Ребенок постоянно сталкивается с минимальными угрозами потери объекта (которые, видимо, сопровождают каждый шаг процесса созревания). Однако, в отличие от ситуации травматической сепарации, нормальный процесс сепарации-индивидуации протекает в ситуации возрастной готовности к независимому функционированию и сопровождается удовольствием от этого состояния.
Сепарация и индивидуация представляют собой два комплементарных процесса развития: сепарация включает выход ребенка из симбиотического слияния с матерью (Mahler, 1952), а индивидуация состоит из тех детских достижений, которые убеждают ребенка в наличии у него его собственных индивидуальных характеристик. Это два взаимосвязанных, но не идентичных процесса, они могут протекать с разной скоростью, запаздывая друг относительно друга или опережая один другой. Так, преждевременное локомоторное развитие, позволяющее ребенку отделиться от матери физически, может привести его к осознанию своей отдельности еще до того, как будут сформированы внутренние механизмы регуляции (ср.: Schur, 1966), компоненты индивидуации, позволяющие справляться с подобным осознанием. Напротив, вездесущая инфантилизирующая мать, которая препятствует внутреннему стремлению ребенка к индивидуации, обычно выражающемуся в автономном локомоторном функционировании его Эго, может задерживать развитие у ребенка способности разделять Я и Другого, несмотря на прогрессивное или даже опережающее возраст развитие его когнитивных, перцептивных и аффективных функций.
Беря истоки в первоначальном детском примитивном когнитивно-аффективном состоянии, характеризующемся отсутствием дифференциации Я—другой, основная внутрипсихическая и поведенческая жизнь начинает организовываться вокруг проблем сепарации и индивидуации. Период, в котором подобная организация занимает центральное место, мы определяем как фазу сепарации-индивидуации. В части II мы опишем этапы данного процесса (субфазы), начиная с самых ранних признаков дифференциации, прослеживая затем период детской поглощенности собственным автономным функционированием при практически полной исключенности матери, потом не менее важный период воссоединения («рапрошман»), когда ребенок, очевидно, по причине более ясного восприятия своей отдельности от матери, срочно перенаправляет основное внимание обратно на мать и в конечном итоге приходит к примитивному чувству своего Я, своего существования и индивидуальной идентичности, а также «движение к константности либидинального объекта и Я».
Мы хотели бы подчеркнуть, что в фокусе нашей работы находится раннее детство. Мы не намерены, как это часто бывает, делать широких допущений, подразумевая, что каждый шаг в сторону видоизменения или расширения чувства «Я» в любом возрасте является частью процесса сепарации-индивидуации. Нам кажется, это сделало бы понятие выхолощенным и ошибочно увело бы в сторону от того, что мы видим его сердцевиной — раннее внутрипсихическое Достижение чувства отдельности. Прошлые, частично нерешенные проблемы с самоидентичностью и телесными границами или конфликты, связанные с сепарацией и переживанием отдельности, могут оживать (или могут оставаться периферически или даже центрально активными) на любом или на всех жизненных этапах; но истоки этого процесса лежат в детстве и связаны с событиями и ситуациями, возникающими отнюдь не заново. На них мы и должны направить свое внимание.
Что касается места нашей работы в психоаналитической теории в целом, то мы считаем, что она имеет непосредственное отношение к двум основным вопросам: адаптации и объектным отношениям.
АДАПТАЦИЯ
С точки зрения истории развития психоанализа адаптацию начали изучать довольно поздно. Основоположником рассмотрения адаптации с психоаналитических позиций стал Хартманн (Hartmann, 1939). Возможно, это связано с тем, что в клиническом психоанализе взрослых столь многое исходит от самого пациента — от его имеющих давнюю историю черт характера и доминирующих фантазий. Но в работе с младенцами и детьми адаптационный процесс поражает наблюдателя своей силой. Изначально развитие ребенка протекает в матрице материнско-младенческого диадического союза. Какую бы приспособленность к ребенку ни демонстрировала мать, и вне зависимости от того, насколько она чутка и эмпатична, мы твердо убеждены в том, что свежая и пластичная способность ребенка к адаптации и его потребность в ней (в стремлении получить удовлетворение) значительно сильнее, чем у его матери, чья личность со всеми ее характерными паттернами и защитами уже жестко и часто ригидно организована (Mahler, 1963). Формирование ребенка связано с попытками подстроиться под стиль и образ действий матери, — неважно, представляет ли она здоровый или патологический объект для такой адаптации. Метапсихологически, фокус Динамической точки зрения — конфликт между импульсом и защитой — в ранние месяцы жизни гораздо менее важен, чем он станет впоследствии, когда структуризация личности вызовет к жизни интра- и интерсистемные конфликты первостепенной важности. Напряжение, травматическая тревога, биологический голод, эго-аппарат и гомеостаз являются околобиологическими понятиями, которые соответствуют самым ранним месяцам жизни и являются предшественниками соответственно психической тревоги, сигнальной тревоги, оральных или других импульсов, эго-функций и внутренних механизмов регуляции (защит и черт характера). Адаптивный подход в большей степени соответствует ранним стадиям развития, поскольку, когда ребенок рождается, необходимость адаптации максимально велика. К счастью, ребенок готов к адаптации благодаря пластичности и несформированности своей личности, которая развивается под влиянием окружающей среды и необходимости приспособиться к ней. Адаптационные способности имеются у ребенка уже в раннем младенчестве.
ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мы полагаем, что наша работа внесла немалый вклад в психоаналитическое изучение объектных отношений. Ранние работы по психоанализу показали, что развитие объектных отношений зависит от влечений (Freud S., 1905; Abraham, 1921, 1924; Fenichel, 1945). Такие понятия, как нарциссизм (первичный и вторичный), амбивалентность, садомазохизм, оральный или анальный характер и эдипов треугольник, одновременно относятся как к проблемам влечений, так и к объектным отношениям (ср.: Mahler, 1960). Наша работа должна рассматриваться как дополняющая вышеуказанные в том, что касается формирования объектных отношений на базе нарциссизма параллельно раннему развитию Эго, которое образуется в контексте одновременного либидинального развития. Наша работа посвящена достижению когнитивноаффективного осознания отдельности как предварительному условию настоящих объектных отношений, роли эго-аппарата (таких функций, как моторика, память, восприятие) и более сложных эго-функций (таких, как тестирование реальности), дающих толчок такому осознанию. Мы собираемся показать, как объектные отношения развиваются из младенческого симбиоза или первичного нарциссизма и видоизменяются параллельно достижению сепарации и индивидуации и как, в свою очередь, эго-функционирование и вторичный нарциссизм развиваются на базе нарциссического и позднее объектного отношения к матери.
Что касается клинических психопатологических феноменов, мы считаем, что наша работа направлена на изучение того, что Анна Фрейд (Freud А., 1965b) назвала нарушениями в развитии, которые благодаря постоянным изменениям энергии могут сгладиться на более поздних этапах и которые при определенных обстоятельствах могут быть предшественниками детских неврозов и патологии среднего уровня. В редких случаях, когда развитие на субфазах протекало крайне неудачно или было очень тяжело нарушено, мы обнаружили, что в результате этого может возникнуть пограничная феноменология, или пограничное состояние, или даже психоз. Наши данные подтверждаются работами ФриджилингШредера (Frijling-Schreuder, 1969), Кернберга (kernberg, 1967), а также Г. и Р. Бланк (G. and R. Blanck, 1974).
В данной книге, в отличие от работы, посвященной изучению ранних детских психозов (Mahler, 1968), в основном описывается среднестатистическое развитие и делается попытка лучше понять патологию преимущественно среднего уровня.
Во время изучения ранних детских психозов с преобладанием как аутистического (kanner, 1949), так и симбиотического синдромов (Mahler, 1952; ср.: Mahler, Furer, Settlage, 1959) дети, находящиеся под наблюдением, казалось, были не способны преодолеть порог галлюцинаторного сумеречного состояния, пребывая на общей симбиотической орбите мать— дитя (Mahler, Furer, 1960; ср.: Mahler, 1968b). Эти дети могут никогда не демонстрировать реакцию или способность адаптации к стимулам, исходящим от материнской фигуры. Иначе говоря, эти дети не способны использовать «основное материнское отношение>> (Mahler, Furer, 1966). При этом они могут впадать в панику при любом намеке на реальную отделенность. Даже тренировка автономных функций (например, моторики или речи) может привести к отрицанию или искажениям в целях сохранения иллюзии безусловно всемогущего симбиотического союза (ср.: Ferenczi, 1913).
Что бы ни случилось, у этих детей имеется явный дефицит способности использовать мать как сигнальную систему для ориентации в мире реальности. В результате детская личность терпит крах в попытке самоорганизации вокруг отношений с матерью как с внешним объектом любви. Эго-аппарат, который обычно формируется на базе отношений с «достаточно хорошей» матерью (см.: Winnicott, 1962), не может благополучно развиваться. В терминах Гловера (Glower, 1956), ядро Эго не интегрируется, а вторично распадается. Ребенок с превалирующими аутистическими защитами, кажется, обращается с «матерью во плоти» (Bowlby, Robertson, Rosenbluth, 1952) как с неживой; только в случае, если его аутистическому панцирю угрожает насильственное проникновение со стороны человека,
он реагирует яростью и/или паникой. С другой стороны, ребенок с превалирующей симбиотической организацией обращается с матерью, как будто она является частью его самого, слита с ним (Mahler, 1968). Такие дети не способны интегрировать в себя образ матери как отдельного и полностью внешнего объекта; вместо этого они поддерживают расщепление между хорошими и плохими частичными объектами, поочередно желая инкорпорировать хороший и исключить плохой. В связи с тем, что подобные решения чередуются, адаптация к окружающему миру (наиболее конкретно представленная в развитии объектного отношения к матери [или отцу]) и индивидуация, связанная с формированием уникальной личности ребенка, не могут развиваться гладко, начиная уже с самых ранних этапов. Таким образом, базовые человеческие характеристики не находят своего выражения и искажаются уже в своей рудиментарной основе или распадаются в дальнейшем.
Изучение периода нормального симбиоза и нормальной сепарации и индивидуации помогает сделать более понятными нарушения развития у психотичных детей.
НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Во время дискуссий и докладов на протяжении последних лет мы выяснили, что три наших базовых понятий часто трактуются неверно и требуют дополнительного прояснения. Прежде всего, мы используем термин сепарация, или отделенность, для обозначения интрапсихического достижения чувства отделенности от матери и посредством этого от всего мира как такового. (Это то самое чувство отдельности, которого не может достичь психотичный ребенок.) Такое чувство отдельности постепенно приводит к ясным интрапсихическим репрезентациям себя как отличного от репрезентаций объектного мира (Jacobson, 1964). В случае нормального развития действительное физическое отделение (происходящее в повседневной жизни) является важным вкладом в ощущение ребенком себя как отдельного человека, но это именно чувство существования в качестве отдельного индивида, а не факт ощущения себя физически отделенным от кого-то, который мы будем обсуждать. (На самом деле, при некоторых отклоняющихся от нормы условиях факт физической сепарации может привести даже к большему, сопровождающемуся приступами паники отрицанию факта отделения и к галлюцинаторному симбиотическому союзу.)
Во-вторых, аналогичным образом мы используем термин симбиоз (Mahler, Furer, 1966) для обозначения скорее интрапсихических, а не поведенческих феноменов. Можно сказать, что симбиоз — это скорее предполагаемое состояние. Мы имеем в виду не столько прилипчивое поведение, сколько часть примитивной когнитивно-аффективной жизни, в рамках которой дифференциация между собой и матерью не происходит совсем или стирается в результате регрессии. На самом деле, для этого необязательно требуется физическое присутствие матери, такое состояние может базироваться на примитивных представлениях о единстве и/или скотомизации или отрицании противоречащих восприятий (см. также: Mahler, 1960).
В-третьих, Малер (Mahler, 1958а, Ь) еще ранее рассматривала ранний детский аутизм и симбиотические психозы в качестве двух тяжелейших нарушений идентичности. Мы используем термин идентичность для описания самого раннего осознания чувства собственного бытия, существования — ощущения, которое, как мы полагаем, частично включает в себя катектирование тела либидинальной энергией. Это не чувство «кем я являюсь», но «что я существую»; это самый ранний шаг в процессе развития индивидуальности.
СИМБИОТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ
И НОРМАЛЬНАЯ СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ.• ОБЗОР
Так сложилось, что, начав с наблюдения нормального развития, мы постепенно переключились на изучение патологических феноменов, включая детские психозы. Конечно,
проблемы нормального развития не остались совсем без внимания. Несмотря на то, что данная работа непосредственно основана на исследовании симбиотического психоза в раннем детстве, мы бы хотели проследить, каким образом из этого исследования естественно вытекает пересмотр нами некоторых соображений по поводу нормального развития.
Гипотеза о нормальной фазе сепарации-инДивиДуации
В нашем предыдущем исследовании естественной истории симбиотического детского психоза (совместно с Фюрером) мы достигли предела понимания, когда пытались выяснить, почему такие дети-пациенты были не способны развиваться дальше за пределы искаженной симбиотической фазы, почему им приходится даже возвращаться назад к причудливым механизмам поддержания жизни, имеющим вторичную аутистическую природу (Mahler, Furer, 1960; Mahler, 1968b). Чтобы понять это, нам показалось необходимым узнать больше о последовательности этапов, ведущих к нормальной индивидуации, и в особенности о сенестетическом, довербальном и раннем границеобразующем опыте, превалирующем на первых двух годах жизни.
Мы задавались разнообразными вопросами. В чем состоит
«обычный способ» стать отдельным индивидуумом, который был недоступен этим
психотичным детям? На что похож «процесс вылупления» у нормального ребенка? Как
понять все аспекты влияния матери на эти процессы? Почему подавляющее
большинство детей оказываются способны достичь этого протекающего постепенно
переживания второго психологического рождения, которое, беря начало в
симбиотической фазе, продолжается в процессе сепарации-индивидуации? И каковы
генетические и структурные характеристики, не позволяющие препсихотическому
ребенку пережить опыт второго рождения, вылупления из симбиотической ![]() границы»
мать—дитя?
границы»
мать—дитя?
К 1955 г. мы (Mahler, Gosliner) смогли сформулировать концепцию нормальной фазы сепарации-индивидуации.
Позвольте из соображений лаконичности назвать [этот] период... фазой сепарации-инДивиДуации в личностном развитии. Мы отстаиваем ту точку зрения, что данная фаза сепарации-индивидуации является ключевой по отношению к Эго и развитию объектных отношений. Также мы убеждены, что характерным страхом данного периода является сепарационная тревога. Данная сепарационная тревога не является синонимом страха аннигиляции в связи с ощущением покинутости. Эта тревога является менее резко затопляющей, чем тревога предыдущей фазы. Она является, тем не менее, более сложносоставной, и в дальнейшем мы надеемся детально исследовать эту сложность. Также необходимо изучить мощную побудительную силу, которая дает импульс к сепарации [5] вкупе со страхом сепарации, если мы желаем понять тяжелую психопатологию детства, которая так часто начинается неявно или проявляется резко, начиная со второй половины второго года жизни.
Данная фаза сепарации-индивидуации является как бы опытом второго рождения, который описывается как <<вылупление из симбиотической материнско-детской общей мембраны». Такое вылупление является таким же неизбежным, как и биологическое рождение (Mahler, Gosliner, 1955, р. 196).
И далее:
С целью понимания нашей точки зрения, мы предлагаем сфокусироваться на защитной позиции ребенка в возрасте от 18 до 36 месяцев, желающего защищать свой находящийся в становлении, приносящий удовольствие и ревностно охраняемый образ себя от посягательств матери и других важных фигур. Это клинически важный и бросающийся в глаза феномен в период
фазы сепарации-индивидуации. Как указала Анна Фрейд (Freud А., 1951b), в возрасте двух и трех лет у тоддлеров можно наблюдать квазинормальную фазу негативизма. Это является характерной поведенческой реакцией, отмечающей процесс освобождения от материнско-детского симбиоза. Чем менее удовлетворительной или более паразитической была симбиотическая фаза, тем более заметной и преувеличенной будет такая негативистическая реакция. Угроза репоглощения вызывает страх, и необходимо защитить недавнюю и едва начавшуюся индивидуальную дифференциацию. По достижении возраста 15—18 месяцев первичный этап объединения и идентификации с матерью перестает быть конструктивным для эволюции Эго и объектного мира (Mahler, Gosliner, 1955, р. 200).
В настоящее время мы считаем, что начало сепарации-индивидуации происходит гораздо раньше, и готовы значительно расширить эти ранние формулировки.
Гипотеза о возникновении тревоги в связи с осознанием отдельности
Была выдвинута гипотеза (Mahler, 1952), что у некоторых тоддлеров созревание двигательной и других автономных эгофункций сопровождается отставанием в эмоциональной готовности функционировать отдельно от матери. Это приводит к панике во всем организме, психическое содержание которой пока что не может быть определено, поскольку ребенок (все еще на довербальной стадии) не может об этом сообщить (ср. также: S. Harrison, 1971). Такая паника никогда не проявляется в виде сигнальной тревоги, но сохраняет свой характер острого дистресса на фоне неспособности ребенка использовать Другого как внешний стабилизатор или вспомогательное Эго. В дальнейшем это препятствует структурализации Эго. Дело в том, что процесс созревания продолжается, в то время как психологического развития не происходит[6] , что приводит
к чрезвычайной хрупкости рудиментарного Эго. За этим может последовать дедифференциация и фрагментация, что в результате приводит к хорошо известной клинической картине ранних детских психозов (Mahler, 1960).
Такой взгляд на внутрипсихические события остается, конечно, гипотетическим — особенно в свете довербальной природы обсуждаемых феноменов. Тем не менее он кажется вполне соответствующим наблюдаемым клиническим данным, которые не гипотетичны, а описательны, в том, что касается потери уже достигнутой автономности функций и остановки дальнейшего развития. Такая фрагментация может произойти в любое время с конца первого и на протяжении второго года жизни. Она может последовать за болезненной травмой, но чаще происходит в связи с событиями, которые не кажутся значимыми, такими как непродолжительная разлука или незначительная утрата. Это подтолкнуло нас к изучению маскированных <<приступов паники>> у нормальных младенцев и тоддлеров во время сепарации-индивидуации и способов, при помощи которых мать и ребенок как совместно, так и индивидуально с ними справляются. Наши умножающиеся знания о задачах развития, с которыми сталкивается нормальный младенец и подросший ребенок во время фазы сепарации-индивидуации, о злоключениях и трудностях и временных регрессиях, наблюдаемых в поведении этих детей, обеспечили нас основой для формулирования теоретических рамок нашего понимания как доброкачественных кратковременных нарушений и невротических расстройств, так и редких случаев более тяжелых и длительных реакций, демонстрируемых психотичными детьми в раннем возрасте или позже.
Гипотеза о развитии чувства идентичности
Согласно третьей гипотезе (Mahler, 1958а, Ь), нормальная сепарация-индивидуация является важнейшим предварительным условием развития и поддержания «чувства идентичности». Интерес к проблеме идентичности возник в связи с наблюдением озадачивающих клинических феноменов — а именно
32
неспособности психотичного ребенка удержать чувство целостности, индивидуального существования, не говоря уже о «чувстве человеческой идентичности». Аутистические и симбиотические ранние детские психозы рассматривались как два в высшей степени тяжелых расстройства чувства «идентичности» (Mahler, 1958а): было ясно, что такие редкие состояния были вызваны тем, что с самого начала что-то пошло не так, в частности, в самых ранних взаимодействиях внутри диады <<мать—дитя». Кратко говоря, основная идея центральной гипотезы такова: в случаях первичного аутизма существует замороженная, неодушевленная преграда между субъектом и человеческим объектом, а в симбиотическом психозе имеет место слияние, отсутствие дифференциации между Я и не-я — полное размывание границ. Эта гипотеза, в конце концов, привела нас к изучению формирования чувства отдельного существования и идентичности в норме (ср.: Mahler, 1960).
О катализирующей функции нормального материнского отношения
Четвертая гипотеза возникла на основе впечатляющего и характерного наблюдения, состоявшего в том, что симбиотические психотичные дети были не способны использовать мать как реальный внешний объект в качестве базы для развития стабильного чувства отдельности от реального мира и связанности с ним. Работа с нормальными диадами «мать—дитя» пробудила наш интерес к модальностям контакта между матерью и ребенком на разных этапах процесса сепарации-индивидуации — к модальностям, в рамках которых поддерживается контакт, даже несмотря на идущий на убыль симбиоз, и к особенной роли матери не только в поддержании чувства отдельности ребенка, но также и в специфическом формировании черт его стремящейся к индивидуации личности посредством взаимодополнения, противопоставления, идентификации и разотождествления (Greenson, 1968).
Так развивались основные идеи работы с симбиотическими психотичными детьми, естественным образом постепенно трансформируясь в идею организации работы с нормальными диадами «мать—дитя».
В конце 1950-х годов в Детском Центре в Нью-Йорке Фюрер и Малер начали систематизированное исследование «Естественная история детского симбиотического психоза». Это было исследование терапевтического воздействия, в котором мы использовали так называемую трехчастную структуру (мать, ребенок и терапевт), примененную впервые доктором Паулой Элкиш (Elkisch, 1953). Мы пытались установить то, что в своих поздних работах Августа Олперт (Alpert, 1959) назвала бы корректирующими симбиотическими отношениями между матерью и ребенком, при помощи терапевта, исполняющего роль моста между ними. Одновременно с вышеуказанным проектом началась пилотная фаза наблюдения-исследования нормальных пар мать—дитя. Последнее явилось двухфокусным наблюдением-исследованием (т. е. в центре внимания были и мать, и ребенок) более или менее случайно выбранных диад «мать—дитя», в ходе которого детско-материнские пары сравнивались друг с другом и с самими собой по прошествии времени. Эти исследования раннего детского симбиотического психоза и нормальных диад «мать—дитя» проводились параллельно в течение около четырех лет и продолжались по отдельности еще в течение семи лет.
Исследования среднестатистических диад «мать—дитя» велись более систематично и широкомасштабно с 1963 г. 2 Вопросы, которыми мы изначально задавались, соотносились с двумя основными гипотезами: (1) что существует нормальный и универсальный внутрипсихический процесс сепарации-индивидуации, которому предшествует фаза нормального симбиоза; и (2) что в определенных предрасполагающих к этому, но крайне редких случаях созревание двигательной и других
![]()
1 Грант М-3353 Национального Института Психического Здоровья, USPHS 1959/1960-62/1963, «Естественная история детского симбиотического психоза», М. С. Малер и М. Фюрер — ведущие исследователи.
2 Их продолжили исследования д-ра Дж. Б. Макдевитта, Анни Бергман и др.
автономных эго-функций в случае одновременного отставания в эмоциональной готовности функционировать отдельно от матери дает толчок к возникновению паники, охватывающей весь организм. Такая паника вызывает фрагментацию Эго, что приводит к формированию клинической картины ранних детских симбиотических психозов (Mahler, 1960).
С тех пор мы выяснили, что существует неисчислимое количество форм и степеней нарушенности процесса сепарации-индивидуации.
Метод изучения процесса нормальной сепарации-индивидуации схож с методом, используемым в исследовании «Естественная история детского симбиотического психоза» (трехчастная структура), и характеризуется длительным присутствием матери, физической обстановкой, специально созданной и в высшей степени подходящей для наблюдения за готовностью маленького ребенка к активному экспериментированию с отделением и воссоединением, а таюке возможностью наблюдать реакцию ребенка на переживание пассивной сепарации.
Работа по изучению фазы нормальной сепарации-индивидуации, в свою очередь, обеспечила значительную обратную связь для более ранних работ по детскому симбиотическому психозу. Благодаря нашим описаниям субфаз процесса сепарации-индивидуации мы смогли предвосхитить и осмыслить некоторые перемены к лучшему, наблюдаемые у нарушенных детей в течение курса интенсивной терапии (ср.: Bergтап, 1971; Furer, 1971; kupferman, 1971). Даже сами по себе формулировки относительно симбиотического психотического ребенка (приведенные выше) несут на себе след нашего понимания процесса сепарации-индивидуации (Mahler, Furer, 1972; Mahler, 1969b, 1971).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ И ВЫВОДАМ
Вопрос о выводах, которые можно сделать, исходя из непосредственных наблюдений, относящихся к довербальному
периоду, — один из самых противоречивых. Ребенок не владеет речью, и даже передать полученный материал с помощью вербальных средств ему крайне затруднительно. Проблема психоаналитического реконструирования находит здесь свою параллель с проблемой психоаналитического конструирования, т. е. построения картины внутренней жизни ребенка в довербальный период — задачи, в выполнении которой сенестетическая эмпатия играет, как мы полагаем, ведущую роль. Хотя мы не можем полностью доказать правомерность подобных построений, мы, тем не менее, считаем, что они могут быть полезны и что мы обязаны попытаться их сформулировать.
Аналитики занимают различные позиции, отражающие широкий спектр попыток понимания довербального периода. Одну крайнюю точку зрению отстаивают те, кто верит во врожденный комплекс эдипальных фантазий, — кто вслед за Мелани Кляйн и ее последователями считает, что квазифилогенетическая память, врожденные символические процессы свойственны самым ранним периодам внеутробной психической жизни человека (Mahler, 1969; Furer, цит. по: Glenn, 1966). На другом конце спектра находятся те фрейдистские аналитики, которые относятся с большим одобрением к веским вербальным и реконструктивным доказательствам, сформированным на базе фрейдовских метапсихологических конструктов, — те, кто, по-видимому, полагает, что нет веских причин считать довербальный материал основой для большинства наших гипотез, пусть даже экспериментальных и самых осторожных. Они требуют, чтобы такие гипотезы были также подтверждены реконструкцией, а именно клиническим и, конечно же, по большей степени вербальным материалом. Также существует большая группа аналитиков, занимающих умеренные позиции и готовых с осторожностью рассмотреть тот вклад в теорию, который вносят умозаключения, основанные на наблюдении довербального периода (Mahler, 1971).
В общем, выдвигая догадки относительно довербального периода, построенные на клинических психоаналитических данных, аналитики-теоретики отстаивают свое право всегда задавать вопросы «Почему?», «Что привело к этому?» и отвечать на них, прослеживая все более и более ранние вербализируемые воспоминания и в конце концов связывая эти воспоминания с довербальными (но ясно наблюдаемыми) феноменами раннего детства, которые изоморфны вербализованным клиническим феноменам; например, комментарии Фрейда (Freud S., 1900, р. 271) касательно сновидений о полетах и переживаний маленьких детей, когда их подбрасывают взрослые (ср. также: Anthony, 1961). Таким образом, мы изучаем феномены довербального периода, которые выглядят (со стороны) совпадающими с теми видами переживаний, о которых пациенты лишь гораздо позже смогут сообщить в анализе, т. е. в своих вербализованных воспоминаниях, возникающих во время свободных ассоциаций, и на тот момент без осознания их источников.
Как и в клиническом психоанализе, для нашего метода работы от начала до конца было характерно «свободно плавающее внимание» с целью заметить обычные и ожидаемые, но гораздо в большей степени неожиданные, удивительные и необычные способы поведения и результаты взаимодействий. Как во время анализа ухо функционирует в качестве психоаналитического инструмента (см.: Isakower, 1939), так в психоаналитическом наблюдении за маленькими детьми глаз аналитика свободно следует туда, куда ведет его феноменологическая последовательность (ср.: Freud А., 1951b).
Но независимо от этих основных вариантов психоаналитической установки наблюдающий за маленьким ребенком в довербальный период имеет особую возможность видеть тело в движении. Чтобы объяснить одну из главных причин, почему мы делаем выводы, основываясь на невербальном поведении, позвольте нам вкратце отметить значимость кинестетической и двигательной функций для растущего ребенка. Как было указано в ряде работ в 1940-е годы (Mahler, 1944; Mahler, Luke, Daltroff, 1945; Mahler, Gross, 1945; Mahler, 1949а), наблюдение феноменов, связанных с моторикой, кинестетикой и жестами (аффектомоторикой), относящихся ко всему теЛУ, может обладать большой ценностью. Это позволяет сделать предположение о том, что происходит внутри ребенка; точнее
говоря, моторные феномены коррелируют с внутрипсихическими событиями. Это особенно верно для первых лет жизни.
Почему это так? Потому что моторные и кинестетические средства выражения являются основными экспрессивными и защитными способами реагирования, доступными маленькому ребенку (задолго до того, как вербальная коммуникация займет свое место). На их основе мы можем делать выводы о внутреннем состоянии, поскольку они являются его конечной производной. Нельзя с уверенностью судить о внутреннем состоянии, но многократные, повторяемые и проверенные наблюдения и умозаключения могут предохранить от глобальной ошибки в предположениях[7] . Более того, в довербальный период, пока речь не взяла на себя главную экспрессивную функцию, задача коммуникации лежит в основном на сферах мимики, моторики и жестов. И наконец, очень маленький ребенок еще не овладел такими средствами телесной экспрессии, как модуляции, сдерживание, притворство и защитные искажения.
Богатое и экспрессивное аффектомоторное (жестовое) поведение маленького ребенка, охватывающее все его тело, а также его передвижения вперед-назад с целью сближения и привлечения внимания или увеличения дистанции между ребенком и его матерью — их частота, амплитуда, длительность и интенсивность,— служили нам важными отправными точками, дававшими представления о связях со многими феноменами, которые мы обнаруживаем посредством вербальной коммуникации в более зрелом возрасте. Мы наблюдали экспрессивную двигательную активность маленького ребенка по мере прогресса от немедленного отреагирования
инстинктивного импульса к использованию обходного пути, обеспечиваемого примитивными способностями Эго откладывать, обучаться и предугадывать. Мы наблюдали и оценивали автономное и свободное от конфликтов моторное функционирование ребенка, уделяя особое внимание прогрессивным шагам в процессе его сепарации-индивидуации. Кратко говоря, наблюдение моторно-жестового поведения дало нам важный ключ к пониманию внутрипсихических событий и повлияло на возникновение ныне существующих формулировок, к которым мы скоро обратимся (см.: Homburger, 1923; Mahler, 1944; Mahler, Luke, Daltroff, 1945).
Вместо того, чтобы далее углубляться в основные противоречия, связанные с наблюдением довербальных детей и легитимностью выводов об эволюции внутрипсихических феноменов, мы хотели бы представить историю, методы и предварительные результаты одной предпринятой в данном направлении попытки.
ГЛАВА 2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕТТИНГА
данной главе мы опишем постепенное развитие нашего способа работы. Вначале наш подход был в максимальной степени клиническим, не отличался систематизированностью и в то же время был необычайно стимулирующим. Впоследствии мы перешли к большей, временами даже чрезмерной систематизации, в том смысле, что наша система сбора данных теряла связь с изначально естественным видом материала, но мы смогли, как нам кажется, восстановить баланс и создать достаточно гибкие способы организации данных. Эти изменения совпали до некоторой степени с изменениями физических аспектов организации исследования и с прогрессом в создании формулировок (мы поговорим об этом позже). В целом, однако, нашей целью было нахождение того способа работы, который позволил бы сохранять баланс между свободным психоаналитическим наблюдением и предварительно заданным экспериментальным планом.
Мы знаем, что наши методы серьезно критикуются представителями обеих крайних точек зрения, и вполне понимаем, чем вызвана эта критика. С особой ясностью мы осознаем проблему подтверждения наших результатов, нахождения им хотя бы косвенных доказательств. Согласно общепринятой в психоанализе позиции, наши наблюдения за детьми-тоддлерами не позволяют нам получить необходимых подтверждений посредством самоотчета о возникновении согласующихся воспоминаний, изменении симптома — тех индикаторов, что подтверждают правильность интерпретации и на которые обычно полагаются в клиническом психоанализе. Но, хотя нам и недостает субъективных отчетов (это касается детей раннего возраста, но не более старших детей или матерей) и, конечно же, мы не выполняем роль «чистого экрана» для наших испытуемых и не вызываем у них невроз переноса, тем не менее, мы ведем наблюдение при помощи «психоаналитического глаза», вооруженного всеми имеющимися познаниями о внутрипсихической жизни, позволяя нашему вниманию следовать туда, куда его ведут явления, разворачивающиеся перед нами. Что касается другого полюса, то с точки зрения строгого эксперимента, при рассмотрении фактов мы, конечно же, не смогли освободиться от пристрастности, гало-эффекта и от оценочных суждений. И хотя наш подход является чисто клиническим и допускает внесение поправок, мы организовали работу таким образом, чтобы повторно наблюдать феномены в ситуациях, стандартизированных насколько возможно, и подвергать их соответствующей валидизации.
Начальная, менее систематизированная фаза нашей работы была, как мы уже сказали, необыкновенно продуктивной и привела к созданию тех формулировок относительно субфаз процесса сепарации-индивидуации, на которые мы уже ссылались и которые мы детально обсудим в следующем разделе. Такая продуктивность, без сомнения, проистекала из новизны нашей работы в то время; перед нами возникало множество наблюдений и идей, многие из которых казались новыми и свежими. Но высокая продуктивность также была, вероятно, связана (как кажется теперь) с нашим мудрым решением позволить матерям и их детям самим показать, каким образом должно проходить наше исследование. Матери сами определяли, насколько они хотели использовать Центр и участвующих наблюдателей, темп работы и пределы, до которых они были готовы быть с нами откровенными, степень ответственности за заботу о своем ребенке в Центре и т. п. Это сделало наши методы менее систематизированными, но отвечающими потребностям субъектов исследования. Аспекты физического сеттинга также помогли. Там, где мы располагались изначально, например, туалет для детей был рядом с детской — по сути, вход в него располагался прямо посередине комнаты (см. рисунки 1 и 2) и был отгорожен от игровой части помещения лишь невысокой ширмой. Позже, когда мы переехали на верхний этаж того же здания и у нас появился шанс получше обустроить ванные комнаты для тоддлеров в конце длинного холла, мы обнаружили, что лишились важной возможности наблюдать поведение детей во время совершения туалета, а именно любопытство тоддлеров и увлекательные игры с водой и содержимым унитаза, их интерес к своему и чужому телу и использование этой привлекательной комнаты собственно по назначению. В дальнейшем мы также лишились шанса наблюдать поведение матерей во время смены подгузников и их реакцию на то, как младенцы и тоддлеры проскальзывают под ширму в туалет и т. д.
По прошествии половины срока исследования нам пришлось переехать (на верхний этаж того же здания), и у нас стало больше места (см. рисунок З). Но независимо от этого наши попытки сделать изучение данных более четким (как нам теперь кажется) вернуло нас к тому периоду, когда нам нужно было искать оптимальный баланс между клиническим и систематизированным исследованием.
Эта глава описывает физический сеттинг нашего исследования, в особенности возможности, которые он предоставлял для наблюдения явлений, связанных с процессом сепарации-индивидуации. В ней вы также найдете некоторый обзор преобразований первоначальной планировки. Краткое перечисление разнообразных данных, полученных нами, а также обсуждение некоторых связанных с ними вопросов представлено в приложении А. В приложениях также содержится: 1) обсуждение метода, приводятся обоснования нашего подхода к анализу данных; 2) краткий обзор некоторых промежуточных попыток формального сбора данных и количественного анализа, который, способствуя развитию более ясного стиля наших описаний, тем не менее не увенчался успехом, поскольку оказался либо слишком узконаправленным, неспособным охватить процессы развития у детей, либо чрезмерно формализованным, либо и то и другое вместе; и З) рассмотрение каждого из трех наших более поздних подходов к сбору
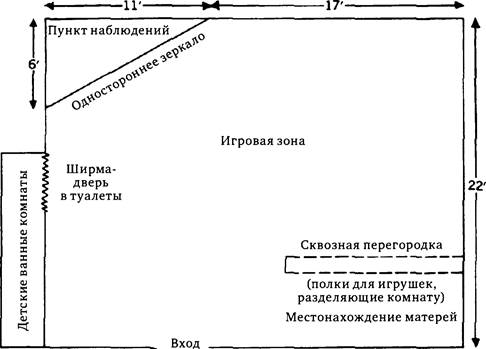
Рис. 1. Комната матерей и маленьких детей. Первоначальный сеттинг
данных (ориентирующие вопросы, наблюдение по зонам исходя из наших психоаналитически заданных рамок установления взаимосвязей, построение формулировок относительно ранних образований характера как производных процесса сепарации-индивидуации).
Описывая здесь физические аспекты сеттинга нашей работы и историю его создания, мы надеемся, что наши более поздние подходы к полученным данным будут восприняты именно как попытки эффективно справиться с внушительным количеством данных, не потерявшись при этом в деталях и сохранив в поле зрения основную цель — изучение процесса сепарации-индивидуации.
ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТТИНГА
Метод, которого мы придерживались в работе, по большей части основывался на описательном клиническом подходе, подразумевающем наблюдения за диадами «мать—дитя»
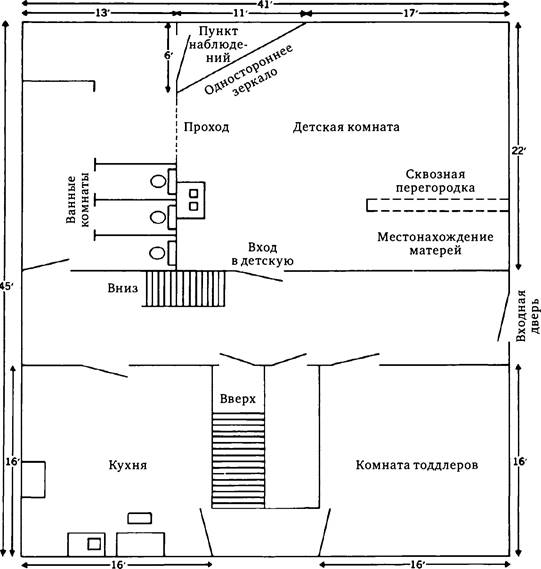
Рис. 2. План этажа. Первоначальный сеттинг
в естественной обстановке. Изначальный сеттинг (на нижнем этаже) был организован таким образом, чтобы обеспечить проявление поведенческих феноменов, изучение которых способствовало бы пониманию процесса сепарации-индивидуации.
Мы хотели бы повторить общее описание базового сеттинга материнско-детской комнаты, которое мы давали несколько лет назад (см.: Pine, Furer, 1963), и дополнить его некоторыми деталями. Работа с нормальными маленькими детьми проходила в игровой комнате, где группа детей была занята играми в большом манеже, на матах или на полу. дети активно
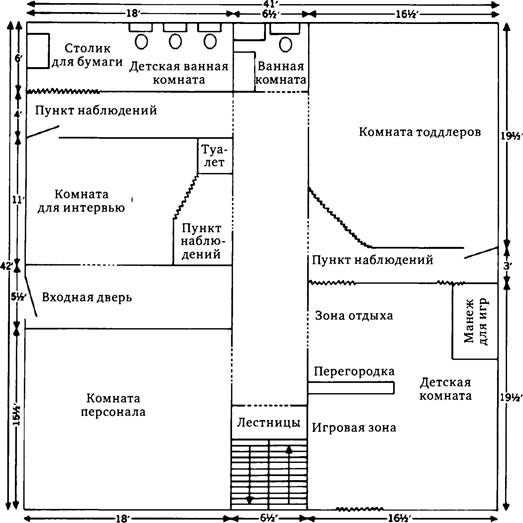
![]() = Одностороннее зеркало
= Одностороннее зеркало
![]() Дверь
Дверь
Рис. З. План этажа. Конечный сеттинг
экспериментировали со своим телом и его возрастающими возможностями: усаживались и опрокидывались на спину, тянулись к игрушке, пытаясь ее ухватить, вытягивались, стараясь повернуться в сторону матери, чей голос они могли слышать, когда она не находилась в их поле зрения. Они смотрели на нее из манежа и улыбками и агуканьем приглашали ее подойти и поиграть. Они самостоятельно играли с игрушками, особенно с теми, которые могли бы послужить для создания «увлекательных зрелищ» (Piaget, 1937). Матери были вольны разговаривать друг с другом и взаимодействовать со своими детьми, как им того захочется.
Мы хотели создать ситуацию, в которой можно было бы наблюдать спонтанные каждодневные взаимоотношения матери и ребенка в естественной обстановке, и нам это удалось. В игровой комнате была небольшая зона, отведенная под гостиную для матерей, где они могли болтать, пить кофе или читать и откуда у них был обзор и полный доступ к детям. Также там была другая, гораздо большая зона, в которой находилось много привлекательных и красочных игрушек, и дети при первой возможности стремились начать свободно перемещаться между зоной игрушек, местом, где обычно находились матери, и другими частями комнаты. Сепарация матери и ребенка не была полной в том, что касается пространственного обустройства комнаты; это не было похоже на ситуацию в школе или детском саду, где мать на некоторое время перекладывает заботу о своем ребенке на плечи воспитателя или учителя. Это больше походило на обстановку на уличной игровой площадке, где дети играют, где им захочется, в то время как матери сидят на скамейках и разговаривают, при этом дети полностью находятся в их поле зрения и имеют возможность обратиться к матери, что бы им ни потребовалось. Рисунок 1 иллюстрирует первоначальный сеттинг материнско-детской комнаты[8] .
Возможности наблюдать сепарацию
Было ясно с самого начала, что центральный феномен исследования — внутрипсихический процесс сепарации и индивидуации — не доступен прямому наблюдению; но подходы к этому внутрипсихическому процессу можно было бы найти, исходя из наблюдений за взаимодействием диады <<мать—дитя», и, таким образом, сделать выводы, основываясь на поведении, которое на самом деле можно наблюдать. В начале нашей работы, когда наши исследования были сосредоточены в основном
СЕТТИНГА
на детях в возрасте от одного до двух лет, мы считали, что большинство предположений о сути внутрипсихического процесса должно сформироваться благодаря наблюдениям за тем, как обычно переживается сепарация, как активная, так и пассивная, которая происходит ежедневно по инициативе ребенка, матери или наблюдателя. Сначала, когда мы наблюдали за детьми не младше 9—10 месяцев, нашему наблюдению были доступны определенные виды сепарации. Таковые случались и в присутствии матери: ползающий или шагающий по комнате ребенок в какой-то момент не находил лица матери среди присутствующих; мать была невнимательна, возможно, просто разговаривала с кем-то и т.д. С самого раннего времени иногда случалась и сепарация пассивного типа — быть оставленным вместо того, чтобы уйти самому. Мать уходила из комнаты ненадолго, а порой — на полчаса и более, например, на интервью с кем-либо из персонала (время от времени и по мере необходимости ребенок мог отправиться туда вместе с ней). Или в случае, если ребенок был постарше и уже посещал Центр в течение какого-то времени, мать могла уйти на все утро. Через некоторое время мы открыли «комнату тоддлеров», в которую дети могли переходить, когда они становились способны проводить большее количество времени отдельно от матери — с «воспитателем» в обстановке, подобной детскому саду. Таким образом, мы создали ситуацию, которая обеспечивала множество возможностей для наблюдения за разделением и воссоединением диад «мать—дитя».
На более поздней фазе нашего исследования (после марта 1962 г.), когда мы осознали, что переживание внутрипсихического опыта сепарации начинается гораздо раньше, мы раздвинули рамки наших наблюдений, включив в исследование младенцев старше четырех месяцев. Мы наблюдали, как матери заботятся о своих детях и как те подстраиваются под них. Мы видели, как дети то льнут к материнскому телу, то, наоборот, становятся как будто деревянными и отстраняются от него. Эти и другие наблюдения привели нас к пониманию того, как формируются границы у грудных детей внутри симбиотических отношений, задолго до того, как ребенком будут произведены первые попытки приближаться и удаляться в пространстве. После этого мы стали тщательно отслеживать самые ранние признаки дифференциации (см. часть II, главу 4). Маленький ребенок напрягает тело и пытается отстраниться у матери на руках (ср.: Mahler, 1963). Он еще не умеет ползать, но уже поочередно то дистанцируется, то льнет к ней; вот он старается почти слиться с материнским телом, а затем окружающий мир опять притягивает его внимание, до сих пор полностью принадлежавшее матери (катексис смещается с симбиотической орбиты) (см.: Spock, 1963). Как только системы органов ребенка достаточно разовьются, он сможет соскользнуть с материнских коленей, и с этого момента он начинает ползать, затем делает первые шаги и однажды уходит от матери.
Чтобы более подробно описать аспекты сепарации, которые привлекли наше внимание благодаря обоим вариантам сеттинга, позвольте нам упомянуть некоторые вопросы, которые были вызваны тем, что мы наблюдали и в свою очередь привели к новым наблюдениям на разных этапах нашего исследования. Как мать несет своего ребенка: как будто он часть ее самой? Как отдельное человеческое существо? Как неодушевленный объект? Как маленький ребенок реагирует на то, что мать разворачивает его? Оказавшись в комнате, отделяется ли мать от своего ребенка физически и/или эмоционально, или между ними существует «невидимая нить», даже несмотря на физическую дистанцию? Знает ли мать, что происходит с ее ребенком, когда он находится от нее на некотором расстоянии? Как быстро, с какой степенью готовности и насколько подходящим образом она реагирует на его нужды? Держит ли мать своего маленького ребенка постоянно на руках? Обеспечивает ли она постепенный переход ребенка, например, в манеж, медленно помещая его туда и оставаясь с ним, пока ему не станет там комфортно, возможно, предлагая ему игрушку? Или она не может дождаться, когда же наконец от него избавится, и сбрасывает его в манеж практически сразу по прибытии, переключая свое внимание на другие предметы, быть может, газету или беседу, и обращается к ребенку, сверхстимулируя его, только когда это соответствует ее потребностям? Следя за взаимодействием в детской комнате, мы увидели, как проявляются индивидуальные особенности матери и развивается ее материнское отношение. Мы смогли сформулировать характеристики взаимообмена между матерью и ее ребенком-на-руках, ребенком постарше, быстро ползающим или начинающим ходить, между матерью и ребенком, который начинает проявлять интерес к <<отличным-от-матери» людям, между матерью и занимающимся активными исследованиями тоддлером и между матерью и ребенком, который начинает говорить и может сообщить о своих нуждах новым способом. Мы смогли изучить то, каким образом мать отделяется от своего маленького ребенка, и ее реакции на сепарацию, инициируемую в дальнейшем ребенком.
Что касается другой части диады, мы также наблюдали, в какой момент своей жизни младенец начинает осознавать существование матери, или, скорее, мы пытались изучить и дать название множеству градаций в ходе развития — шагов то к большему сближению, то к дистанцированию, которые в итоге ведут к осознанию того, что мать является отдельным существом. Мы наблюдали, как ребенок реагирует на «осуществление заботы» именно своей матерью; потом он немного отстраняется от нее, как будто хочет получше разглядеть и исследовать ее (и Другого). Приблизительно с пяти месяцев, как позволили нам предположить некоторые данные, начинается формирование границ, и с этого момента происходит активная сепарация от матери. Пытается ли ребенок, находясь на расстоянии от матери, установить связь с ней визуально, голосом, а позже и при помощи жестов, активно ища ее и требуя ее внимания более дифференцированным образом, согласно своему нынешнему уровню? Кроме этого, в детской комнате мы наблюдали реакцию ребенка на своих сверстников, на других взрослых, которые были ему в разной степени знакомы, и условия, при которых он устанавливает контакт или более или менее энергично отвергает того, кто временно заменяет мать. Актуальное отсутствие матери в материнско-детской комнате, особенно запланированное в связи еженедельными интервью, позволило создать условия для квазиэкспериментального опыта сепарации. Мы изучали реакцию ребенка на уход матери, его поведение во время ее отсутствия в комнате, то, как он воспринимал ее возвращение (феномен воссоединения), — все это во взаимосвязи с прогрессом и регрессом во время процесса сепарации-индивидуации.
Обоснование обустройства комнаты тоДДлеров
Уже при организации сеттинга на нижнем этаже мы выделили небольшую часть офиса и превратили ее в игровую комнату для более старших тоддлеров — отчасти потому, что их экспансивные и энергичные занятия угрожали безопасности маленьких детей, находящихся на полу, а также потому, что было очевидно, что им нужна отдельная комната для организации подходящей им игровой деятельности совместно с воспитателем и друг с другом. Мы взяли небольшую смежную комнату — единственно доступную на тот момент, в которую один из включенных наблюдателей (как бы воспитатель) переехал с тоддлерами постарше (в возрасте приблизительно старше двух лет). Это позволило нам проследить развитие реакций на уходы матери от ребенка. Особенно много важного мы узнали от тоддлеров, которые уже владели речью. На этой фазе нашего исследования вид сепарации изменился, поскольку по причине малого размера комнаты тоддлеров и стестенных условий, в которых находились воспитатели, матери и дети, матери стали гораздо чаще покидать здание, чтобы отправиться за покупками, в прачечную или домой.
Особенно мы отметили, что, возможно, по причине маленького размера комнаты на нижнем этаже то один, то другой тоддлер начинал воспринимать ее (пространство) как свою собственность и резко препятствовал любому вторжению, будь то мать другого ребенка или включенные наблюдатели, в том числе и ведущий исследователь. Это чем-то напоминало собственнические претензии на территорию в животном мире. Организуя сеттинг наверху, мы с самого начала тщательно планировали обстановку для тоддлеров. Это была большая, полностью отдельная комната на той же стороне коридора, что и детская, между ними имелся проход. Роль включенного наблюдателя, который находился в комнате тоддлеров в обоих сеттингах, выполнял опытный воспитатель детского сада. Помимо всего прочего, у него было задание отслеживать все чаще возникающие вербальные и другие поведенческие последовательности во время игры, а также взаимодействие тоддлеров с ним и друг с другом.
Включенный наблюдатель по возможности оставался пассивным, насколько позволяла ситуация, однако оказывал помощь тоддлерам в их играх, следил за их нуждами и играл роль связующего звена между детьми и их матерями. (Рисунки 2 и З иллюстрируют взаимосвязи между детской комнатой и комнатой тоддлеров в первоначальном и конечном сеттингах соответственно.)
Хотя мы могли наблюдать множество реакций на уход матери и воссоединение с ней даже в нашем импровизированном примитивном сеттинге на нижнем этаже, окончательная организация комнаты тоддлеров, тщательно спланированная с самого начала, и ее новое расположение обеспечило нас большим количеством данных. Как мы указывали ранее и как показано на рисунке, эта комната была больше по размеру, чем детская, и предоставляла возможность ребенку на ранней фазе практикования-ползания исследовать новую обстановку, а нам — наблюдать его реакции на свои открытия.
Большинство маленьких детей открыли для себя существование комнаты тоддлеров еще на субфазе практикования, для которой характерна экспансивная активность. У большинства ползающих или начинающих ходить маленьких детей отмечалась потребность каким-то образом попасть за порог, рискнуть вылезти за пределы детской комнаты так же, как и у себя дома. В нашем экспериментальном пространстве на верхнем этаже они научались выползать в коридор, который соединял две детские комнаты; они шагали через холл в гардеробную и, возможно, случайно могли проползти дальше к двери, которая часто была открыта (на той же стороне коридора, что и их детская), и мельком заглянуть в комнату тоддлеров. Они останавливались у порога и первое время быстро уползали обратно на «домашнюю базу», где находились их матери. Стремясь расширить мир вокруг себя, они могли украдкой заглядывать в комнату тоддлеров, где иногда находились их старшие сиблинги. Но только несколько месяцев спустя, когда <<младший тоддлер» впервые чувствовал себя уверенно стоящим на ногах, он оказывался внутри интересующей его игровой комнаты. Через несколько недель он уже активно искал это место, отличающееся таким значительным разнообразием, где происходило взаимодействие воспитателя и старших тоддлеров, и это было таким захватывающим: там можно было поиграть с водой или рисовать пальцами; там были большие двигающиеся игрушки — качели, трехколесный велосипед, конь-качалка, а также уголок с куклами, большие поезда, множество книжек и пазлов, там время от времени воспитатель рассказывал детям истории.
Сначала матери следовали за своими тоддлерами в эту комнату, но однажды после тщательных раздумий ведущие исследователи решили, что создавшаяся ситуация была слишком несбалансирована и допускала слишком много разнообразных взаимодействий со стороны матерей и детей, что делало изучение сепарации-индивидуации менее эффективным. 4 октября 1966 г. мы попросили матерей оставаться в пределах той части детской, где они обычно сидели. В результате выполнения этих условий, посредством наблюдений за перемещениями туда-обратно каждого отдельного ребенка между двумя комнатами, за тем, как они начинали осознавать, что находятся отдельно (непреднамеренно или при помощи своих собственных усилий), и их реакциями, нам удалось получить бесценные данные. То, каким образом они (при помощи действий или слов, или выражения эмоций) пытались установить местонахождение своей матери, дало ключи к пониманию многих аспектов личности ребенка во взаимосвязи с развитием константности объекта, самосознания, общего эмоционального фона и темперамента, толерантности к фрустрации и многих других черт. Мы смогли наблюдать в течение некоторого времени все возрастающую способность более старшего тоддлера выдерживать более длительную сепарацию от матери, а во многих случаях — лучшее функционирование вдали от нее, что (как мы более подробно обсудим в части II, главах 5—7), как нам казалось, зависело от отсутствия конфликта между приближением к матери и дистанцированием от нее. В идеальных случаях происходило принятие воспитателя в качестве замены, и воссоединение с матерью после короткой сепарации происходило легко. Кроме того, даже у нормальных тоддлеров мы наблюдали неожиданно быстрые колебания между прогрессивными и регрессивными тенденциями (относительно процесса сепарации-индивидуации).
Другие возможности для наблюдений
Условия, созданные в детской, дали нам возможность для наблюдений, не имеющих прямого отношения к сепарации как таковой. Поскольку матерям было предоставлено самостоятельно заботиться о своих маленьких детях (иногда двух-трехмесячного возраста), мы смогли тщательно проследить эмоциональную сторону взаимодействия в диаде «мать— дитя». Нас особенно интересовало качество эмоциональной Доступности матери для ребенка и способность ребенка использовать ее в процессе сепарации-индивидуации, получать от нее необходимые «ресурсы для контакта» (Mahler, 1963). Беседы матерей между собой, в то время как дети находились в детской, также пролили свет на значение их материнского поведения. С тех пор, как они стали чувствовать себя в Центре как дома, они приходили, чтобы некоторое время поболтать в свободной и комфортной обстановке (это больше отмечалось в первоначальных, стихийно сложившихся, хотя и стесненных условиях, нежели в просторной, тщательно спланированной обстановке наверху).
Использование детьми физических элементов обстановки комнаты предоставило дополнительные возможности для наблюдений. Таким образом, к примеру, большие двигающиеся игрушки, такие как трехколесные велосипеды, оказались интересны не просто с точки зрения моторного развития, но и в связи с возможностями, которые они предоставляли для детской экспрессии, бьющей через край; вне связи с субфазой практикования избыточная энергия связана иногда с фантазиями о всемогуществе (и это одна из причин, по которым мы должны оберегать детей, находящихся в основном на руках или на полу, от избыточной активности тоддлеров). С другой стороны, изучение реакций на использование детьми этих игрушек иногда давало нам ключ к пониманию тенденций к опеке и симбиозу со стороны матери и ребенка. Во время игры с конем-качалкой и большим медвежонком иногда четко возникала картина аутоэротической или контактной стимуляции. Мы обнаружили, что заводные механические игрушки и говорящие куклы могли порой напугать, но игрушки, движения которых ребенок мог контролировать, приносили удовольствие. В детской комнате, как и в игровой, мы установили на уровне пола зеркало, которое очень хорошо подходило для изучения различных реакций маленьких детей на отражение. Нам казалось, что реакции на отражение должны стать средством для изучения развивающегося осознания ребенком своего тела как отличного от окружающей среды. (В последние два или три года сбора данных д-р Джон Макдевитт организовал дополнительное исследование, сфокусированное на развитии реакций на отражение.)
Некоторые из элементов обычной обстановки и вещей, находящихся в детской комнате, также обеспечили возможности для наблюдения явлений, связанных с процессом сепарации-индивидуации лишь косвенно. Мы могли наблюдать, как матери при необходимости меняют детям подгузники или не обращают на них внимания, придерживаются режима в питании или от случая к случаю кормят своих детей печеньем. Имеющийся в комнате манеж использовался для пеленания так же часто, как и для игр. Мы подумывали о наблюдении за периодом сна как частичной сепарацией от матери, это было тесно связано с проблемами со сном в раннем детстве; но, конечно же, у нас не было возможности непосредственно наблюдать расстройства ночного сна, столь характерные для второго года жизни. Особенности нашего сеттинга, предоставляющие матерям и детям возможность проводить время с нами, взаимодействуя естественным образом, открыли для нас широкий спектр возможностей для наблюдения, но было, конечно же, множество такого, чего мы не видели: как ребенок засыпает в своей кроватке, как реагирует на приход отца домой с работы. Как уже отмечалось, в пространстве, организованном на верхнем этаже, мы почти упустили возможности, которые были у нас на нижнем: ежедневные наблюдения за поведением детей в туалете, за их отношением к гениталиям и за реакциями их матерей на все это. Мы старались преодолеть некоторые из таких затруднений посредством визитов домой.
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕТТИНГА
Нельзя сказать, что группа и сеттинг были организованы полностью в соответствии первоначальным планом. В самом начале нашего проекта два основных практических вопроса касались того, как связаться с матерями детей в возрасте около двух лет (поскольку в то время мы предполагали, что фаза сепарации-индивидуации начинается именно на втором году жизни) и как вызвать и поддерживать у них интерес к участию.
У первых матерей, с которыми мы связались, старшие дети посещали обычную детсадовскую группу в Детском Центре. В качестве мотивирующего стимула для участия мы предложили уменьшение оплаты за детский сад для старших детей с обещанием такого же уменьшения для младшего ребенка по достижении им соответствующего возраста. На таких условиях к проекту подключились первые три матери. Вышло так, что вслед за ними другие пришли благодаря уже распространившейся информации, они сами связались с нами, так что наши изначальные опасения, что нам понадобится специальный план по привлечению участников, оказались преувеличенными. Каждая женщина, присоединявшаяся к проекту в последующие годы, узнавала о нем от тех, кто уже имел опыт участия, это заинтересовывало ее, и после первоначального отбора она присоединялась к группе. Таким образом, за некоторым исключением, эти матери оказывались отобранными сами по себе, и мы не искали репрезентативного представителя какой-либо конкретной группы. Мы, однако, осуществляли соответствующий основной цели отбор, стремясь работать с более или менее нормальными матерями. Мы отсеивали тех женщин, которые при первоначальном общении демонстрировали психологические нарушения, отбирали только сохранные семьи (состоящие из матери, отца и ребенка) и старались избегать подключения к работе матерей в случае, если нам казалось, что их участие может быть нерегулярным (например, если они жили слишком далеко и оттуда нельзя было добраться пешком).
Поскольку вначале мы были весьма обеспокоены, сможем ли мы набрать достаточно участников для осуществления проекта, тот факт, что это удалось сделать без особых проблем, вызывает особый интерес. Как это произошло? Прежде всего, Центр был уже хорошо известен в округе (как детский сад, даже еще до нашей работы в нем). К тому же множество молодых, социально активных и достаточно хорошо образованных пар жило по соседству, и именно из этой группы происходили наши семьи. В них матери не работали, поскольку в этом не было финансовой необходимости, а кроме того, они были весьма заинтересованы и достаточно хорошо осознавали проблемы и радости воспитания, чтобы желать быть рядом со своими маленькими детьми. Таким образом, у них имелось время для участия; мы, конечно же, настаивали на присутствии и доступности матерей. Возможно, что менее интеллектуальные и менее образованные женщины доставили бы нам больше хлопот. Как бы то ни было, все эти матери с одобрением относились к концепции исследования и признавали ее ценность, в особенности потому, что исследование затрагивало основные проблемы их нынешней жизни. Многие из матерей выражали активную интеллектуальную заинтересованность в развитии ребенка; другие выказывали более личную мотивацию, связанную с надеждой узнать больше о своих детях.
Немаловажным был и тот факт, что матери очень маленького ребенка может временами быть довольно одиноко. Социальные контакты вынужденно ограничены, особенно днем и во время длительного сезона холодов. С самого начала мы предоставили им подходящее место — привлекательное, чистое и безопасное, чтобы они могли позволить своим маленьким, еще не достигшим детсадовского возраста детям участвовать в активной игре. Мы стали игровой площадкой в помещении для матерей, которые в противном случае находились бы в застенках маленьких квартир (маленьких по причине высокой арендной платы в этом районе) вместе со своими детьми. Центр, а в большей степени атмосфера, созданная персоналом, также обеспечили женщинам комфортное пребывание в компании, состав которой подбирался с учетом их интересов и возраста. Матери также могли почувствовать себя здесь авторитетами в том, что касается воспитания детей, без необходимости принимать или усваивать чьи-либо директивные указания; их оставляли в покое по первой же просьбе. Это собрание женщин стало стихийно восприниматься персоналом как «Клуб матерей».
Таким образом, вопреки нашим изначальным ожиданиям, мы не столкнулись с проблемой создания мотивации для участия в проекте. Однажды мы собрали группу матерей для обсуждения вопроса, какой порядок работы подойдет им наилучшим образом. два момента здесь были весьма существенными: (1) необходимость поддерживать заинтересованность матерей и способствовать их участию и (2) нужды, связанные с исследованием. Как в любом новом начинании, сведения, от которых нам приходилось отталкиваться, были весьма ограниченными. Нашей основной целью было создание ситуации, в которой мы могли бы наблюдать взаимодействия мать — дитя в максимально естественном сеттинге. Но возникло множество вопросов: наблюдать ли матерей индивидуально, по двое, трое или более; что делать с трансферентным отношением к включенным наблюдателям; в какой степени этим наблюдателям следует иметь дело с ребенком или участвовать во взаимодействии мать—ребенок.
Когда матери по большей части почувствовали себя свободно в сложившейся ситуации, мы начали работу. Первое время дела шли очень медленно, поскольку мы встречались и разговаривали с ними индивидуально. После этих первоначальных контактов, на которые ушла пара недель, стало очевидно, что некоторые молодые женщины опасались столь пристального и слишком концентрированного внимания к себе и своим детям. В связи с этим мы достаточно быстро приняли решение, что матери и дети будут собираться в группы, а не находиться поодиночке, по крайней мере, до тех пор, пока мы с ними не познакомимся поближе. Благодаря этому решению образовался групповой сеттинг, который сохранялся в более или менее постоянном виде на протяжении многих лет. Некоторые из матерей также выразили сомнения по поводу количества времени, которое им следует проводить в Центре. В связи с этим еще в начале нашего исследования мы выделили для них четыре утра в неделю, из которых они могли выбрать хотя бы два для посещения Центра. Таким образом, мы позволили матерям дать нам неявно понять, какая ситуация и отношение к нам являются для них наиболее комфортными; мы позволили им продемонстрировать нам наиболее оптимальную и предпочитаемую степень близости или удаленности от нас и нашего сеттинга. В течение одного года мы даже обеспечивали условия для матерей, которым было необходимо посещать старших сиблингов, организуя возможность повидать их в середине дня, стремясь поддержать непрерывность нашей работы. Проявляя подобную гибкость, мы пытались обеспечить участникам нашего исследования возможность использовать Центр по собственному усмотрению; по этой причине мы избегали создания более структурированной ситуации, где к ним предъявлялись бы определенные требования. Такой подход казался в высшей степени оправданным, если учесть, что это были нормальные, здоровые семьи, которые, предположительно, не были мотивированы находиться с нами по терапевтическим соображениям.
Как только группа начала регулярно встречаться, возникли более конкретные вопросы. Два из них являлись особенно
СЕТТИНГА
важными. Прежде всего, возник вопрос, насколько активным должен быть каждый из включенных наблюдателей (изначально их было только двое) по отношению к детям, т. е. как часто ему следует помогать ребенку, останавливать ссору, предлагать игрушку? Поскольку главное требование исследования состояло в том, чтобы наблюдать матерей и детей в максимально естественной обстановке, мы вначале решили не вмешиваться вообще. Все виды заботы о детях были оставлены на матерей. Мы с самого начала сказали матерям, что именно они, а не включенные наблюдатели будут заниматься детьми; мы не определяли наблюдателей как воспитателей. Тем не менее, несмотря на это, у матерей оставались вопросы относительно предъявляемых им ожиданий. Проблема осложнялась тем, что материнская комната была изначально отделена от игровой перегородкой высотой до потолка и между комнатами существовал лишь широкий проход. Это означало, что женщины часто не могли видеть своих детей, и как только ребенок оказывался вне поля зрения, тут же возникал соблазн оставить обязанности присмотра за ним включенным наблюдателям. Через пару месяцев старший сотрудник решила, что эту перегородку следует снести и вместо нее поставить новую, высотою по пояс. Новая перегородка была не сплошной, а состояла из медных прутьев с промежутками между ними. При таких условиях мать могла видеть даже ползающего ребенка, а тот мог видеть ее. Нашлось несколько матерей, которые по каким-то внутренним соображениям начали протестовать, восклицая: «Зачем эти траты, вы же просто поставили снова такую же перегородку!» Когда была установлена перегородка высотою по пояс, состоящая из перекладин, матерям были объяснены причины этого, и мы еще раз сделали явный акцент на нашем пожелании, чтобы они сами заботились о своих детях. Они восприняли это с готовностью и стали заниматься детьми более активно. (Некоторые, конечно же, не стали; но такое отсутствие заботы могло рассматриваться как соответствующая характеристика конкретной матери, как аспект ее уникального материнского поведения.) Как только образовался паттерн материнского отношения, сотрудники смогли отступать от позиции «невмешательства», иногда играя с детьми, чтобы получить более четкие представления об их реактивности, толерантности к посторонним, объеме внимания и т. п.
Второй вопрос также был связан с допустимостью участия наблюдателя во взаимодействии мать—ребенок, но в несколько ином аспекте. Вскоре после того, как группа начала работу, некоторые из матерей стали просить совета и задавать вопросы по поводу воспитания детей. Мы опять приняли решение в пользу наименьшего вмешательства. К каждому вопросу мы старались подойти с наиболее общих позиций и без личной заинтересованности, не вызывая раздражения или отрицательного отношения со стороны матерей. В нескольких случаях было принято обоюдное решение, что возникшая конкретная проблема (например, как преподнести рождение нового сиблинга), была достаточно важной, чтобы привлечь к себе больше внимания. В этих случаях один из сотрудников советовал матери обсудить проблему с одним из ведущих исследователей или со своим интервьюером, и часто матери использовали такую возможность. Это стало одной из причин того, что мы решили приписать каждую диаду «мать—дитя» одному из ведущих исследователей или старших сотрудников.
Наше решение ограничить вмешательство имело и другие причины, не связанные с нашим желанием наблюдать взаимодействия «мать—дитя» в максимально естественной обстановке. Наш прежний опыт работы с группой ясно указывал на то, что эти матери будут чувствовать себя удобно в свободной и недирективной атмосфере. Кроме того, мы предполагали, что развитие сильных трансферентных чувств к любому из сотрудников стало бы разрушительным как для естественного функционирования матери и ребенка, так и, возможно, для группы в целом. Со временем произошли некоторые перемены. Мы пришли к осознанию неизбежности возникновения переноса со стороны матери на интервьюера и на Центр как символ — возможно, отчасти именно по причине наших попыток нейтрального отношения. При разумном
СЕТТИНГА
подходе и должном обращении это могло бы дополнительно усилить мотивацию матери на участие, а также послужить почвой для предоставления полезных комментариев в случае необходимости.
Как мы говорили ранее, матери сами давали нам понять, какая дистанция была бы для них желательна. Они редко напрямую просили совета, и это совпадало с пожеланиями персонала. Они воспринимали атмосферу Центра с удовольствием и благодарностью, но, исключив вариант «терапии», отвергали непосредственные советы, проявления официоза или даже профессионализма, если это проскальзывало в поведении персонала. По большей части они держались так, что их отношения с персоналом не распространялись за пределы Центра и его деятельности.
Нужно также отметить еще один важный момент в нашей истории. Начиная с третьего года исследования мы отбирали для изучения только маленьких детей. для пилотного исследования мы взяли группу детей в возрасте от 9 до 20 месяцев. По мере продвижения нашей работы мы все больше и больше склонялись к тому, что к последней четверти первого и на протяжении второго года жизни эти дети находились с точки зрения сепарации-индивидуации на продвинутом этапе данного процесса, уже давно оставив позади гипотетическую первичную стадию развития, а именно нормальную симбиотическую фазу (Mahler, Furer, 1963b). Это означало, что мы не могли непосредственно наблюдать начало процесса сепарации-индивидуации, когда младенец выходит из предыдущей симбиотической фазы. Мы пересмотрели постулаты относительно временного промежутка, который занимает нормальный процесс сепарации-индивидуации, и пришли к выводу, что он начинается с пятого месяца и длится на протяжении второго и третьего года жизни. Такой пересмотр нашей теории случился на третьем году исследования; начиная с марта 1962 г. мы стали отбирать для работы только детей значительно младше по возрасту, чем те, кого мы наблюдали в первые два года исследования (см. таблицу 1).
НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО «КЛИНИЧЕСКОЙ»
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ДОСТОВЕРНОСТИ НАБЛЮДЕНИЙ
Постепенная эволюция подхода, который отвечал бы как нуждам исследования, так и потребностям диад «мать— дитя», привела к построению основного формата нашей работы. Оглядываясь назад, можно сказать, что выбранные нами методы и постоянство пространственной и физической обстановки, предоставленной Центром, обеспечили нам ситуацию наблюдения, которая была гораздо лучше стандартизирована, чем мы смели надеяться вначале. В результате мы получили множество данных наблюдений за нашими диадами, сделанных в течение весьма продолжительного времени. Начиная с пятого месяца и до завершения третьего года жизни наблюдения, осуществлялись приблизительно дважды в неделю, раз в месяц — интервью и дважды в месяц — визиты домой. В результате мы получили богатые данные, а частота наблюдений и их продолжительность значительно превысили таковые в большинстве опубликованных исследований схожей тематики. Как мы теперь полагаем, нам удалось избежать множества проблем, связанных с нерегулярностью и высокой избирательностью описаний и оценок диад «мать—дитя» в определенных специфических ситуациях, где очевидно влияние ситуативной изменчивости. Мы также избежали проблемы ценных, но трудносопоставимых и трудностандартизируемых наблюдений, полученных при помощи наблюдений в абсолютно естественных условиях (например, полностью основанных на визитах домой, наблюдениях на игровой площадке и т. п.). Пока что мы не зашли так далеко, чтобы построить специальный дом, в который семьи могли бы переехать, но, тем не менее, мы сделали Центр практически продолжением дома для наших участников. Нас поразило то, с какой легкостью и непринужденностью участники использовали созданную нами обстановку и как естественно вели себя в ней, особенно если сравнить поведение диад «мать—дитя» в нашем проекте с поведением матерей в других, единовременных экспериментальных ситуациях наблюдения.
СЕТ ТИНГА
Мы также не упустили возможности воспользоваться ситуацией, которая была стандартизированной по стольким параметрам: элементы обстановки были одинаковыми для всех диад «мать—дитя», включая условия, оборудование и до некоторой степени участвующих наблюдателей. Таким образом, тестовая ситуация не была жестко структурирована, и в то же время нам не приходилось бороться с большим разнообразием элементов домашней обстановки, разницей во временных договоренностях и т. п. То, что мы предлагали со своей стороны, было без исключения идентично для каждой матери и ребенка; и они могли пользоваться этим, как им было угодно. Мы обнаружили, безусловно, некоторые вариации в том внимании, которое мать оказывала ребенку в присутствии конкретного наблюдателя или во многом в зависимости от присутствия некоторых других матерей; тем не менее по большей части эти изменения было легко распознать, и они стали частью данных для изучения. Некоторые матери проявляли меньше внимания к своим детям, потому что считали, что в Центре есть кому помочь им присмотреть за их отпрысками (несмотря на указания, что мать сама ответственна за заботу о своем ребенке во время нахождения в Центре), или потому что они чувствовали себя спокойнее и менее тревожно в нашей безопасной обстановке. С другой стороны, некоторые матери стремились представить в выгодном свете себя или своего ребенка и, пользуясь свободой от других обязательств во время нахождения в Центре, уделяли своим детям больше внимания и стимулировали их больше, чем обычно, или усиливали подобную стимуляцию в тех случаях, когда кто-то обращал на них особое внимание. Периодически можно было заметить, что мать работает на камеру или, наоборот, ощущает себя скованно; но у нас была возможность сравнить такие моменты со многими другими, которые не снимались на камеру, и мы обнаружили, что в целом поведение матерей было вполне однородным.
Другой факт, заслуживающий рассмотрения, состоит в том, что даже без всякого намерения с нашей стороны или явного воздействия (как раз наоборот, мы старались в основном
избегать любого влияния и руководства) сам по себе факт посещения Центра, безусловно, имел некоторое влияние на установки и чувства матерей. Вероятно, понимание своей причастности к исследовательской ситуации, престижность которой ясно осознавалась некоторыми из них, стало для них большой поддержкой, как и интерес, который они испытывали в себе и своим детям со стороны сотрудников. Такое активное участие, возможно, помогло им избежать основных рисков раннего материнства, например, чувства беспомощности, социальной изоляции и ощущения непомерной зависимости и ответственности за малыша. (И напротив, в редких случаях было верно обратное: например, мать могла вступить в соревнование за то, чтобы казаться лучше других матерей, или продемонстрировать всем, как хорошо все получается у ее отпрыска, несмотря или даже благодаря ее требовательной, амбициозной и конкурентной установке.) Мы, однако, без всяких сомнений можем утверждать, что даже если посещение Центра и могло смягчить, усилить или замаскировать эти и другие стрессовые моменты, оно не могло бы стать им весомой альтернативой или полностью их исключить. Мы обнаружили, что матери реагировали по-разному, индивидуально присущими им способами на все эти стрессы, с которыми обычно сталкивается среднестатистическая мать на фазе сепарации-индивидуации.
Кратко говоря, притом что созданная нами ситуация была значительно более гибкой и менее структурированной, чем многие другие, она отличалась также определенной методологической последовательностью. С момента, когда матери в нашем проекте получили свободу приходить, когда им захочется, посещаемость ими Центра варьировала по частоте и длительности каждого посещения. Тем не менее неизменным оставался тот факт, что, какой бы ни была частота и длительность посещения, это целиком зависело от желания матери прийти и ее ощущения комфорта в этой ситуации. Безусловно, каждая мать воспринимала сотрудников и реагировала на их присутствие в соответствии со своими потребностями: для некоторых это означало необходимость усилить заботу о своем ребенке (или получить материнскую заботу
СЕТ ТИНГА
для себя), а для некоторых это означало
позволение проявлять меньше заботы, но в любом случае основные характеристики
установок, связанных с материнством, казались неизменными. Хотя, без сомнений,
на поведение тех матерей, которые осознавали, что они являются частью
исследовательского проекта, такое осознание должно было оказать влияние, тем не
менее мы постоянно поражались тому огромному разнообразию индивидуальных и
кажущихся вполне естественными поведенческих стилей, которые мы могли
наблюдать. На самом деле, если учесть, что наблюдение за матерями и детьми
велось по утрам от двух до четырех раз в неделю на протяжении нескольких лет и
часто включало и второго (и даже третьего) ребенка, то вряд ли возможно
предположить, что все, что они делали, было напоказ и являлось
нерепрезентативным образцом их поведения по отношению к своим детям в течение
всего этого длительного периода.
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СИМБИОЗЕ
И СУБФАЗАХ ПРОЦЕССА
СЕПАРАЦИИ-ИНДИВИДУАЦИИ
этой части книги мы представим последовательное описание процесса сепарации-индивидуации и его предшественников — нормальной аутистической и нормальной симбиотической фаз.
Глава З посвящена первым двум фазам психического развития. Мы сознаем, что в ней не содержится столь же много информации о поведенческих характеристиках, как в последующих главах. Когда мы занимались изучением формирования ранних паттернов на симбиотической фазе, мы сосредоточили свои усилия на взаимодействии в диаде «мать—дитя» и развитии маленького ребенка начиная приблизительно с четырех-пяти месяцев. Уже в 1954—1955 гг. (в сотрудничестве с д-ром Бертрамом Гослинером и по предложению д-ра Аннемари Вайль[9]) Малер назвала данный период фазой сепарации-инДивиДуации. Основной целью данной книги является изложение всего того, что мы узнали о сепарации-индивидуации. Всестороннее и глубокое изучение новорожденных, нормальной аутистической фазы и первых симбиотических месяцев жизни мы оставили другим авторам, которые и выполнили подобное исследование с большой аккуратностью, мастерством и технической и методологической точностью.
На самом деле, концепции первых двух фаз находятся на более высоком уровне метапсихологической абстракции, чем последующие субфазы. Они получены путем психоаналитической реконструкции и являются синтезом наших
69
ЧАСТЬ 2 исследований психотичных и пограничных детей и взрослых, а также наблюдений других психоаналитиков.
Напротив, в главах 4, 5 и 6 в сжатом виде представлено огромное количество первоначальных поведенческих данных и их краткое обсуждение. В ходе нашего весьма несистематичного пилотного исследования (в конце 1950-х годов) мы не могли не заметить определенные переменные, связанные со специфическими поворотными моментами процесса индивидуации. Это привело нас к однозначным выводам, что было бы полезно категоризировать собираемые нами данные по внутрипсихическому процессу сепарации-индивидуации в соответствии с неоднократно наблюдаемыми поведенческими маркерами данного процесса. Мы разделили этот процесс на четыре субфазы: дифференциация, практикование, воссоединение (<<рапрошман>>), и «движение к константности либидинального объекта>> (консолидация объектов). Каждая из глав 4—7 посвящена описанию одной из субфаз.
Тем не менее глава 7, в которой описывается четвертая субфаза, во многом отличается от первых трех. Мы не смогли дать этой субфазе простое название, состоящее из одного слова, и это не случайно. Без сомнений, достижение индивидуальной константности и константности объекта — центральные моменты этой субфазы процесса сепарации-индивидуации; тем не менее, в связи с их природой невозможно сказать, когда начинается и когда происходит достижение такой константности. Оно является частью непрекращающегося процесса развития. В связи с этим мы предпочитаем говорить о «начале консолидации» индивидуальности (самоидентичности или Я-константности, ср.: G. and R. Blanck, 1974), и мы предпочитаем говорить о достижении той или иной степени объектной константности (что и является движением к объектной константности).
К тому же начиная с данной субфазы становится гораздо труднее
проследить начало формирования и приобретение внутрипсихических репрезентаций,
и они значительно варьируют в зависимости от ребенка. Внутрипсихические
процессы опосредуются теперь вербальными и иными формами ВВЕДЕНИЕ символической
экспрессии, и гипотезы о них должны строиться на этой основе — во многом как в
клиническом детском психоанализе. Хотя мы и старались проследить данные
процессы при помощи «игровых сессий», это не являлось основным фокусом наших
исследовательских усилий. По этим причинам глава 7 должна рассматриваться как
более умозрительная и гипотетическая, чем главы 4, 5 и 6.
ГЛАВА З
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПРОЦЕССА
СЕПАРАЦИИ-ИНДИВИДУАЦИИ
ФАЗА НОРМАЛЬНОГО АУТИЗМА
В недели, предшествующие развитию симбиоза, сноподобные состояния новорожденного и очень маленького ребенка доминируют над его активными состояниями. Это напоминает ту первичную форму распределения либидо, которая превалировала во внутриутробной жизни, и соответствует модели закрытой монадической системы, самодостаточной в своем галлюцинаторном исполнении желаний.
Вспоминается образ птичьего яйца как модели закрытой психологической системы, использованный Фрейдом (Freud S., 1911): «Прекрасный пример закрытой от раздражений внешнего мира психической системы, которая способна сама аутистически <...> удовлетворять свои потребности в пище, — представляет собой птенец, заключенный вместе с запасом корма в скорлупу, забота матери о котором ограничивается лишь согреванием» (Freud S., 1911, с. 220. Курсив наш.—Авт.).
Фаза нормального аутизма характеризуется относительным отсутствием катектирования внешних (особенно дистантно воспринимаемых) стимулов. Это период, когда стимульный барьер (Freud S., 1895, 1920) — врожденное отсутствие реактивности маленького ребенка на внешние стимулы — является наиболее высоким. Маленький ребенок проводит большую часть дня в полуспящем-полубодрствующем состоянии: он просыпается, в основном когда голод или другие потребности (возможно, то, что Дэвид М. Леви (Levy, 1937) имел в виду под концепцией голода-аффекта) вызывают его плач,
и погружается или впадает в сон снова, когда наступает удовлетворение, т. е. избавление от избыточных напряжений. Доминируют скорее физиологические, нежели психологические процессы, и функционирование в данный период лучше рассматривать в физиологических терминах. Маленький ребенок защищен от переизбытка стимуляции, находясь в состоянии, приближенном к пренатальному, что облегчает задачу физиологического роста.
Определяя состояние, в котором находится чувственная сфера, метафорически, мы применяем по отношению к первым неделям жизни термин нормальный аутизм, поскольку на данном этапе кажется, что маленький ребенок пребывает в состоянии примитивной галлюцинаторной дезориентации, при которой удовлетворение нужд происходит на его собственной «безусловной», всемогущей, аутистической орбите (ср.: Ferenczi, 1913).
Как показал Риббл (Ribble, 1943), именно посредством материнской заботы идет на убыль врожденная тенденция к вегетативной, висцеральной регрессии у маленького ребенка, и усиливаются процессы чувственного восприятия и общения с окружающим миром. В терминах энергии или либидинального катексиса это означает, что должно произойти прогрессирующее смещение либидо с внутренних частей тела (особенно с органов брюшной полости) к его периферии (Greenacre, 1945; Mahler, 1952).
В этом смысле мы бы предложили различать две стадии внутри фазы первичного нарциссизма (фрейдистское понятие, которое мы считаем полезным и которого будем далее придерживаться). В течение первых нескольких недель внеутробной жизни превалирует стадия абсолютного первичного нарциссизма, характеризующаяся практически полным отсутствием реакции на человека, осуществляющего материнские функции. Это стадия, которую мы определили как нормальный аутизм. За ней следует стадия, на которой возникает смутное ощущение, что удовлетворение потребностей не может происходить само по себе, а обеспечивается откуда-то извне, из-за пределов собственного тела (первичный нарциссизм
З
в начале симбиотической фазы), — стадия абсолютного или безусловного галлюцинаторного всемогущества, по Ференци (Ferenczi, 1913). Перефразируя Ференци, мы можем определить эту стадию первичного нарциссизма какусловное галлюцинаторное всемогущество.
Нормальный новорожденный появляется на свет, обладая сосательным, поисковым, хватательным рефлексами, а также рефлексом Робинзона (цепляние) (см.: Hermann, 1936), связанным с рефлексом Моро и, вероятно, дополняющим его. Однако реакция, которую Фрейд (Freud S., 1895) выделил как наиболее примечательную — поворот головы в сторону груди в стремлении получить желаемое удовольствие, которое переживалось во время предыдущих встреч с соском (производное поискового рефлекса), — является реакцией особого сорта. Это квазисенестетически приобретенный паттерн восприятия, обслуживающий важную «мотивацию удовольствия».
Таким образом, по Фрейду (Freud S., 1895), восприятие (рецепция в терминах Шпитца) на службе мотивации получения удовольствия обладает способностью соотносить «перцептивную идентичность» внешнего стимула с соответствующими приятными воспоминаниями[10] . Поворачивание головы в сторону груди (или соска) является примерно таким же видом примитивной сенестетической трансакции с «тем, кто выполняет материнские функции», как и прослеживание взглядом. Визуальное прослеживание, так же как и поворачивание в сторону груди, указывает на прогресс в развитии, в то время как первичные сосательный, поисковый, хватательный рефлексы и рефлекс Моро неуклонно идут на спад и в итоге совсем исчезают.
Задачей аутистической фазы является достижение гомеостатического равновесия организма в условиях внешнего мира при помощи в основном соматопсихических (Spitz), физиологических механизмов.
Новорожденный попадает во внешний мир, обладая первичной автономией (Hartmann, 1939). На нормальной аутистической фазе системы органов, обеспечивающие эту первичную автономию, подчиняются правилам сенестетической организации центральной нервной системы: реакция на любой стимул, превышающий порог восприятия в период пребывания в нормальном аутизме, является глобальной, диффузной, синкретической, напоминая о внутриутробной жизни. (Это значит, что существует лишь минимальная степень дифФеренциации и что различные организмические функции взаимозаменяемы.)
Хотя аутистическая фаза характеризуется относительным отсутствием катектирования внешних стимулов, это не значит, что восприимчивость к внешней стимуляции полностью отсутствует. Вольф (Wolff, 1959) и Фантц (Frantz, 1961) ясно продемонстрировали такую восприимчивость у новорожденных, а Вольф дополнительно описал временное состояние «инактивности сигналов тревоги», на фоне которого такая восприимчивость чаще всего имеет место. Подобная преходящая восприимчивость обеспечивает последовательную смену нормальной аутистической фазы последующими фазами.
НАЧАЛО СИМБИОТИЧЕСКОЙ ФАЗЫ
Состояние бодрствования новорожденного сосредоточено вокруг попыток достичь гомеостаза. Результаты материнских усилий по облегчению мук голода не воспринимаются изолированно: маленький ребенок не может отделить их от собственных попыток ослабления напряжения, таких как мочеиспускание, дефекация, кашляние, чихание, плевание, срыгивание, рвота — всех способов, которыми ребенок старается сам избавиться от неприятных ощущений. Действенность таких выталкивающих реакций, так же как и удовольствие, получаемое в результате материнских усилий, помогают
3
маленькому ребенку со временем проводить различие между «приятными»/«хорошими» и «болезненными»/<<плохими» характеристиками опыта (Mahler, Gosliner, 1955). (Мы полагаем, что это является первой квазионтогенетической основой более позднего механизма расщепления.) При помощи врожденной автономной способности примитивного Эго к перцепции следы памяти о двух первичных характеристиках стимуляции сохраняются внутри первоначальной недифференцированной матрицы, которую Джейкобсон называет первичным психофизиологическим Я (в том же значении понятие используется и Фенихелем, а также Хартманном, Крисом и Левенштайном). Мы можем далее предположить, что они катектируются первичной недифференцированной энергией импульсов (Mahler, Gosliner, 1955).
Начиная со второго месяца смутное восприятие удовлетворяющего нужды объекта отмечает начало фазы нормального симбиоза, на которой ребенок ведет себя и функционирует, как будто он и его мать составляют всемогущую систему — диадическое единство внутри одной общей границы. Вероятно, именно это обсуждалось в диалоге Фрейда и Ромена Роллана как понятие безграничного океанического чувства (Freud S., 1930).
В это время квазисплошной стимульный барьер (негативный, поскольку он не катектирован) — эта аутистическая скорлупа, которая предохраняла от внешней стимуляции, — начинает трескаться[11] . Благодаря вышеупомянутому смещению катексиса на сенсорно-перцептивную периферию, защитный, но в то же время способный к восприятию и к избирательности
позитивно катектированный стимульный панцирь начинает формировать и окружать симбиотическую орбиту диадического единства мать—дитя (Mahler, 1967а, 1968b).
Очевидно, что в то время, как маленький ребенок абсолютно зависим от симбиотического партнера во время симбиотической фазы, для взрослого партнера по диадическому единству симбиоз имеет несколько иное значение. Потребность маленького ребенка в матери абсолютна; потребность матери в маленьком ребенке относительна.
Слово симбиоз в данном контексте является метафорой. В отличие от биологической концепции симбиоза, данный психологический термин описывает не взаимовыгодные отношения между двумя отдельными индивидами со своими различными особенностями, а то состояние недифференцированности, или слияния, с матерью, в котором Я пока что не отделяется от не-я и в котором только начинают ощущаться различия между внешним и внутренним. Любые неприятные впечатления, полученные извне или изнутри, проецируются за пределы общей границы симбиотической внутренней микросреды (ср. с концепцией Фрейда о «чистом удовольствии Я» — Freud S., 1925b), которая включает гештальт партнера, выполняющего материнские функции во время осуществления ухода. Лишь кратковременно — когда состояние сенсорной сферы обусловлено инактивностью сигналов тревоги (ср.: Wolff, 1959) — маленький ребенок может воспринимать стимулы, поступающие извне симбиотической микросреды. Первичный резервуар энергии, которая инвестируется в недифференцированное <<Эго-Ид», видимо, содержит недифференцированную смесь либидо и агрессии. Либидинальный катексис, вкладываемый в симбиотическую орбиту, замещает врожденный инстинктивный стимульный барьер и защищает рудиментарное Эго от преждевременной неспецифичной для фазы деформации, от стрессовой травматизации (ср.: Е. kris, 1955; khan, 1963, 1964).
Основной отличительной чертой симбиоза является галлюцинаторное или иллюзорное соматопсихическое всемогущее слияние с материнской репрезентацией, и в особенности
3
иллюзия общей границы у двух физически отдельных индивидов. Это тот механизм, к которому регрессирует Эго в наиболее тяжелых случаях нарушений индивидуации и психотической дезорганизации, которые Малер (Mahler, 1952; Mahler, Gosliner, 1955) описала как <<симбиотические детские психозы».
У человеческого вида практически не сохранилась функция самосохранения и средства для нее. Рудиментарное (пока что нефункциональное) Эго новорожденного и маленького ребенка должно подпитываться эмоциональным отношением в контексте кормления и материнской заботы, видом социального симбиоза. Именно на основе этой матрицы физиологической и социобиологической зависимости от матери происходит структурная дифференциация, которая ведет к организации индивида, необходимой для адаптации, т. е. к функционирующему Эго.
Знание о том, как на втором и третьем месяце жизни сенсорное восприятие чувственного по своей природе контакта должным образом обеспечивает переход маленького ребенка на симбиотическую стадию, мы получили благодаря гениальной прозорливости Шпитца. К высказанным Шпитцем соображениям мы хотим добавить, что в дополнение к кинестетическому чувству в симбиозе также играет важную роль переживание чувственного контакта всем телом, особенно глубокая чувствительность всей поверхности тела (сила материнского объятия). Достаточно вспомнить, что у многих относительно нормальных взрослых сохраняется сильное стремление обнимать и прижимать к себе кого-то и потребность, чтобы их также обнимали и прижимали к себе (Hollander, 1970). Помимо первичных полостных ощущений Шпитца (Spitz, 1955), эти последние модальности играют решающую роль в процессе ознакомления еще очень маленького ребенка с его партнером по симбиозу, адаптивного поведения и его разновидностей. И все это протекает в сфере глобального сенестетического опыта.
Шпитц (Spitz, 1965) описал, как рот—рука—лабиринт уха— кожное «единообразное ситуативное переживание» сливается с первым визуальным образом — материнским лицом.
Мы обнаружили, что при прочих равных условиях симбиоз является оптимальным, когда мать естественным образом позволяет ребенку видеть ее лицо, т. е. обеспечивает глазной контакт, что особенно важно во время кормления ребенка грудью (или из бутылочки), а также во время общения с ним, будь то песни или нежный разговор.
Фрейд (Freud S., 1895) писал, что сначала ребенок воспринимает лишь («массы в движении»; теперь мы знаем, что человеческое лицо («анфас>>) в Движении является первым значимым объектом восприятия и той энграммой памяти, что вызывает неспецифическую, так называемую социальную улыбку. Нам только осталось заменить фрейдовские <<массы в движении» вертикально перемещающимся человеческим лицом, даже скрытым маской или символом лица (Spitz, 1946), и мы получим самую современную концепцию начала перцептивной эмоциональной «социальной» активности человеческого существа.
Встреча глаза-в-глаза с лицом, даже закрытым маской, двигающимся в вертикальной плоскости, является триггером неспецифической реакции социальной улыбки. Эта неспецифическая реакция улыбки означает переход на стадию удовлетворяющих потребности объектных отношений. Существует временный катексис, направленный на мать и/или ее заботу посредством воздействия «потребности». Это соответствует вступлению в тот период, который мы назвали симбиотической фазой. Несмотря на то, что у ребенка по-прежнему преобладает первичный нарциссизм, на симбиотической фазе он не столь абсолютный, каким был на аутистической (в первые несколько недель жизни). Маленький ребенок лишь смутно начинает воспринимать удовлетворение нужд как идущее от какого-то частичного объекта, хотя все еще с позиции внутри орбиты всемогущего симбиотического диадического единства,— и он обращается либидинально в сторону источника или агента материнской заботы (Spitz, 1955; Mahler, 1969). Потребность постепенно становится желанием (ср.: Schur, 1966), а затем — специфическим «связанным-с-объектом» аффектом или сильным стремлением (Mahler, 1961, 1963, 1971).
З
Наряду с этим и в соответствии с циклами «удовольствие—боль», происходит установление границ репрезентаций телесного Эго внутри симбиотической матрицы. Эти репрезентации вносят вклад в формирование «образа тела» (Schilder, 1923; Mahler, Furer, 1966). Начиная с этого момента телесные репрезентации, которые содержатся в рудиментарном Эго, служат связующим звеном между восприятием того, что идет изнутри, и того, что находится снаружи. Это перекликается с концепцией Фрейда (Freud S., 1923) о том, что Эго формируется под влиянием реальности, с одной стороны, и инстинктивных импульсов — с другой. Телесное Эго содержит два вида саморепрезентаций: внутреннее ядро образа тела с границей, которая обращена внутрь тела и отделяет его от Эго, и внешнего слоя из сенсорно-перцептивных энграмм, которые являются частью границ «телесного Я» (ср.: Bergmann, 1963, обсуждение концептов Федерна).
Если брать за исходную точку образ тела, то сдвиг преимущественно проприоцептивно-энтероцептивного катектирования в сторону сенсорно-перцептивного катектирования периферии является главным шагом в развитии[12] . Мы не осознавали важность этого сдвига, пока не было проведено психоаналитическое исследование ранних детских психозов. Теперь нам известно, что этот главный сдвиг катексиса является базовой характеристикой процесса формирования телесного Эго. Другим параллельным шагом является выброс за пределы границ телесного Я деструктивной, агрессивной энергии, которая не была нейтрализована (ср.: Hoffer, 1950b). Это происходит при помощи защитных образований, таких как проекция.
Внутренние ощущения младенца формируют ядро его самости. Они, видимо, остаются центральной точкой кристаллизации «чувства Я», вокруг которого будет формироваться «чувство идентичности» (Greenacre, 1958; Mahler, 1958b; Rose, 1964, 1966). Сенсорно-перцептивный орган — «периферическая кора Эго», как его называл Фрейд, вносит основной вклад в отмежевание Я от объектного мира. два вида внутрипсихических структур совместно образуют точку отсчета для самоориентации (Spiegel, 1959).
Внутри общей симбиотической орбиты два партнера, или полюса, диады могут расцениваться как поляризующие процессы структурирования и организации. Структуры, являющиеся производными этих двойных рамок взаимосвязей, представляют собой ту точку отсчета, с которой будет соотноситься весь опыт до того, как в Эго появятся ясные и целостные репрезентации Я и объектного мира (Jacobson, 1964). Шпитц (Spitz, 1965) называет мать вспомогательным Эго младенца. Аналогично мы полагаем, что проявление заботы со стороны партнера, осуществляющего материнские функции, его «первичная материнская поглощенность» в том смысле, который вкладывал в это выражение Винникотт (Winnicott, 1958), является симбиотическим организатором — повивальной бабкой индивидуации и психологического рождения.
Что касается последней части симбиотической стадии, мы полагаем в целом, что первичный нарциссизм идет на спад и постепенно уступает дорогу нарциссизму вторичному. Маленький ребенок воспринимает свое тело, так же как и тело матери, в качестве объекта вторичного нарциссизма. Однако концепция нарциссизма все еще остается довольно неясной, — как в психоаналитической теории, так и в практике, — если мы не уделим внимания превращениям агрессивных влечений.
В ходе нормального развития защитные системы предохраняют тело маленького ребенка от давления орально-садистических импульсов, которое начинает представлять потенциальную угрозу его телесной интегрированности начиная с четвертого месяца (Hoffer, 1950а). Болевой барьер является одним из таких приспособлений. К тому же Хоффер (Hoffer, 1950b) делает особенный акцент на том, что адекватная либидинальная загрузка тела в контексте отношений мать — дитя является важной для развития образа тела.
З
Только когда тело становится объектом вторичного нарциссизма младенца через материнскую любящую заботу, внешний объект оказывается пригодным для идентификации. Цитируя Хоффера (Hoffer, 1950а, с. 159), начиная с возраста трех—четырех месяцев «первичный нарциссизм уже видоизменяется, но мир объектов, возможно, еще не принял четких очертаний>>.
Нормальный аутизм и нормальный симбиоз являются предварительными условиями начала нормального процесса сепарации-индивидуации (Mahler, 1967а; Mahler, Furer, 1963а). Ни фаза нормального аутизма или нормального симбиоза, ни какая-либо из субфаз сепарации-индивидуации не может быть полностью замещена последующей фазой. С описательной точки зрения между ними можно усмотреть сходство: они могут быть концептуально отделены друг от друга на основании различий в поведении, но они значительно перекрывают друг друга. Тем не менее с точки зрения развития мы рассматриваем каждую фазу как промежуток времени, в который происходит качественный скачок в психологическом росте индивида. Нормальная аутистическая фаза способствует постнатальной консолидации внеутробного психологического развития. Она содействует постэмбриональному гомеостазу. Нормальная симбиотическая фаза обозначает крайне важную филогенетическую способность человеческого существа взаимодействовать с матерью внутри диффузного диадического образования, создаюшего первичную почву, на базе которой формируются все последующие человеческие взаимоотношения. Фаза сепарации-индивидуации характеризуется постоянным повышением осознания отдельности Я и Другого, которое совпадает в то же время с формированием основ чувства Я, подлинных объектных отношений и с осознанием реальности окружающего мира.
Нормальный аутизм и нормальный симбиоз являются двумя самыми ранними стадиями недифференцированности: первую можно считать безобъектной, а вторую — предобъектной (Spitz, 1965). Эти две стадии имеют место до дифференциации недифференцированной матрицы (Hartmann, Е. kris, Loewenstein, 1949; Spitz, 1965), а именно до того, как произойдет сепарация и индивидуация и зарождение рудиментарного Эго как функциональной структуры (Mahler, Furer, 1963; ср. также: Glover, 1956).
То, что Шпитц называл <<предобъектной стадией», мы обозначили как симбиотическую фазу — название, указывающее на уникальное качество, присущее человеческому существованию. Отголоски этой фазы остаются с нами на протяжении всего жизненного цикла.
ФАЗА НОРМАЛЬНОГО СИМБИОЗА
Фаза нормального симбиоза характеризуется возрастающим перцептивным и аффективным инвестированием младенца в стимулы, которые мы (взрослые наблюдатели) расцениваем как поступающие из внешнего мира, но которые (как мы утверждаем) младенец не опознает в качестве имеющих четкий внешний источник. На этой фазе начинается формирование «островов памяти» (Mahler, Gosliner, 1955), но все еще нет дифференциации внешнего и внутреннего, Себя и Другого. Мир становится все более катектированным, особенно личность матери, но как единый диадический союз, где Эго все еще неясно выделено, отграничено и переживаемо. Катектирование матери является принципиальным психологическим достижением на этой фазе. Но здесь также существует взаимосвязь с тем, что произойдет позже. Мы знаем, что младенец может уже по-разному реагировать на внешние и внутренние стимулы. (Свет, например, переживается не так, как приступы голода.) Но если не постулировать наличия врожденных представлений, кажется наиболее разумным предположить, что ребенок не имеет ни образа, ни схемы Я или Другого, которым можно приписать и через это ассимилировать разные стимулы. Мы утверждаем, что переживание внутреннего и внешнего является все еще смутным; самый высококатектированный объект, мать, в то же время по-прежнему остается «частичным объектом».
3
Малер (Mahler, Gosliner, 1955) выдвинула гипотезу, что образы объектов любви, так же как образы телесного и позже психологического Я, возникают на основе увеличивающегося количества следов воспоминаний о приятных (<<хороших>>) и неприятных (<<плохих») инстинктивных, эмоциональных ощущений и перцепций, с которыми они начинают ассоциироваться.
Даже самая примитивная дифференциация, как бы то ни было, может иметь место, только лишь если достигнуто психофизиологическое равновесие (Sander, 1962а, Ь). Это зависит, в первую очередь, от определенного совпадения паттернов разрядки матери и маленького ребенка и в дальнейшем от их паттернов взаимодействия, на уровне поведения проявляющихся во взаимных сигналах, так же как и в самом раннем адаптивном формировании паттернов маленького ребенка и в его способности воспринимать то, как симбиотическая мать держит его на руках (Winnicott, 1956).
Паттерны поведения матери, Держащей ребенка на руках
Описание различных видов держания ребенка на руках сделает более понятным, почему мы называем их симбиотическими организаторами психологического рождения. Мы наблюдали множество разновидностей осуществления заботы во время симбиотического периода. Кормление грудью, несмотря на его важность, не всегда в результате приводило к оптимальной близости матери и ее младенца. Одна мать, например, с гордостью вскармливала грудью своих детей, но лишь потому, что это было удобно (ей не приходилось стерилизовать бутылочки); и это позволяло ей оставаться довольной собой и удовлетворенной. Во время кормления грудью она клала ребенка на колени так, чтобы грудь доставала до его рта. Она не держала его на руках и не укачивала, потому что хотела, чтобы ее руки оставались свободными, и она могла заниматься, чем ей захочется, вне зависимости от процесса кормления. Этот ребенок долго не улыбался. Когда же он начал улыбаться, это была неспецифическая реакция улыбки на-все-что-угодно.
Эта неспецифическая реакция продолжалась на протяжении неопределенного периода и появлялась в ситуациях, когда в сходных обстоятельствах другие дети уже должны были демонстрировать какое-то понимание или, по крайней мере, умеренное любопытство. Другая мать кормила грудью свою маленькую девочку, но ее пуританское воспитание не позволяло ей чувствовать себя комфортно во время этого процесса, и она не любила, когда ее видели кормящей.
С другой стороны, мы наблюдали мать, которая получала большое удовольствие от общения со своими детьми, но не кормила их грудью. Во время кормления она прижимала их поближе к себе, надежно поддерживая. Она улыбалась и говорила с ними, и даже когда ее ребенок лежал на столике для пеленания, ее руки всегда были под ним, чтобы поддерживать его и укачивать. Эта женщина была особенно хорошей матерью для своих детей в период, пока они находились на руках. Ее маленький сын был не только счастливым и довольным ребенком, но и очень рано стал демонстрировать сначала неспецифическую, а затем и специфическую реакцию улыбки.
У одной из матерей с ребенком и его развитием были связаны необычайно высокие амбиции, причем во всех областях функционирования. Ее любимым словом было «успех». Ее дочь, Джуни, будучи неизменным объектом таких вложений, вынуждена была справляться со стрессами, вызванными нарциссически окрашенным симбиотическим отношением со стороны матери.
Характерное взаимодействие матери с ее маленьким ребенком казалось опосредованным ее гордостью за раннее появление у той признаков скелетно-мышечного созревания. Джуни могла напряженно поддерживать позицию стоя на коленях у матери, а мать начинала хлопать ее ладошками, как будто та уже была в возрасте игры в ладушки. Сохраняя стоячее положение на ее коленях, Джуни не имела возможности высвободить руки, чтобы погладить или изучить свою мать; она, безусловно, занялась бы этим, если бы была предоставлена самой себе. Этот паттерн Джуни — стоять
З
выпрямившись[13] ,— которым ее мать безудержно гордилась, стал, конечно же, в высшей степени либидинизирован и предпочитаем маленьким ребенком. Впоследствии, в начале периода практикования, импульс подняться казался самым ярким паттерном в локомоторном репертуаре Джуни, длительное время конкурируя с более зрелым моторным паттерном перемещения себя в сторону цели (который доминирует в последующем моторном поведении большинства маленьких детей). Желание Джуни находиться в стоячем положении мешало развитию ее способности двигать руками и ногами в сторону чего-либо, координировать их работу, чтобы добраться до матери или ползти в какую-либо сторону. А ползание было одним из достижений в моторике, которое мать Джуни нетерпеливо поощряла и ожидала от своего ребенка.
Наблюдая за тем, как избранные паттерны, связанные с материнским отношением, перенимаются ребенком (см.: Tolpin, 1972), мы заметили, что наиболее ярко это проявлялось, видимо, в случае, если паттерн означал какую-либо фрустрацию или некое особенное вознаграждение. Например, когда после счастливого периода кормления грудью мать Карла отняла ребенка от груди, ей пришлось отклонять шумные требования ребенка, его попытки порвать блузку и пробраться под нее, чтобы получить грудь. Она успокаивала его, побрасывая вверх-вниз на коленях. Маленький мальчик в дальнейшем перенял этот паттерн подбрасывания вверх-вниз и со временем превратил его в игру в «ку-ку» (см.: kleeman, 1967). В этом случае материнский «паттерн подбрасывания» был в дальнейшем использован мальчиком в игре, которая была связана с его матерью, и впоследствии он искал социальных контактов со своими родителями и гостями, разыгрывая этот милый паттерн игры в «ку-ку» в собственной интерпретации, который стал признаком его социализирующего поведения субфазы
воссоединения. Таким образом, в случае Карла паттерн послужил целям развития, конструктивным и адаптивным[14] .
Другая маленькая девочка активно переняла у своей матери
паттерн качания. Мать была незрелой, в высшей степени нарциссической женщиной,
и ее паттерны материнской заботы были довольно механистичными. Она напряженно
качала ребенка на коленях, не выражая никаких чувств. Качание использовалось в
данном случае для самоуспокоения и аутоэротической самостимуляции, как будто бы
ребенок выступал матерью самой себе. Во время субфазы дифференциации эта
маленькая девочка старалась приумножить удовольствие от раскачки себя качанием
перед зеркалом, тем самым к кинестетическому удовольствию добавляя визуальную
обратную связь. В отличие от случая Карла, паттерн, перенятый этой маленькой
девочкой, не служил адаптивным целям и развитию, а лишь усиливал ее нарциссизм.
ГЛАВА 4
ПЕРВАЯ СУБФАЗА:
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
ОБРАЗА ТЕЛА
римерно в возрасте четырех—пяти месяцев, на пике симбиоза, особенности поведения ребенка указывают на начало первой субфазы сепарации-индивидуации, называемой Дифференциацией. На протяжении месяцев симбиоза с помощью той деятельности пред-Эго, которую Шпитц описал как сенестетическую чувствительность, младенец знакомится с осуществляющей материнские функции частью симбиотического Я, на что указывает неспецифическая социальная улыбка. Эта улыбка постепенно переходит в специфическую (предпочтительную) реакцию улыбки на мать, что является ключевым показателем возникновения специфической связи между младенцем и его матерью (Bowlby, 1958). Фрейд подчеркивал, что внутренние восприятия более фундаментальны и проще устроены по сравнению с внешними. (Маленький ребенок в основном реагирует на внутренние восприятия, что отмечено в книге Спока о детях.) Это реакции тела на самого себя и на сигналы от внутренних органов. Гринакр (Greenacre, 1960) придерживается того взгляда, что сменяющие друг друга состояния напряжения и расслабления, «по-видимому <.. .> формируют вид центрального ядра смутного восприятия тела» (Greenacre, 1960, р. 207). Она поясняет: «Я пришла к мысли, что процесс рождения сам по себе является первым связующим звеном огромной важности в подготовке к восприятию сепарации; что это происходит посредством значительного влияния давления и стимуляции поверхности тела ребенка во время рождения, и особенно благодаря сильному изменению давления и температурных условий, в которые попадает ребенок после своего перехода из внутриутробной во внеутробную жизнь».
Во время наших исследований-наблюдений мы ясно видели формирование паттернов взаимодействия мать—дитя, но о внутренних паттернах, участвующих в построении «ядра>> примитивного образа тела, мы могли лишь догадываться (ср. также: kafka, 1971).
Согласно мнению Гринакр, закладывание паттернов «сердцевины>> недоступно исследованию при помощи наблюдения, но виды поведения, которые посредством механизма взаимного отражения способствуют отмежеванию Я от Другого, пронаблюдать возможно. Якобсон отмечает, что способность к различению объектов развивается быстрее, чем способность отделять Я от объектов. Мы можем наблюдать, как ребенок льнет к материнскому телу и дистанцируется от него всем своим корпусом; мы видим, как он чувствует свое и материнское тело, как обращается с переходными объектами. Хоффер подчеркивал важность прикосновения (Hoffer, 1949, 1950а, 1950b) в процессе формирования границ, а также важность либидинальной загрузки тела маленького ребенка его матерью. Гринакр делала акцент на «приближении к чувству целостности при помощи ощущения воздействий теплого тела матери или няни, [которое] представляет относительно малую степень разницы в температуре, текстуре, запахе, упругости,
т. е. «тургоре» (ср. также: ВаК, 1941). Вероятно, эта относительно малая разница уже может усваиваться врожденными сенсорно-моторными механизмами маленького ребенка (как понимал это Пиаже).
Можно было бы ожидать, что внутреннее удовольствие в связи с безопасным укоренением внутри симбиотической орбиты (которая в основном энтероцептивно-проприоцептивная и контактно-перцептивная) будет продолжаться, а удовольствие от созревающего в ходе развития внешнего сенсорного восприятия (зрение или видение и, возможно, слух и прислушивание к происходящему вовне) будет стимулировать внешне направленный катексис внимания; эти две формы катексиса внимания могут свободно чередоваться (Spiegel, 1959;
Rose, 1964). Результатом должно быть оптимальное симбиотическое состояние, из которого постепенно начнется дифференциация и экспансия за пределы симбиотической орбиты.
ВЫЛУПЛЕНИЕ
«Процесс вылупления», как мы полагаем, представляет собой постепенную онтогенетическую эволюцию чувствительного центра (системы чувственного восприятия), приводящую в итоге к постоянному возбуждению чувствительного центра ребенка, когда он бодрствует (ср.: Wolff, 1959).
Другими словами, внимание ребенка, которое в первые месяцы симбиоза было по большей части направлено внутрь или сенестетически сфокусировано на происходящем внутри симбиотической орбиты, постепенно расширяется, становясь внешне направленной перцептивной активностью в периоды его бодрствования, которые все увеличиваются. Разница заключается, скорее, не в типе, а в степени, поскольку и во время симбиотической стадии ребенок, безусловно, был крайне внимателен к материнской фигуре. Но постепенно такое внимание начинает сочетаться с все возрастающим объемом воспоминаний об уходах и появлениях матери, о «хороших» и «плохих» частях опыта; избавление от последних не может быть достигнуто самостоятельно, но ребенок может «с уверенностью ожидать» избавления от них через материнскую заботу.
Наблюдая детей в созданной нами обстановке, мы пришли к пониманию того, что в определенный момент на субфазе дифференциации бодрствование, устойчивость состояний и направленность на цель приобретают новые формы. Мы сочли это поведенческим проявлением «вылупления» и постановили считать, что ребенок, у которого наблюдаются такие изменения, «вылупился». Этот новый гештальт безошибочно распознавался нашими сотрудниками, но выделить его специфические критерии достаточно сложно. Наилучшим образом это, вероятно, описывается в терминах состояний (ср.: Wolff, 1959). Кажется, что ребенок перестает дрейфовать между
состояниями включенности и выключенности, и реактивность его чувствительного центра становится более стабильной, когда он бодрствует.
Примерно в шесть месяцев начинается пробное экспериментирование с сепарацией-индивидуацией. Это можно наблюдать в таких поведенческих проявлениях со стороны ребенка как хватание матери за волосы, уши или нос, попытки запихнуть еду ей в рот и отстранения от нее всем телом с целью получше разглядеть ее и то, что находится вокруг. Это не похоже на прежнюю манеру ребенка прижиматься к матери, когда та держит его на руках (ср.: Spock, 1963). Существуют определенные признаки того, что ребенок начинает отличать свое тело от материнского. На шесть—семь месяцев приходится пик мануального, тактильного и визуального исследования материнского лица, так же как и закрытых (покрытых одеждой) и непокрытых частей ее тела; на протяжении нескольких недель ребенок завороженно исследует брошь, очки или кулон, который носит мать. Его можно заинтересовать игрой в «ку-ку», в которой он все еще играет пассивную роль (kleeman, 1967). Эти исследовательские паттерны позже превратятся в когнитивную функцию сверки незнакомого с уже известным.
Переходные объекты и переходные ситуации
Гринакр (Greenacre, 1960) утверждает:
Переходный объект, описанный Винникоттом (Winnicott, 1953), является напоминанием о потребности в контакте с материнским телом, что трогательно выражается в настоятельных предпочтениях ребенком объекта прочного, мягкого, податливого, теплого на ощупь, но главным требованием все-таки остаются свойственные ему запахи тела[15] . Тот факт, что объект обычно прижимается к лицу, поближе к носу, вероятно, указывает на то, как хорошо он замещает материнскую грудь или мягкую шею (Greenacre, 1960, р. 208).
Мы наблюдали, что предпочитаемые матерью успокаивающие или стимулирующие паттерны перенимаются ребенком, усваиваются им в своей собственной манере и, таким образом, становятся переходными паттернами. Примерами таких паттернов могут служить поглаживание лица или определенные повторяющиеся движения, описанные в предыдущей главе.
Гринакр (Greenacre, 1960) полагает, что <<зрение не просто способствует развитию ознакомления с поверхностью своего тела и достижению разграничения Я—не-Я, но представляет собой совершенно необходимую для этого функцию. „Прикосновение” и „ощупывание” различных частей тела глазами (зрением) помогает соединить тело воедино, в центральный образ, на уровне, отличном от просто непосредственного сенсорного восприятия» (Greenacre, 1960, р. 208). Исследованиянаблюдения при помощи нашей методологии не были так сфокусированы на деталях структурализации, как исследования по переходному объекту, но мы получили весьма много материала, который, возможно, пойдет на пользу будущим исследованиям, например, в наших последующих проектах.
Одно из главных отличий нормально развивающегося ребенка от ребенка, имеющего тяжелые психотические нарушения, а также, возможно, более позднюю пограничную патологию, видимо, представляет собой тот же самый критерий, при помощи которого Винникотт (Winnicott, 1953) оценивал нормальность или патологию переходного объекта (ср. также:
Furer, 1964; kestenberg, 1968; Roiphe, Galenson, 1973; ВаК, 1974).
Как бы то ни было, именно во время первой субфазы сепарации-индивидуации все нормальные дети предпринимают первые пробные шаги к тому, чтобы высвободиться из прежде полностью пассивного младенчества-на-руках — стадии диадического единства с матерью. Мы можем наблюдать индивидуальные различия склонностей и паттернов, так же как и общие характеристики стадии дифференциации как таковой.
Все дети стараются улизнуть из материнских объятий и побыть хотя бы немного вдали от нее; как только им позволяет моторное развитие, они жаждут соскользнуть с коленей матери, но в то же время стремятся оставаться или приползать обратно и играть как можно ближе к ее ногам.
Паттерн перепроверки
Начиная с возраста семи-восьми месяцев мы обнаружили у детей визуальный паттерн <<перепроверки на матери», который — по крайней мере, в нашем сеттинге — является самым значимым и относительно стабильным признаком начала соматопсихической дифференциации. По сути, он является самым важным паттерном нормального когнитивного и эмоционального развития.
Ребенок начинает сравнительное рассматривание (см.: Pacella, 1972). Он проявляет интерес к «матери» и как будто сравнивает ее с «другим», незнакомое — со знакомым, черта за чертой. Он как будто знакомится более тщательно, чем раньше, с тем, что есть мать, что ощущается, имеет вкус, запах, выглядит похожим и имеет «отзвук» матери. По мере того, как он изучает «мать как мать» (Brody, Axelrad, 1966), он также выясняет, что относится и что не относится к материнскому телу — брошка, очки и т. п. Он начинает проводить различия между матерью и другими людьми и предметами, которые выглядят, ощущаются, двигаются отлично или похоже на то, как это делает мать.
Реакции на посторонних людей и вызванная этим тревога
Мы полагаем, что в психоаналитической литературе по развитию ребенка группа поведенческих феноменов, указывающих на изучение ребенком «отличных-от-матери» объектов, описана однобоко и неполно как «тревожная реакция на незнакомых людей». Но уже в классическом фильме Шпитца и Вольфа, посвященном боязни незнакомцев, мы могли наблюдать одну из самых примечательных особенностей маленьких
детей — их любопытство, их стремление узнать что-нибудь о «постороннем», как только незнакомец отводит взгляд.
Наши глубинные познания, основывающиеся на продолжительных и подробных исследованиях, показали, что существуют индивидуальные различия, многочисленные вариации во времени, количестве и качестве того, что называется «тревогой восьми месяцев», и того, что отдельно рассматривается как «тревога, вызванная незнакомцами» (то, что Джон Бенджамин начал более подробно изучать в своих поздних исследованиях).
Чтобы проиллюстрировать это, давайте кросс-секционно сравним двух детей одной и той же матери, когда они были примерно в одном и том же возрасте: Линда и ее брат Питер, шестнадцатью месяцами ее старше.
Мы видели, как Линда спокойно и вдумчиво исследовала как визуально, так и тактильно лица включенных наблюдателей, которые были ей относительно незнакомы. При этом она не выказывала ни малейшего страха. Ее обычно радостное настроение сохранялось в течение нескольких секунд после того, как посторонний вынимал ее из кроватки. Затем она спокойно осознавала, что это «не мать», и начинала то, что Сильвия Броди (Brody, Axelrad, 1970) называет «таможенный досмотр» — термин для обозначения тщательной визуальной и тактильной исследовательской активности ребенка, который находится на стадии дифференциации (см.: Mahler, McDevitt, 1968).
Когда в таких случаях мать брала Линду на руки, мы видели, что у Линды не было более нужды проверять знакомое лицо матери; вместо этого она возбужденно тянулась к ней и «крепко повисала» на ее шее.
Радостное настроение Линды и ее уверенность изначально основывались на ее близости и доставляющем удовольствие взаимодействии с матерью.
По контрасту с «базовым доверием» Линды и отсутствием у нее какой-либо выраженной тревоги, вызванной посторонними, ни в том возрасте, ни в дальнейшем, у ее брата Питера мы наблюдали выраженную тревожную реакцию на незнакомцев в семь и восемь месяцев. По прошествии латентного периода длиной в одну или две минуты, во время которого он воспринимал мягкие и осторожные попытки «незнакомца» завязать контакт и явно испытывал удивление и любопытство, опасения Питера по поводу постороннего человека как будто начинали его переполнять. даже несмотря на то, что он стоял около матери, на том же плетеном кресле, где сидела она, и мог прижаться к ней, если бы захотел, он разражался слезами, глядя на незнакомца, приблизительно в тот же момент, когда мать начинала гладить его по голове [16] .
Такие сравнительные наблюдения продемонстрировали, к каким различным результатам могут приводить разные стили взаимодействия матери и ребенка. Если с Питером взаимодействие было полно напряжения и непредсказуемости, то с Линдой «климат» был значительно более благоприятным и гармоничным — как на стадии симбиоза, так и после «вылупления».
Мы пытались понять эти отличия, принимая во внимание разные природные способности сиблингов и превалирующий эмоциональный климат в отношениях мать—дитя, наблюдая за их взаимодействием (и на основе наших интервью с матерью). Благодаря этому и многим другим подобным наблюдениям мы пришли к рассмотрению развития реакций на посторонних в более широком контексте: как только ребенок становится достаточно индивидуированным, чтобы узнавать лицо матери — визуально и тактильно и, возможно, другими способами, и как только он знакомится с общим эмоциональным фоном и «чувством» своего партнера по симбиотической диаде, он переходит к продолжительному визуальному и тактильному исследованию и изучению лиц и образов других, делая это с большей или меньшей заинтересованностью. Он изучает их издалека и вблизи. Он явно наблюдает и сверяет черты лица незнакомца с лицом матери, а также с любым внутренним образом его матери, который может у него иметься (необязательно визуальный и даже по большей части не визуальный). Кажется, что он также проводит сверку с материнским внутренним образом, особенно с ее лицом, в отношении других интересных новых переживаний.
У детей, пребывание которых в фазе симбиоза было благоприятным и у которых превалировали «доверительные ожидания» (Benedek, 1938), при исследовании посторонних в ходе перепроверки преобладают любопытство и заинтересованность. У детей, чье базовое доверие было ниже оптимального уровня, напротив, может случиться внезапный переход к острой тревоге и страху перед незнакомым человеком; или может быть продолжительный период сглаженной реакции на незнакомца, который временами может сменяться доставляющим удовольствие исследовательским поведением. Эти феномены и факторы, влияющие на их изменчивость, составляют, как мы полагаем, важный аспект оценки нами либидинального объекта, социализации и первого шага в сторону эмоциональной объектной константности. Нужно уделить особое внимание и в дальнейшем верифицировать эту взаимозависимость между базовым доверием и тревожной реакцией на незнакомцев (см.: Mahler, McDevitt, 1968).
Отсроченное и преждевременное вылупление
В случаях, когда симбиотический процесс, т. е. создание общей «панцирной» мембраны диадического единства, произошел с задержкой или был нарушен, дифференциация, видимо, начинается с опозданием или преждевременно. Мы описывали в предыдущей главе девочку, мать которой обычно просто механически укачивала ее на коленях, без проявления теплоты и интереса. На симбиотической фазе эта маленькая девочка была как будто обмякшей, не пыталась прильнуть к матери и стать ее квазичастью. Ее улыбка была не избирательной реакцией и не была направлена на мать как на особенного человека. В возрасте, когда другие дети начинают осуществлять более активное приближение к матери или дистанцирование от нее, она обратилась к своему телу, чтобы через него получать аутоэротическую стимуляцию. Девочка предпочитала большую часть времени предаваться раскачиванию и не экспериментировала с активным дистанцированием и приближением.
В другом случае симбиотические отношения были неудовлетворительны по ряду причин. Мать мальчика во время его младенчества находилась в депрессии. Это был ее третий ребенок, и она была перегружена делами и заботами; семья жила в скромных условиях и перенаселенном месте. Вскоре после рождения этого ребенка умер отец матери, с которым у той были очень близкие отношения. Более того, когда младшему ребенку было всего лишь несколько месяцев, со старшим произошел серьезный несчастный случай. Из-за стечения всех этих обстоятельств мать непреднамеренно игнорировала малыша. Его кормили из бутылочки и часто спиной к матери. В целом она избегала глазного контакта с ним. В то же время мать вовсе не была безразлична к нему и заботилась о нем, как и об остальных своих детях. Как и вышеупомянутая маленькая девочка, этот мальчик поздно начал воспринимать свою мать как особого человека. Специфическая реакция улыбки появилась с опозданием. Он также поздно начал использовать визуальную модальность, которая является первым инструментом, позволяющим активно дистанцироваться, одновременно давая возможность ребенку построить мост через пространство, т. е. сохранить визуально-перцептивный контакт. Хотя он и запаздывал в своем развитии, в его поведении никогда не проявлялись механистичность и тряпичность, как это было у вышеописанной девочки в период симбиоза и дифференциации.
Мы также наблюдали детей, у которых стадия симбиоза протекала неблагоприятно по причине высокой амбивалентности их матерей по отношению к ним и к своему материнству. У этих детей нарушения симбиоза были вызваны не безразличием или депрессией со стороны матери, но ее непредсказуемостью. Они как бы компенсаторно начинали узнавать своих матерей достаточно рано; их отношения улучшались, когда большая дистанция делала их более комфортными и когда им становились доступны источники удовольствия, связанные с их возрастающей автономией и с окружающим миром.
В таких случаях, видимо, проявляется очень ранняя способность ребенка к адаптации.
Мы полагаем, что дифференциация маленькой девочки, мать которой была нарциссичной и не давала ей тепла, произошла поздно, потому что она не могла положиться на мать как на симбиотического партнера, и ей пришлось слишком много <<работы» выполнять самой; т. е. она вынуждена была стать матерью самой себе. Таким образом, когда она дифференцировалась, у нее могли проявляться некоторые признаки развития <<ложного Я» (ср.: James, 1960). Это, видимо, был случай максимального использования собственных ресурсов. Позднее мы узнали, что поистине материнское отношение ее отца с самого раннего возраста удержало ее от того, чтобы начать избегать весь мир. Маленький мальчик, который по разным причинам не получал удовлетворительной поддержки во время симбиоза, явно продлевал этот период, как будто с целью дать себе и матери возможность наверстать упущенное. Он сошел с симбиотической орбиты, когда он и, возможно, также его мать были готовы.
Младенец Питер был одним из тех детей, у которых были интенсивные, но дискомфортные симбиотические отношения. Он начал «вылупляться» рано и быстро перешел на фазу дифференциации, высвобождая себя из дискомфортного симбиоза. У Питера была выраженная реакция на незнакомцев и сопутствующая этому тревога. Видимо, это стало одним из его ранних защитных паттернов. Гораздо позднее, когда он уже преодолел изначальные реакции на посторонних, они могли повторяться, хотя и в весьма приглушенном виде, когда Питер проходил период какого-либо кризиса. Казалось, будто неудовлетворительная симбиотическая фаза не позволила Питеру аккумулировать достаточный резервуар базового доверия — того нормального нарциссизма, который обеспечивает твердую опору для уверенного выхода в «отличный-от-матери» мир. Более того, начав дифференцироваться, т. е. отделяться, достаточно рано, Питер легко впадал в тревогу и плохо справлялся с дистрессом, потому что способности его автономно развивающегося Эго были скороспелыми и вследствие этого хрупкими. Мы обнаруживали раз за разом, что дети, которые, видимо, весьма тяжело переживали время сепарации от матери, необычно рано начинали выделять мать среди других заботящихся о них взрослых.
Похоже, что эти ранние паттерны дифференциации вполне объяснимы рационально как в терминах отношений матери и ребенка, так и с учетом особенностей каждого конкретного малыша. Более того, есть основания считать, что они запускают паттерны личностной организации, которые остаются неизменными на последующей стадии сепарации-индивидуации, а возможно, и дольше. Рождение ребенка как индивида происходит, когда в ответ на материнскую избирательную реакцию на его гуление он постепенно изменяет свое поведение. та специфическая бессознательная потребность матери, которая активизирует из бесконечного потенциала возможностей маленького ребенка те особенные, что создают для каждой матери этого ребенка>>, отражающего ее собственные уникальные и индивидуальные потребности. Этот процесс происходит, конечно же, в рамках врожденных способностей ребенка» (Mahler, 1963; см. также: Lichtenstein, 1964).
Мы обнаружили, что те дети, чьи матери получали удовольствие от симбиотической фазы, не переживая особых конфликтов, те дети, которые во время этого важного периода единства с матерью были сыты, но не перекормлены, в некоторый момент начинали активно стремиться к дифференциации посредством постепенного дистанцирования от материнского тела. С другой стороны, в случае если имел место паразитизм, навязчивость, «душащее отношение» со стороны матери, наблюдались разнообразные нарушения дифференциации. В некоторых случаях, когда мать действовала исходя исключительно из своих симбиотически-паразитарных потребностей, не принимая во внимания нужды ребенка, дифФеренциация протекала особенно бурно. Такое произошло в случае маленького мальчика в возрасте от четырех до пяти месяцев, потому что его мать была симбиотически слишком обволакивающей. На протяжении определенного периода времени этот ребенок явно предпочитал, чтобы его держала на руках не мать, а другие взрослые — те, кто мог предоставить ему большую возможность визуально исследовать окружающий мир. Казалось, он отталкивал свою мать физически в защитных целях, сопротивляясь материнскому телу, упираясь в него ручками и ножками (иногда даже изгибаясь назад дугой несколько судорожным образом). В его случае это служило двойной цели: (1) это способствовало, как и для других, «более среднестатистических» младенцев на симбиотической орбите, его нахождению в позиции, с которой он мог бы лучше исследовать <<отличный-от-матери» окружающий мир, по-новому взглянуть на мать, установить с ней визуальную связь с большей дистанции; и (2) это преследовало цель сократить контакт поверхности тела с матерью. Что удивило нас больше всего, так это то, что для таких окруженных (симбиотически) обволакивающим отношением детей этот активный процесс дистанцирования начинается раньше, чем мы ожидали. другой ребенок той же матери также стремился избегать тесного физического контакта.
Есть основания полагать, что стремление к дистанции во время субфазы дифференциации сопровождается усилением восприятия матери как особого человека, даже если такое восприятие, как в случае выше, носит негативный характер (ср. также с паттернами сравнительного разглядывания и «перепроверки»).
Позвольте проиллюстрировать некоторые феномены первой субфазы (дифференциации) еще несколькими случаями из нашей исследовательной практики. У всех описанных ниже детей наблюдалось соответствующее фазе развитие (как у всех «нормальных» детей), наряду с очень индивидуальными вариациями, зависящими от материнского отношения, врожденных задатков и жизненных обстоятельств (Weil, 1970).
Ранние отношения Берни с матерью были полны блаженства, и мать, казалось, находила большое удовлетворение в кормлении его грудью. Однако из-за чувства вины перед старшим сыном, а также из-за того, что малыш кусал ее сосок (ср.: Spock, 1965), она неожиданно и бесповоротно перевела Берни на кормление из бутылочки. Такое отлучение от груди внесло значительные изменения в атмосферу симбиотических отношений. Вначале ребенок настойчиво и раздраженно искал потерянную грудь, в то время как мать отчаянно отрицала его явную реакцию на травму отлучения. Радость и удовлетворение, которыми лучилась мать в период кормления грудью, сменились безразличием и апатией, в то время как ребенок, в свою очередь, стал раздражительным, равнодушным и апатичным. Счастливый, улыбающийся, хорошо приспосабливающийся ребенок у груди временно превратился в пассивного, обмякшего и мешкообразного ребенка на руках[17] .
Затем в течение какого-то времени на основную трудность взаимодействия между Берни и его матерью, казалось, благоприятно влияло каждое продвижение в созревании ребенка. Берни проявлял явный интерес к движению: он практиковался в ползании, тянулся вверх с большим удовольствием и настойчивостью. Как только он стал способен вовлекать других во взаимодействие взглядом, научился распознавать мать среди других значимых взрослых и начал получать удовольствие от развития некоторых своих моторных функций, его сфера исследований расширилась до всей зоны игровой комнаты (и всех помещений в доме). Его мать, казалось, чувствовала облегчение от снижения симбиотических требований сына и тотальной зависимости, а Берни, в свою очередь, стал способен полностью использовать всю получаемую поддержку и защиту в период практикования.
Разительно отличаюшийся от вышеописанного переход с симбиотической на фазу сепарации-индивидуации наблюдался у другого маленького мальчика, который имел тесные и пролонгированные симбиотические отношения с матерью.
Оба родителя этого ребенка имели симбиотически-паразитарные потребности, относились к нему как к вегетативному существу и удерживали его в состоянии продолжительной симбиотической зависимости (ср.: Parens, Saul, 1971). Это явно замедляло его либидинальные вложения в развитие моторных функций (см. ниже), которые, вероятно, были изначально конституционально слабо развиты. Если Берни перешел на фазу сепарации-индивидуации со сформированным предпочтением моторного способа исследований, то этот маленький мальчик еще долго предпочитал пользоваться только тактильными и зрительными модальностями. Такое положение дел имело несколько причин. Оба родителя настаивали на немедленном снятии любого напряжения, как только ребенок демонстрировал какие-либо признаки такового, так что ему не приходилось прилагать даже малейших усилий для получения желаемого. Его мать демонстрировала нам и сообщала невербальным образом ребенку свое желание, чтобы он оставался малоподвижным и смирился с тем, что с ним обращаются в позиции лежа, несмотря на его явные возражения.
Этот маленький мальчик был по врожденным задаткам ребенком с замедленным созреванием моторных функций. Его мускулатура была дряблой, крупные движения его тела были осторожными и менее энергичными, чем у других детей его возраста. (Примечательное исключение составляли его активные рывки, когда он находился в возбуждении.) Ограниченный небольшим пространством по причине неразвитости локомоторных способностей, он извлек максимальную пользу из своих значительных перцептивно-когнитивных и хватательных навыков с целью занять и развлечь себя в течение длительного периода времени при помощи «разыгрывания увлекательных зрелищ» (Piaget, 1936). В то же время он оставался в высшей степени реактивен визуально на происходящее вокруг него; он с готовностью включался во взаимодействие с другими и принимал от них поддержку и успокоение.
На примере двух этих детей проиллюстрированы два разных способа перехода на первую субфазу сепарации-индивидуации — дифференциацию. Вероятно, стоит отметить, что они показали равные результаты по общей оценке деятельности в тестах по развитию.
У нас сложилось впечатление, что мать второго ребенка, которая интенсивно наслаждалась симбиотическими отношениями со своим грудным младенцем, принадлежала к той группе женщин, которые не могли вынести постепенного выхода ребенка из тесной взаимосвязи в начале фазы сепарациииндивидуации. Они присоединяют, «присваивают личность» (ср.: Sperling, 1944) ребенка себе и не поощряют его попытки независимого функционирования вместо обеспечения и поддержания постепенной сепарации. С другой стороны, как мы отмечали в других работах (Mahler, 1967а), существует немало матерей, которые, в отличие от сверхсимбиотических, сперва удерживают своих детей, а затем резко выталкивают их в «автономию» (ср.: Greenson, 1968; Mahler, 1968b, 1971).
Подобно тому как внутренние переменные предопределяют возможность гармоничного личностного развития, так и благоприятное взаимодействие мать—дитя оказывает влияние на адекватность субфазы. Много лет назад Коулман, Крис и Провинс (Coleman, kris, Provence, 1953) обратили внимание на значительные изменения материнских установок во время первого года жизни ребенка. Мать тоже вынуждена менять свои установки на протяжении всего хода процесса сепарациииндивидуации, но особенно в определенные важные или поворотные моменты данного процесса! [18]
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕПАРАЦИИ И ИНДИВИДУАЦИИ
Феномен нормального развития проще всего понять, если элементы процесса рассматривать по порядку. Именно в конце
первого года и на протяжении первых месяцев второго года жизни можно видеть с особой ясностью, что внутрипсихический процесс сепарации-индивидуации имеет два переплетающихся, но не всегда соразмерных и пропорционально прогрессирующих направления развития. Одно — это направление индивидуации, эволюция внутрипсихической автономии, восприятия, памяти, познания, тестирования реальности; другое состоит в развитии сепарации, которая протекает совместно с дифференциацией, дистанцированием, формированием границ и разъединением с матерью. Все эти процессы структурализации в итоге достигнут кульминации в виде интернализированных Я-репрезентаций, отличных от внутренних объектных репрезентаций. Поверхностные поведенческие феномены процесса сепарации-индивидуации могут проявляться в бесчисленных тонких вариациях, сопровождающих прогрессирующее внутрипсихическое развитие. Оптимальной ситуацией, по-видимому, является та, в которой восприятие телесной сепарации в условиях дифференциации от матери идет параллельно (а именно не слишком запаздывает и не опережает) развитию автономного функционирования тоддлера — развитию познания, восприятия, памяти, тестирования реальности и т. д., т. е. тех функций Эго, которые обслуживают индивидуацию. В нашем наблюдении-исследовании прогресс и регресс и постепенная интеграция этих двух путей развития — сепарации и индивидуации — может изучаться при помощи наблюдения за перемещениями ребенка вперед-назад по отношению к матери. Мы могли проследить это развитие, изучая взаимодействие диады «мать—дитя» и в особенности наблюдая живые проявления эмоций, жестов и вокализации самого ребенка.
Мы нашли полезным сравнить детей, у которых локомоторное развитие протекало медленно, с теми, кто начал ходить раньше обычного. Например, два маленьких мальчика находились на разных концах спектра двух направлений процесса сепарации-индивидуации: созревание или развитие, сепарация или индивидуация. Один из них начал посещать нас, уже умея ходить в возрасте 9 месяцев; другой сделал свои
первые шаги без посторонней помощи только через два дня после того, как ему исполнилось 17 месяцев — восемь полных месяцев разницы!
Влияние таких несоответствий в сроках на процесс
сепарации-индивидуации будет обсуждаться в следующих главах.
ГЛАВА 5
ВТОРАЯ СУБФАЗА: ПРАКТИКОВАНИЕ
ПЕРИОД РАННЕГО ПРАКТИКОВАНИЯ
Фаза дифференциации перекрывается с периодом практикования. В ходе обработки наших данных мы сочли, что будет полезно разделить период практикования на две части: (1) фаза раннего практикования, наступление которой обусловливается появлением у ребенка зачатков способности удаляться от матери физически при помощи ползания, карабканья, попыток выпрямляться и ходить, все еще держась за что-нибудь; и (2) собственно период практикования, феноменологически характеризующийся свободным передвижением в вертикальном положении.
По крайней мере, три взаимосвязанные, но в то же время не совпадающие линии развития вносят свой вклад в первые шаги ребенка в сторону осознания своей отделенности и по направлению к индивидуации. Это быстро протекающая телесная Дифференциация от матери; установление специфической взаимосвязи с ней; и развитие автономного Эго-аппарата в условиях непосредственной близости к матери.
Эти линии развития подготавливают дорогу для того, чтобы интерес ребенка к матери перераспределился (это становится гораздо более ярко выражено, чем до этого) в сторону неодушевленных объектов — вначале тех, которыми она сама окружает ребенка: одеяло, подгузник, предложенная ей игрушка или бутылочка, которая участвует в процессе расставания на ночь. Ребенок исследует эти объекты визуально и определяет их вкус, текстуру и запах при помощи контактных органов восприятия, особенно ртом и руками. Тот или иной из этих объектов может стать переходным. Какова бы ни была очередность, в которой эти функции развиваются во время субфазы дифференциации, характерным для этапа раннего практикования остается преобладание интереса к матери несмотря на погруженность в исследовательскую деятельность.
Созревание локомоторной и других функций во время периода раннего практикования оказывает самое благотворное влияние на тех детей, у кого были интенсивные, но дискомфортные симбиотические отношения. Весьма вероятно, что это связано — по крайней мере, частично — с тем, что одновременно и мать освобождается от необходимости соответствовать всем требованиям ребенка. Те матери, которые были наиболее тревожны из-за неспособности освободить своего ребенка от дистресса во время фаз симбиоза и дифФеренциации, теперь, когда их дети стали менее хрупкими и ранимыми и в чем-то более независимыми, чувствуют облегчение. Такие матери и их дети были не способны получать устойчивое удовольствие от близкого физического контакта, но теперь для них оказалось возможным наслаждаться друг другом на большей дистанции. дети становятся менее напряженными и обретают способность лучше использовать своих матерей в поисках комфорта и безопасности.
Иной паттерн взаимодействия мать—дитя в период раннего практикования наблюдался у тех детей, которые наиболее активно искали физической близости к матери, и у тех, чьи матери имели большие трудности в обращении с ними во время процесса активного дистанцирования. Этим матерям нравилась близость симбиотической фазы, но как только эта фаза подходила к концу, они предпочли бы, чтобы их дети уже стали «взрослыми». Примечательно, что этим детям было непросто вот так «повзрослеть»; они не были способны получить удовольствие от появляющейся возможности дистанцироваться и очень активно требовали близости.
С развитием двигательных способностей раздвигаются границы мира ребенка. Он начинает более самостоятельно регулировать дистанцию между собой и матерью, а модальности, которые до этого момента использовались для исследования
относительно знакомой обстановки, неожиданно открывают для него более широкий сегмент реальности; теперь можно больше увидеть, больше услышать, больше потрогать. То, как переживается этот новый мир, по-видимому, тонко взаимосвязано с матерью, по-прежнему являющейся центром детской вселенной, от которого он постепенно начинает движение, захватывая все больше пространства вокруг себя.
Не так давно один из нас (А. Б.) имел возможность непосредственно наблюдать семимесячного ребенка в этот период активного локомоторного функционирования, по времени совпавшего с трехнедельной разлукой с его родителями и последующим воссоединением. Этот ребенок описывался как особенно спокойный и беззаботный. Он встречал каждого нового человека с радостным любопытством и тщательно исследовал его визуально и тактильно. Во время отсутствия своих родителей он был оставлен с бабушкой и дедушкой, которых хорошо знал. Это совпало по времени с быстрым переходом его от состояния младенца-на-руках к отделенности. Он начал ползать и пытаться выпрямиться и встать. Эти новые навыки приносили ему скорее боль, нежели удовольствие. Он часто падал и горько плакал после каждого падения. Тем не менее он не прекращал свои болезненные эксперименты. Неожиданно оказалось, что этот на вид тихий, спокойный ребенок несет в себе большой энергетический заряд. Мы явно видим здесь мощное проявление врожденного стремления к индивидуации. Он сохранял позитивные взаимоотношения с людьми вокруг и любил, чтобы его носили на руках, пели и гладили его. Когда его мать возвратилась, он пережил достаточно тяжелый кризис воссоединения, безутешно плача в течение некоторого времени и не позволяя ей ни покормить себя, ни уложить спать. Однако на следующий день он, как прежде, был улыбчив и спокоен. Эта реакция на краткую сепарацию, которая в особенности характерна для воссоединения диады «мать—дитя» во второй половине первого года жизни, должна пониматься метапсихологически в терминах расщепления, которое все еще существует во внутренних частичных образах матери. Это расщепление легко активируется
такими короткими отсутствиями; мать на стадии сепарации должна быть реинтегрирована в качестве «полностью хорошей» симбиотической матери так, чтобы не повредить или не разрушить хороший объект. В то время как маленький мальчик продолжал практиковаться в своих новых умениях, качество интенсивной заряженности и частые падения стали быстро сходить на нет. С матерью в качестве якоря и центра его мира, фрустрирующая часть нового опыта и открытий стала сразу же опять управляемой, и доминировать начала та часть исследовательского опыта, что приносила удовольствие. Этот небольшой эпизод личных наблюдений хорошо согласуется с наблюдениями в нашем исследовании — а именно: что ранние исследования служат цели (1) ознакомления с более широким сегментом мира и (2) восприятия, опознания и получения удовольствия от матери на большей дистанции. Мы обнаружили, что именно те дети, у которых был самый лучший «дистантный контакт» с матерью, решались удалиться от нее на самое большое расстояние. В случаях, когда процесс сепарации вызывал слишком много конфликтов или присутствовало сильное нежелание оставлять близкие отношения, дети в этот период проявляли меньше удовольствия. Но когда речь идет о подобных процессах, простые правила едва ли применимы.
Например, маленький мальчик, чья мать могла воспринимать его только в качестве симбиотической части ее самой и активно препятствовала его попыткам отдаления, казалось, совсем терял контакт со ней, если находился от нее на расстоянии. Напротив, другой ребенок, девочка, чья мать получала большое удовольствие от их совместной близости, была способна поддерживать контакт с ней на некотором расстоянии; по сути, именно в этот период девочка смогла начать особенно хорошо использовать свою мать и заряжалась уверенностью от одного взгляда на нее или от звука ее голоса. В то же время, если матери не было в комнате, т. е. не было возможности дистанционно подзарядиться, у девочки весьма быстро происходило общее снижение настроения.
В период раннего практикования мы также наблюдали, что «готовый вот-вот опериться» склонен с удовольствием
отдаваться своим расширяющимся отношениям с <<отличнымот-матери» миром. Например, один ребенок в нашем проекте, которому было 11 месяцев, во время этой фазы должен был неделю провести в больнице. Казалось, что больше всего он был фрустрирован своим пребыванием в кроватке, и поэтому он радовался любому, кто вынимал его оттуда. Когда он вернулся из больницы, он уже не воспринимал мать как совершенно особенного человека и не проявлял ни реакции прилипчивости, не сепарационной тревоги; теперь его главной потребностью в Центре и дома стала ходьба с кем-нибудь, кто бы держал его за руку. Он по-прежнему предпочитал, чтобы это делала его мать с ним и для него, однако он с готовностью принимал всеех, кто мог ее заменить.
Марджи и Мэттью (всего неделя разницы в возрасте) гладко прошли и симбиотическую фазу, и субфазу дифференциации. Оба ребенка были способны «с доверием ожидать» от своих матерей облегчения их инстинктивных напряжений и эмоциональной доступности. Когда им было 10 месяцев, дети вступили в период практикования и с большим интересом начали упражнять свои развивающиеся моторные навыки и другие автономные функции Эго. Они с удовольствием и подолгу занимали сами себя, самостоятельно исследуя обстановку вокруг и демонстрируя то, что Хендрик (Hendrick, 1951) описал как «удовольствие от овладевания» (Funktionlust С. БухЛера). Время от времени они возвращались к своим матерям за эмоциональной подзарядкой. Обе матери принимали постепенный выход своих детей-тоддлеров из тесной взаимосвязи и поощряли их интерес к практикованию. Они были эмоционально доступными потребностям детей и обеспечивали их материнской подпиткой, необходимой для оптимального развития автономных функций Эго.
Мать Анны, напротив, была не способна обеспечить оптимальную доступность, так что уверенность ее ребенка в том, что ее ожидания будут удовлетворяться, подверглась серьезному испытанию. Созревание функций развивающегося Эго Анны произошло в срок, но казалось, что из-за необходимости постоянно бороться за внимание матери девочка недополучила либинальной энергии, чтобы адекватно катектировать здоровым (вторичным) нарциссизмом «отличный-от-матери» мир, свои автономные эго-функции и, возможно, также свое тело. Она не могла с удовольствием предаться исследованию и овладеванию расширяющейся вокруг нее реальностью. Во время первой субфазы и периода раннего практикования мы часто видели Анну сидящей у ног матери и не сводящей с нее умоляющего взгляда. Фаза дифференциации у Анны продлилась гораздо дольше, чем у ее сверстников Марджи и Мэттью, несмотря на то что ее эго-функции, по сути, созрели.
Период практикования у Анны характеризовался краткими пробными вылазками, во время которых она отрывалась от ног матери только на очень короткое время. Весь этот период — время, когда тоддлеры вкладывают так много либидинальной энергии в свое автономное функционирование и расширяющееся тестирование реальности, — у Анны был кратковременным и сокращенным и отличался недостаточностью полномасштабного эмоционального развития. При относительном отсутствии явных признаков основной чертой этой субфазы, как мы полагаем, является усиливающееся вкладывание энергии в тренировку автономных эго-функций, особенно двигательной, периодически вплоть до полного исчезновения интереса к матери. Именно это, а не развитие моторных навыков как таковых характеризует субфазу практикования.
Когда ребенок, благодаря созреванию своего двигательного аппарата, осмеливается удаляться от ног матери, он часто оказывается настолько поглощен своими занятиями, что может надолго как будто забывать о ее существовании. Тем не менее периодически он возвращается к ней, по-видимому нуждаясь в подтверждении ее физической доступности.
Оптимальной дистанцией на субфазе раннего практикования, видимо, является та, что предоставляет передвигающемуся на четвереньках ребенку свободу и возможность для самостоятельного исследования на некотором расстоянии от матери. Следует заметить, тем не менее, что на протяжении всей субфазы не исчезает потребность в матери как в стабильной точке отсчета, как в «домашней базе» для удовлетворения
потребности в подзарядке посредством физического контакта. Мы видели, как семи-десятимесячные дети поспешно ползли или ковыляли к матери, чтобы прижаться к ее ноге, как-либо еще прикоснуться к ней или просто прислониться. Именно этот феномен был определен Фюрером как «эмоциональная подзарядка»[19] . Часто можно видеть, как поникший и утомленный ребенок после такого контакта быстро «поднимает нос» и возвращается к своим исследованиям, снова погружаясь в удовольствие от своей деятельности.
Феномен подзарядки проходит разные этапы и у каждого ребенка имеет свою модальность. Выбор модальности, как мы полагаем, тесно связан с предпочтениями матери. Например, одной из матерей, которая активно поощряла независимое функционирование своего ребенка, особенно удавалось поддерживать с ним контакт, подзаряжая его на расстоянии. Когда ее дети подходили к ней, это были обычно краткие периоды физического контакта. Эта мать редко поднималась со своего удобного места, где она занималась починкой одежды и болтала с другими матерями, но казалось, она постоянно была настроена на потребности своих маленьких детей, даже на расстоянии.
У джея локомоторная активность развилась очень рано, поэтому способность матери к подзарядке была особенно важна для него. Мать джея полагала, что любые установленные для него границы могут повредить его развивающейся личности и независимости. Она с ужасом смотрела, как Джей попадал в опасные ситуации, но не поддерживала контакт с ним даже всего лишь вербально, так как не хотела мешать его «независимости». Несмотря на то, что мать с тревогой наблюдала за ним на расстоянии, Джей чувствовал себя покинутым и в самом деле был покинутым ею, даже в ее присутствии. Раз за разом он попадал в опасные ситуации, которые не мог оценить и с которыми не мог справиться; даже если он занимался чем-то вполне обыденным, он часто причинял себе боль. Только когда он падал и начал плакать, его мать чувствовала, что к нему можно подойти и помочь.
Марк был из тех детей, кто столкнулся с большими трудностями в установлении действенной дистанции между собой и матерью. Его мать начала относиться к нему амбивалентно, как только Марк прекратил быть ее симбиотическим ребенком. Временами казалось, она избегает тесного телесного контакта; в другие моменты она могла прервать автономную деятельность Марка для того, чтобы схватить его в охапку, прижать к себе и обнять. Она так делала, когда это требовалось ей, а не ему. Такой недостаток эмпатии со стороны матери, возможно, стал причиной того, что Марку было трудно функционировать на расстоянии от нее. Во время субфазы раннего практикования, которая следует за изначальной тягой во внешний мир и отталкиванием от матери, большинство детей, видимо, проходят короткий период усиления сепарационой тревоги.
Тот факт, что они становятся способны передвигаться независимо, отдаляться и в то же время оставаться связанными с матерью — не физически, а посредством дистантных модальностей зрения и слуха, — делает необыкновенно значимым успешное использование этих дистантных модальностей. дети не любят выпускать мать из вида; они могут подолгу и с грустью смотреть на ее пустой стул или на дверь, через которую она вышла.
СУБФАЗА ПРАКТИКОВАНИЯ КАК ТАКОВОГО
С переходом автономных функций (сознавания и особенно прямохождения) на новый уровень у ребенка начинается «роман с миром» (Greenacre, 1957). Тоддлер делает самый большой шаг на своем пути к индивидуации. Теперь он может свободно ходить, сохраняя вертикальное положение. Благодаря этому он оказывается на новой позиции, которая позволяет ему увидеть мир в иной перспективе, обнаружить новые радости и препятствия. Умение стоять прямо и ходить на двух ногах переводит ребенка на новый уровень зрительного восприятия.
В течение этих важных шести—восьми месяцев (в возрасте от 10—12 до 16—18 месяцев) мир для младшего тоддлера предстает как устрица. Либидинальный катексис по большей части перенаправляется на обслуживание быстро развивающегося автономного Эго и его функций, и ребенок кажется опьяненным своими возможностями и величием открывающегося ему мира. Это пик детского нарциссизма. Первые шаги ребенка в вертикальном положении знаменуют начало собственно периода практикования с существенным расширением мира и тестирования реальности. Все больше растут либидинальные вложения в применение моторных навыков и в исследование окружающего мира — как людей, так и предметов. Основной характеристикой данного периода являются огромные нарциссические вложения ребенка в свои функции, в свое тело, а также в предметы и цели в его расширяющейся «реальности». Вместе с тем мы видим относительно низкую чувствительность к ушибам, падениям и другим огорчениям, таким как отобранная игрушка. Знакомые взрослые, сменяющие друг друга в пределах обстановки нашей детской, воспринимаются им с легкостью (по сравнению с тем, что происходит на следующей субфазе сепарации-индивидуации).
для ребенка на стадии сепарации-индивидуации каждый новый шаг в сторону прогресса несет в себе хотя бы минимальную угрозу потери объекта. Тоддлер, развитие которого протекает гладко, находит нарциссическое утешение в своих быстро развивающихся эго-функциях. Ребенок сосредоточивается на упражнении и совершенствовании своих навыков и автономных (независимых от других или матери) способностей. Он сам себя развлекает, находясь в постоянном восторге от открытий, совершаемых им в расширяющемся окружающем мире. Он как будто влюблен в мир и в собственное всемогущество. Возможно, подобный подъем на этой субфазе связан не только с совершенствованием эго-аппарата, но также с прогрессирующим освобождением от слияния и поглощенности матерью. С этой точки зрения мы могли бы предположить, что подобно тому, как игры детей в ку-ку превращаются из пассивных в активные, в потерю и нахождение удовлетворяющего
нужды объекта, который затем становится объектом любви, так же и постоянные убегания тоддлера до тех пор, пока он не будет пойман матерью, превращают страх быть поглощенным матерью из пассивного в активный. Такое поведение также убеждает его, что мать захочет поймать его и заключить в свои объятия. Едва ли можно предполагать, что подобное поведение служит этой цели изначально, но вполне возможно, что оно производит такой эффект и затем намеренно повторяется.
Важность свободного вертикального передвижения: ходьба
Важность ходьбы для эмоционального развития ребенка трудно переоценить. Прямохождение позволяет тоддлеру совершить большой прорыв в открытии мира и тестировании реальности при осуществлении собственного контроля и магического овладения им. Как говорит Гринакр, оно <<также ассоциируется с подъемом общей энергетизации тела и чувственной реактивности, которые сопровождают развитие способности к прямохождению» (Greenacre, 1968, р. 51).
Здесь нужно кратко отметить открытие мальчиком своего пениса, мы обсудим это более детально в контексте гендерной идентичности (см. гл. 6 <<Начало формирования гендерной идентичности»). Наличие пениса обнаруживается обычно несколькими неделями ранее, чем начинается ходьба: это обладающий тонкой чувствительностью, приносящий удовольствие орган, движения которого, однако, не контролируются Эго. Научившись принимать вертикальное положение, мальчик может рассматривать пенис «с большего количества позиций, чем прежде, и возрастающий интерес к мочеиспусканию дополнительно стимулирует его и придает ему значимость как части тела» (Greenacre, 1968, р. 51).
Мы обнаружили, что мальчики и девочки похожи в том, что в следующий же месяц после обретения способности свободно ходить делают большие успехи в утверждении своей индивидуальности. Это кажется первым большим шагом к формированию идентичности.
Отказ матери от обладания телом маленького мальчика или девочки, без особой разницы, в этот период происходит как бы автоматически, даже несмотря на подчас выражаемые вслух сожаления. Мать Барни говорит: «Когда он убегает от меня в парке и я должна тащить это тяжелое тельце домой, я говорю себе: „Лучше наслаждайся этим — это долго не продлится, и скоро тебе уже не придется носить его на ручках”>>.
Именно Э. Дж. Энтони (Anthony, 1971) заметил, как точно и красиво Кьеркегор описывает потребность ребенка в эмоциональной поддержке матери в ту пору, когда он начинает свободно ходить. Он цитирует следующие отрывки, чтобы проиллюстрировать, насколько <<влияние матери с психологическими нарушениями на индивидуацию ее ребенка не похоже на то, что делает „достаточно хорошая мать”>> (Апthony, 1971, р. 262):
Любящая мать обучает своего ребенка ходить самостоятельно. Она достаточно далеко от него, так что не может его поддерживать непосредственно, но она протягивает руки в его сторону. Она подражает его движениям, и если он пошатнется, то она быстро наклоняется к нему, как будто готовая обхватить его руками, чтобы ребенок чувствовал, что он шагает не один... И в то же время она делает больше. Лицом она как бы поощряет, вдохновляет его. Таким образом, ребенок идет самостоятельно, не сводя глаз с материнского лица, а не с препятствий на своем пути. Он находит себе поддержку в ее руках, которые не держат его, и постоянно стремится к убежищу в ее объятьях, едва ли подозревая, что в тот самый момент, когда он так явно нуждается в ней, он Доказывает, что он может и без нее, поскольку он шагает один (kierkegaard, 1846, р. 85).
Но с другой матерью все может быть совсем по-другому:
Тут нет ни выражения поощрения, ни благословения в конце прогулки. Есть то же желание научить ребенка ходить самостоятельно, но не так, как это сделала бы любящая мать. Теперь существует страх, который обволакивает
ребенка. Он тянет его гирей вниз так, что ребенок не может и двинуться. Есть то же желание привести его к цели, но эта цель неожиданно становится пугающей (kierkegaard, 1846, р. 85).
Энтони продолжает своими собственными словами:
Множественные страхи, амбивалентность, бессознательная враждебность, потребность заключить ребенка в капсулу, чтобы препятствовать в совершении самостоятельных шагов. В своем вдумчивом описании Кьеркегор отмечает те моменты развития, когда тоддлер чувствует побуждение к сепарации от матери и в то же время утверждает собственную индивидуацию. Это смешанное переживание имеет огромную важность для развития: ребенок демонстрирует, что он может и не может без матери, а его мать показывает, что она может и не может отпустить его ходить самостоятельно (Anthony, 1971, р. 263).
Говоря о ситуациях folie а deux[20] , Энтони утверждает: «Психотическая мать настолько наполняет такие ситуации опасениями, что ребенку не просто некуда идти — он вообще боится пошевелиться».
довольно поздно в нашем исследовании мы пришли к пониманию того, что первые шаги без посторонней помощи ребенок чаще всего делает по направлению от матери или во время ее отсутствия; это противоречит популярному убеждению (встречающемуся у Кьеркегора и у других поэтов), что первые шаги делаются к матери. Значение этого феномена требует дальнейшего изучения.
Многие матери реагировали на попытки детей удалиться от них тем, что помогали им удаляться, более или менее мягко их к этому подталкивая, как птичка-мать подталкивает только что оперившихся птенцов. В этот период матери обычно становились очень заинтересованы в том, как продвигается вперед их ребенок, а иногда также критически настроены по отношению к нему. Они начинали сравнивать записи и выказывали
озабоченность, если их дети от кого-то отставали. Иногда их озабоченность была скрытой. для многих матерей особенное беспокойство было связано со стремлением их детей ходить. Как только ребенок обретал способность удалиться на какое-то расстояние, бывало, что мать как будто неожиданно начинала беспокоиться, сможет ли он справиться со всем, что ждет его в мире, где ему придется уметь за себя постоять. Свободное прямохождение, видимо, становилось для многих матерей высшим подтверждением того факта, что ребенок
<<сделал![]()
В период практического освоения локомоции мы были поражены тем, насколько сильное стимулирующее влияние вертикальная поза оказывала на общее настроение ребенка, который до этого момента в основном передвигался на четвереньках. Мы осознали ее важность для появления «чувства психологического рождения», «вылупления», основываясь на регулярных и неожиданных для нас наблюдениях поведенческих последовательностей и сравнивая их с описаниями, приведенными в работе Филлис Гринакр (Greenacre, 1957), посвященной детским годам одного художника. Нам показалось, что у наиболее активных тоддлеров тоже был «роман с миром»!
В тех случаях, когда доминирующее влияние способности к свободной локомоции на ребенка запаздывало во времени, обязательный энергетический подъем происходил позднее, чем обычно. Таким образом, данный феномен кажется явно связанным и зависящим от двигательной функции в отношении к этапу развития других автономных функций Эго.
Кратко говоря, ходьба имеет огромное символическое значение как для матери, так и для ребенка: ребенок, научившийся свободно ходить, как будто доказывает этим свою принадлежность к миру независимых человеческих существ. Ожидания и доверие, которые мать источает, когда чувствует, что ребенок уже готов «сделать это», кажутся важным триггером для ощущения ребенком собственной безопасности и, возможно, также изначально побуждают его к тому, чтобы поменять некоторую часть своего магического всемогущества
на удовольствие от своей собственной автономности и развивающегося самоуважения.
Сниженная тональность настроения
Большинство детей на субфазе практикования как такового в течение существенных периодов времени демонстрировали энергетический подъем или хотя бы относительное оживление. Они были невосприимчивы к ударам и падениям и демонстрировали то, что мы определяем как сниженную тональность настроения, только когда осознавали, что их мать вышла из комнаты. В такие моменты их жесты и движения замедлялись, интерес к окружающему снижался, и они направляли свое внимание вовнутрь, занимаясь тем, что Рубинфайн (Rubinfine, 1961) назвал «созданием образов».
Наши предположения о состоянии сниженной тональности основаны на двух повторяющихся в таких случаях феноменах: (1) если кто-то, кроме матери, старался активно утешить ребенка, тот терял эмоциональное равновесие и начинал плакать; и (2) состояние ребенка «в сниженной тональности» имело зримое окончание в момент воссоединения с кратковременно отсутствовавшей матерью, хотя иногда этому предшествовал краткий приступ плача для высвобождения накопившегося напряжения. Оба этих феномена подкрепили наши предположения о том, что вплоть до этого момента ребенок находился в особенном «состоянии самости»: подобная сниженная тональность настроения и предполагаемое «создание образов» матери напоминает анаклитическую депрессию в миниатюре [21] . Мы склонны рассматривать усилия ребенка по сохранению состояния сознания, которое Джоффе и Сандлер (Joffe, Sandler, 1965) определили как <<идеальное
состояние себя», как родственные тому, что Кауфман и Розенблум (kaufmann, Rosenblum, 1968) назвали «сохраняющим уходом» у обезьян.
Некоторые дети переживали кратковременные приступы страха потери объекта, так что «фильтруемый Эго аффект желания» мог неожиданно превратиться в отчаянные рыдания. Такое бывало в случае с Барни в тот краткий период, когда его «индивидуация» не поспевала за развитием двигательной функции, способствовавшим сепарации. В течение некоторого времени он был не способен эмоционально справиться с переживанием пространственной отделенности от матери, даже когда он сам от нее отдалялся. Он бывал явно ошеломлен, когда падал или ударялся, а мать не обнаруживалась рядом.
Наши обширные наблюдения снова и снова указывали на комбинацию факторов, которая свидетельствовала о зарождающемся осознании того, что детям не хватало симбиотической, материнской части самости. Поведение в сниженной тональности имело различные оттенки у разных детей в сравнении их друг с другом и с самими собой в более раннее время.
Мы обнаружили, что недостаток сильного стремления к ощущению благополучия и единства или близости к матери была особенно характерна для детей, чьи симбиотические отношения были чересчур затянуты или нарушены: например, у ребенка, который находился в чрезмерно близком, паразитарном симбиозе с матерью, и у маленькой девочки, чьи детско-материнские отношения были, по выражению Роберта Флисса (Fliess, 1961), асимбиотическими. Мы обнаружили, что такое желание было сниженным и непостоянным у детей, чьи симбиотические отношения были нарушены непредсказуемостью и импульсивностью со стороны частично подавляющей и частично отвергающей матери.
ГЛАВА 6
ТРЕТЬЯ СУБФАЗА:
ВОССОЕДИНЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С обретением способности свободно ходить и с началом развития того, что Пиаже (Piaget, 1936) называет репрезентативным интеллектом (кульминация которого проявится в символической игре и речи), ребенок становится отдельным и автономным индивидом. Два этих мощных <<организатора» (Spitz, 1965) играют роль <<повитух» в психологическом рождении. На финальном этапе процесса «вылупления» тоддлер достигает первого уровня идентичности — становится отдельной индивидуальной целостностью (Mahler, 1958b).
К середине второго года жизни младенец может называться тоддлером. Теперь он все больше и больше осознает и все интенсивнее использует свою физическую независимосты При этом одновременно с ростом его когнитивных способностей и все большей дифференцированностью его эмоциональной жизни происходит также значительное повышение чувствительности к фрустрации и усиление внимания к присутствию матери. У ребенка в этом возрасте можно наблюдать повышенную сепарационную тревогу. Она по большей части состоит из страха потери объекта, о чем можно судить по многим поведенческим проявлениям ребенка. Относительно безразличное отношение к присутствию матери, характерное для субфазы практикования, теперь сменяется постоянной озабоченностью по поводу ее местонахождения и активными обращениями к ней. По мере того как возрастает осознание тоддлером своей отдельности, у него появляется сильное желание разделить с матерью каждое свое новое переживание и приобретение, а также огромная потребность в любви объекта.
Как мы описывали в предыдущей главе, на протяжении периода практикования потребность в близких отношениях была временно снижена. По этой причине мы дали этой новой субфазе название «воссоединение» (рапрошман).
Невозможно преувеличить значение оптимальной эмоциональной доступности матери на протяжении этой субфазы. «Именно материнская любовь к тоддлеру и принятие его амбивалентности дает ему возможность катектировать свою Я-репрезентацию нейтрализованной энергией» (Mahler, 1968b). Специфическое дополнительное значение отца на протяжении этого периода также подчеркивалось Левальдом (Loewald, 1951), Гринакр (Greenacre, 1966) и Абелин (Abelin, 1971).
Тип «подзарядки» при помощи телесного контакта, характерный для ребенка на этапе практикования, в период от 15 месяцев до года и позже замещается намеренным поиском или избеганием интимного телесного контакта. Теперь подзарядка состоит из взаимодействия тоддлера и матери, происходящем на гораздо более высоком уровне: символического языка, озвучивания и других видов общения. Возрастает роль игры (Galenson, 1971).
На субфазе воссоединения мы наблюдали реакции на сепарацию у всех наших детей. Мы выдвинули гипотезу, согласно которой у тех детей, чьи сепарационные реакции характеризовались умеренными и эго-фильтрованными аффектами с преобладанием любви, а не агрессии, последующее развитие чаще всего протекало благоприятно.
два характерных паттерна поведения тоддлера — «следовать тенью»[22] за матерью или убегать от нее, ожидая погони
и подхватывания на руки, — указывают на желание воссоединения с объектом любви и страх поглощения им. У тоддлера можно часто наблюдать феномен «отгораживания», направленный на предотвращение покушения на его недавно обретенную автономию. С другой стороны, начинающийся страх потери любви представляет собой элемент конфликта на пути к интернализации. Некоторые тоддлеры в возрасте воссоединения уже кажутся довольно-таки восприимчивыми к неодобрению; в то же время автономия защищается с помощью слова «нет», усиливающейся агрессии и негативизма анальной фазы (здесь можно вспомнить классический труд Анны Фрейд по негативизму и эмоциональному подчинению — Freud А., 1951а).
Другими словами, к двум годам тоддлер достигает самой важной поворотной точки в эмоциональном развитии. Теперь он начинает ощущать более или менее постепенно и более или менее остро те препятствия, которые лежат на пути к «завоеванию мира», предвкушаемого им на пике переживания всемогущества периода практикования. Вместе с приобретением примитивных умений и перцептивных когнитивных возможностей появляется все более ясная дифференциация, сепарация внутрипсихических репрезентаций объекта от Я-репрезентаций. На самом пике овладения навыками, ближе к концу периода практикования младший тоддлер уже начинает подозревать, что мир вовсе не является его раковиной, что с этим миром он должен справляться более или менее «своими силами», зачастую действуя как беспомощный, маленький и отдельный индивид, и что облегчение или помощь не приходят автоматически после того, как он почувствовал потребность в них и ее озвучил (Mahler, 1966).
То, как и сколько внимания ребенок требует от матери на этой субфазе, дает важный ключ к пониманию нормальности процесса индивидуации. Страх потери любви объекта (вместо страха потери объекта) становится все более очевидным.
Несовместимость и непонимание между матерью и ребенком можно наблюдать даже в случае нормальной матери и нормального тоддлера; эти проблемы в значительной степени коренятся в противоречиях, свойственных данной субфазе. Мать не понимает, почему ребенок постоянно требует от нее участия и вовлеченности. Притом что он уже не такой зависимый и беспомощный, каким был всего полгода назад, и явно стремится к все большей независимости, он тем не менее настойчиво демонстрирует, что ожидает от матери участия в каждом аспекте его жизни. На этой субфазе многие матери не могут принять требовательность своего ребенка; другие же, наоборот, не способны справиться с его постепенным отделением, с растущей независимостью, с тем, что его уже нельзя считать частью себя самой (ср.: Masterson, 1973; Stoller, 1973).
На третьей субфазе, т. е. на стадии воссоединения, индивидуация стремительно прогрессирует, и ребенок упражняется в ней при каждой возможности. В то же время он все больше и больше осознает свою отделенность от матери и использует всевозможные механизмы с целью противостоять этому чувству. Однако, сколько бы ребенок ни наседал на мать, факт остается фактом: ни он, ни она больше не способны эффективно функционировать как единое целое, а ребенок не может дольше поддерживать свою иллюзию родительского всемогущества, которое, как он временами ожидает, могло бы восстановить симбиотические отношения.
Вербальная коммуникация становится все более и более необходимой; общения при помощи жестов со стороны ребенка или взаимной довербальной эмпатии между ним и матерью уже не хватает для удовлетворения, т. е. ощущения благополучия в смысле джоффе и Сандлера (Joffe, Sandler, 1965). Младший тоддлер постепенно осознает, что объекты его любви (его родители) являются независимыми индивидуумами со своими личными интересами. Он должен постепенно и не без страданий отказаться от иллюзии своего величия, часто посредством яростных сражений с матерью и в меньшей степени, как нам кажется, с отцом. Данный поворотный момент мы определяем как «кризис воссоединения>>.
Отношение матери к тоДДлеру в период воссоединения
В зависимости от своей способности приспособиться к ситуации матери могут реагировать на требования ребенка либо продолжительной эмоциональной доступностью и радостным участием, либо гаммой менее желательных установок. Как бы то ни было, именно продолжительная эмоциональная доступность матери, как мы обнаружили, является базой для достижения автономным Эго ребенка оптимального развития, в то время как его опора на магическое всемогущество идет на убыль. Если мать «спокойно доступна» и готова снабжать ребенка объектным либидо, если она разделяет дух приключений тоддлера, отвечает ему взаимностью в игровой форме и таким образом способствует его попыткам подражания и идентификации, то интернализация отношений между матерью и ребенком может прогрессировать до того уровня, когда со временем вербальная коммуникация возьмет верх даже при том, что активное жестовое поведение (аффектомоторика) по-прежнему преобладает в их общении (Homburger, 1923; Mahler, 1944, 1949а). Предсказуемая эмоциональная вовлеченность со стороны матери как будто способствует развитию у тоддлера процессов мышления, тестирования реальности и адаптивного поведения к концу второго года жизни и к началу третьего года. С другой стороны, как мы выяснили на более поздних этапах нашего исследования, эмоциональное развитие женщины в ее материнской роли, ее стремление отпустить тоддлера — мягко подтолкнуть его, как делает птичка-мать, и вдохновить к достижению независимости — играет огромную вспомогательную роль. Это, возможно, даже является sine qua поп[23] нормальной (здоровой) индивидуации.
Сигналы опасности на субфазе воссоединения: Усиление сепарационной тревоги
На этой субфазе для тоддлера характерно так называемое «следование тенью» за матерью, противоположное феномену
«побегов», часто встречающемуся в начале данной субфазы. Это поведение кажется в значительной степени необходимым ребенку. (Некоторые матери, по причине своего затянувшегося детства и навязчивости, укорененной в их собственных тревогах и часто в их симбиотически-паразитарных потребностях, сами становятся <<тенями» своих детей.) В нормальных случаях следование тенью со стороны тоддлеров открывает путь для установления определенной объектной константности ко второй половине третьего года. Как бы то ни было, чем менее эмоционально доступна мать во время воссоединения, тем более настойчиво и отчаянно тоддлер пытается добиться ее внимания. В некоторых случаях на эти старания расходуется так много энергии, что в результате ее начинает не хватать для эволюции множества развивающихся функций Эго.
Нижеописанная виньетка иллюстрирует не только поведенческий паттерн, свойственный этой субфазе, но и поведенческие проявления, которые мы стали расценивать как опасные сигналы в период воссоединения.
Потребности периода воссоединения у Барни проявились раньше, чем обычно, и в весьма резкой форме. Истоки этого можно было обнаружить в его преждевременном локомоторном развитии во время предыдущей субфазы. Он был вполне обычным маленьким мальчиком, с типичным, но очень ранним «романом с миром». В ходе практикования, между 9 и 11 месяцами, он частенько падал и мог ушибиться, но был к этому практически нечувствителен. Постепенно, к концу 11-го и на 12-м месяце жизни, он был явно сбит с толку, когда обнаружил, что его мать не оказывается каждый раз рядом, чтобы спасти его в опасных ситуациях. Начиная примерно с 11 месяцев он стал плакать при каждом падении. По мере того, как он начал осознавать свою отделенность от матери, стало исчезать его спокойное принятие ушибов и падений.
С наступлением субфазы воссоединения его поведение стало прямой противоположностью паттерну «следования тенью». Он дразнил мать, быстро убегая от нее, и явно не сомневался, что она побежит за ним и схватит на руки, тем самым временно аннулируя их физическую разделенность. Мать реагировала на такое опасное поведение и на его побеги все более бурно и в какой-то момент совсем отчаялась справиться с «безрассудством» Барни. Она начала колебаться между тем, чтобы ввести для него какие-то ограничения или, по причине усталости, отказаться от своего обычного бдительного отношения к его потребностям и настроенности на сигналы ребенка. Она либо неслась к нему по любому поводу вне зависимости от того, настолько обоснованными были его потребности, либо держалась от него подальше, когда потребность в ней действительно была. Другими словами, ее непосредственная доступность стала временно непредсказуемой. Нарушения в их отношениях в этот период были, тем не менее, не тотальными; они не привели ни к возникновению у Барни враждебности или расщепленности объектного мира, ни к возрастанию амбивалентности. На субфазе воссоединения для Барни существовало много позитивных моментов. Часто он приносил все, что сумел собрать, своей матери, складывая это ей на колени; он спокойно стоял рядом и вместе с ней собирал разрезные пазлы или рассматривал картинки в книжке. Отношения между Барни и его матерью сделались более удовлетворительными с наступлением четвертой субфазы (консолидации индивидуации и объектной константности), когда он стал более терпеливым, адекватным и в нормальных пределах более спокойным ребенком. Мы сочли столь сильно выраженный у Барни паттерн «побега» на субфазе воссоединения результатом преждевременного созревания у ребенка локомоторной функции на субфазе практикования. Он столкнулся с фактом физической отделенности от матери в то время, как его эмоциональные и интеллектуальные функции еще не могли обеспечить ему поддержку, чтобы с этим справиться. Сепарация значительно опередила индивидуацию. В результате он не мог правильно оценить потенциальные опасности своих «побегов» (см.: Frankl, 1963). Комбинация всех этих факторов впоследствии привела к консолидации этой склонности попадать в происшествия в устойчивую личностную черту. Истоки этой черты, как можно видеть, лежат в дисбалансе развития в течение второй и третьей субфазы. (Субфазы практикования и воссоединения в случае Барни были тесно переплетены.) Еще одним важным дополнительным фактором, внесшим свой вклад в «побеги» Барни, являлась очень ранняя идентификация с отцом, которого в семье боготворили, и отзеркаливание его поведения. Детям разрешалось смотреть, восхищаться и временами участвовать в весьма рискованных атлетических подвигах их отца.
Иные проявления субфазы воссоединения наблюдались у детей, чьи матери были не способны адаптироваться к возрастающему отдалению и/или повышенной требовательности развивающегося ребенка. Материнская недоступность сделала период практикования и исследований для таких детей весьма кратким и скомканным. для них, не уверенных в доступности своей матери и поэтому всегда этим озабоченных, было трудно инвестировать либидо в окружающий мир и свои развивающиеся способности. Немного позанимавшись практикованием, они возвращались к своей матери, пытаясь всеми способами привлечь ее к участию. От таких довольно прямых выражений потребности в матери, как принесение книжки, чтобы им почитали, или удары по книжкам или шитью, которыми были заняты их матери, они переходили к более отчаянным средствам — например, падали или начинали в гневе разбрасывать печенья по полу и наступать на них, не спуская глаз с матери, ожидая ее внимания, если не непосредственного участия.
Хорошая природная одаренность одной такой девочки способствовала быстрому развитию у нее речи; обычный период детского лепета был почти полностью опущен. Это ранее приобретение навыка вербальной коммуникации, возможно, случилось, потому что ее мать предпочитала общаться с ней именно словами. Эта мать обращалась или даже «консультировалась» с дочерью так, будто ребенок был равным ей по возрасту.
У этой девочки наблюдалось то, что мы расцениваем как опасные сигналы третьей субфазы. Она была постоянно озабочена местонахождением матери и стремилась «следовать
тенью» за ней, когда та перемещалась по комнате или выходила из нее. Она проявляла сильную сепарационную тревогу, и ее непросто было успокоить, если мать уходила. В их отношениях на этой ранней стадии проявились многочисленные предшественники серьезных конфликтов развития, способствующих росту выраженной амбивалентности и расщеплению «хороших» и «плохих» объектов и, возможно, также Я-репрезентаций. Коротко говоря, у этой маленькой девочки наблюдались характерные нарушения, т. е. кризис воссоединения в ярко выраженном виде.
Будет полезным перечислить некоторые детали истории развития этого ребенка в ходе рокового <<периода вторых восемнадцати месяцев ее жизни».
Мы уже отмечали, что игра у этой маленькой девочки имела черты раннего реактивного образования. Мать рассказала, что ее дочь выказала отвращение, когда она дала ей глину, принадлежащую старшему брату, чтобы та с ней поиграла; это было в возрасте 18 или 19 месяцев. Приучение ребенка к туалету началось примерно в 20 месяцев и проходило без заметного напряжения. Она уже говорила слова «пи-пи» в этом возрасте, и изначально ее мать хорошо улавливала сигналы от дочери, связанные с туалетом. Она хвалила ее после мочеиспускания и дефекации. Начиная с 20-го месяца она часто повторяла «бай-бай, ви-ви» («пока-пока, пис-пис»), когда тянула за цепочку, чтобы спустить воду в туалете. Вскоре, однако, многие наблюдатели заметили, что она начала проситься в туалет каждый раз, когда хотела внимания от матери или когда хотела помешать матери уйти из комнаты на интервью — в любом случае, гораздо чаще, чем того требовали ее реальные потребности.
Эта маленькая девочка была приучена к горшку с 22 месяцев и в этом возрасте могла в течение нескольких дней ходить, не обмочившись. В начале приучения к туалету (а в особенности к горшку) мы видели, что она стремилась и могла привлечь мать к участию, так что и мать, и дочь находили процедуру совершения туалета позитивно заряженной почвой для общения. Но буквально за два месяца туалет стал для них конфликтной областью взаимодействия. В возрасте 23 месяцев девочка мочилась в любом месте комнаты и использовала это как оружие. Ее мать была в то время беременна и по этой причине стала совершенно поглощена собой. Она все менее и менее позитивно реагировала на требования дочери сопроводить ее наверх в туалет. Как она сообщила нам, вскоре она попросила своего четырехлетнего сына водить сестру в туалет вместо нее. Мальчик, как мы позднее узнали, не упустил возможности продемонстрировать сестре свое мужское достоинство, пенис. Это послужило толчком к развитию у нее зависти к пенису и неповиновения матери.
В результате на почве посещения туалета между матерью и дочерью начались настоящие битвы. Примерно в возрасте двух лет девочка начала использовать контроль за сфинктером, чтобы досадить матери; следом за преднамеренным удерживанием фекалий у нее развились жесточайшие запоры.
Мы не видели эту маленькую девочку где-то месяца три (с 25-го по 28-й месяц ее жизни), за это время у нее родилась сестра.
Она вернулась, когда ей было 29 месяцев, не отходя ни на шаг от матери, которая несла новорожденную. Мать выглядела измотанной и уставшей. Она пожаловалась, что старшая дочь сводит ее с ума, Ребенок на самом деле был очень трудным. Девочка постоянно хныкала и требовала внимания, и к тому же за последние два или три дня она ни разу не сходила на горшок. По словам матери, ей было постоянно больно и в целом дискомфортно. Педиатр, как сказала она, заверил ее, что это нормальные явления после рождения нового ребенка и что она должна воспринимать это спокойно и не обращать внимание на поведение, связанное с туалетом. «Но я попросту не могу не обращать на это внимания», — сказала она безнадежно.
Мы наблюдали, как эта девочка играла с водой в комнате тоддлеров. То, как она это делала, не походило на игры, приносящие удовольствие детям ее возраста, и нам показалось, что ее занятие имело компульсивный характер. Она начала оттирать кастрюльку, к которой пристала мука, и тщательно
старалась отскрести ее дочиста, очень раздражаясь, если ей это не удавалось. Она посмотрела на наблюдателя и сказала: «Кастрюлька не чистая». Все это происходило в то время, когда ей было наиболее дискомфортно. Переполненный кишечник причинял ей такие мучения, что на ее лбу выступал пот, она то краснела, то бледнела. Дважды она бегала в туалет, садилась на унитаз и мочилась, а потом демонстрировала повышенную озабоченность тем, чтобы спустить за собой воду. После этого она возвращалась в комнату тоддлеров и апатично играла с пластилином, но ощущение дискомфорта не покидало ее. Она продолжала покачиваться и подпрыгивать, и краска периодически сходила с ее лица. В конце концов она вскочила и побежала в туалет, села на него и сказала наблюдателю: «Принеси мне книгу». Сидя и тужась, она взглянула на наблюдателя с выражением боли на лице и сказала: «Не впускайте сюда мамочку». Наблюдатель поддерживал с ней разговор в течение некоторого времени, и она сказала: «Мамочка делает мне больно». Затем она посмотрела на книжку, на картинку с котятами и жеребятами. Наблюдатель стал показывать ей картинки детенышей животных с фермы, а девочка демонстрировала все больший дискомфорт. Она посмотрела на свои штанишки, на которых были пятна, и попросила чистые. В конце концов, когда дискомфорт стал невыносимым и она больше не могла удерживать фекалии, она закричала: «Приведите мне мою мамочку, приведите мою мамочку!» Ее мать быстро пришла, села около нее, и дочь попросила ей почитать 2 .
Включенный наблюдатель смотрел на них обеих и заметил, что мать читала ту же самую книгу про животных
![]()
1 Здесь мы видим у ребенка крайнюю спутанность между внешне причиняемой болью и болью, которая является производной соматического источника (внутри тела). для ее 29-месячной головки боль кажется приходящей от «плохого» интроекта; внутренние болезненные ощущения затем экстернализируются и приписываются «плохой» матери.
2 Как только боль становится невыносимой, симбиотическая мать является единственным человеком, к которому взывают о помощи, чтобы облегчить болезненное отправление стула.
на ферме, которую читал ребенку первый наблюдатель. Указывая на животных, девочка произнесла: «У моего Мака есть в животике поросеночек». Мать выглядела озадаченной и спросила: Она повторила. Мать пришла в смятение, испугавшись, что у ребенка начался бред. Она потрогала у дочери лоб, проверяя, нет ли у нее жара, но та улыбнулась, указала вновь на книжку и сказала: <<Нет, это жеребеночек». В этот момент с блаженным выражением на лице она произвела дефекацию. После опорожнения кишечника она встала с сиденья туалета; она явно испытывала облегчение и начала играть в «ку-ку>>, раскачивая дверь и попросив наблюдателя постоять за ней.
В этом эпизоде последовательность поведенческих и вербальных проявлений позволила нам сделать выводы и реконструировать как таковые предвестники развития у этой маленькой девочки инфантильного невроза in statu nascendi[24] . В условиях недостаточной эмоциональной подпитки от матери ни либидинальные вложения в Я-репрезентацию, ни высокий уровень автономии не могли постепенно заменить обязательное раннее инфантильное симбиотическое всемогущество. У ребенка не развивалась постепенная и все усиливающаяся идентификация с образом «хорошей» матери; девочка не могла осуществлять успокаивающую, заботящуюся материнскую функцию для самой себя при помощи ассимиляции (интернализации). Несмотря на свои выдающиеся природные способности, она не смогла защититься от приступов сепарационной тревоги и от распада уверенности в себе. В ее вербальном материале можно было безошибочно распознать гнев на мать за то, что та не дала ей пенис. Девочка жаждала тех даров, что мать получала от отца. В разочаровании ребенок обратился к отцу, а когда мать забеременела, в сознании девочки явно произошло отождествление ребенка, фекалий и пениса. Она демонстрировала большую спутанность по поводу содержимого тела; ее фантазии по поводу беременности были достаточно очевидны, но ей было неясно, у кого что было в его или ее животике. Похоже, она ожидала ребенка из живота отца так же, как и из материнского.
Отношения матери и дочери были таковы, что ребенку приходилось защищать хорошую мать от своей собственной деструктивной ярости. Она делала это посредством расщепления объектного мира на «хорошее» и «плохое», стремясь удержать хорошее и плохое отдельно. Хорошее всегда представляло собой отсутствующий частичный объект и никогда — объект присутствующий. Чтобы прояснить это, позвольте нам описать другую ситуацию, случившуюся на третьем году жизни этого ребенка. Когда бы мать ни уходила, у девочки случались припадки гнева, а потом она начинала липнуть к своей любимой и давно знакомой воспитательнице. Однако, обнимая ее за шею, девочка в то же время обзывала ее. Когда они вместе читали книГУ, ребенок находил недостатки на каждой картинке и в каждой фразе, произнесенной воспитательницей; все, что бы та ни говорила, было не так, и она была «плохая, плохая, плохая».
Малер, последив за их взаимодействием из кабины наблюдений, тихо зашла в игровую комнату и села в углу, вдалеке от маленькой девочки и ее любимой и ненавидимой воспитательницы. Девочка немедленно уставилась на «вторгшуюся» и сердито приказала ей выйти вон. Наблюдатель мягким голосом сказала ей, что понимает: та хотела, чтобы в эту дверь вошла мама, а не кто-то другой, и поэтому разозлилась. Кроме того, девочка сердилась, что читает ей не мама, а наблюдатель. «Мама обязательно скоро вернется», добавила Малер. После этой квазиинтерпретации у ребенка открылись какие-то либидинальные каналы; девочка положила голову на плечо наблюдателю и тихо заплакала. Вскоре вернулась мать. Примечательно было то, что даже проблеска радости или счастья не мелькнуло на лице дочери при этом воссоединении. Ее первыми словами были: «Что ты принесла мне?» — и хныканье и выражения недовольства начались заново.
Этой девочке довольно долго не удавалось достичь единой объектной репрезентации или примирить хорошие и плохие характеристики объекта любви. В то же время страдала интеграция ее собственной Я-репрезентации и ее самоуважение.
То, что мы наблюдали в случае Барни, было, напротив, лишь кратковременным отклонением в развитии в виде кризиса воссоединения. В случае, описанном в отрывке выше, мы наблюдали формирование симптома: запоры, которые случались постоянно вплоть до шестилетнего возраста, развились у нее на основе неудовлетворительных отношений мать—дитя, но были активированы и до некоторой степени обусловлены стрессом и, вероятно, также шоковой травматизацией.
даже за пределами четвертой субфазы отношение этой маленькой девочки к своей матери оставалось полным амбивалентности. Однако ее социальное развитие протекало нормально, а школьные успехи были выше всяких похвал. В нашем дальнейшем исследовании будет описана история ее деткого невроза[25] .
Отношения Мэттью с его матерью на протяжении всей субфазы практикования можно было охарактеризовать как весьма гармоничные. Мать активно поощряла в детях независимость и автономию и в то же время была либидинально полностью им доступна. В ее взаимодействии с Мэттью чувствовалось глубокое интуитивное понимание его потребностей. Это позволило Мэттью без проблем подойти к началу фазы воссоединения. Несмотря на беременность матери и появление нового сиблинга, когда Мэттью было 19 месяцев, — в этом возрасте потребность в матери значительно возрастает — Мэттью, казалось, оставался вполне самодостаточным. Он был способен использовать других взрослых в качестве заменителей матери и, казалось, достиг некоторой идентификации с ней, что проявлялось в виде интереса к другим младенцам и своему маленькому брату — интереса, в котором агрессивный элемент, на первый взгляд, казалось, удивительно контролировался. Мы видели, что Мэттью также хорошо ладил со своим отцом. Он казался способным поддерживать продолжительный интерес к окружающему миру, даже на субфазе воссоединения, в то же время принимая все, что его мать готова была с ним разделить. Только к концу этой субфазы, когда мы ожидали, что воссоединение, как обычно, откроет дорогу либидинальной константности объекта, мы увидели, что такое раннее и быстрое становление независимости оказалось Мэттью не под силу.
В начале субфазы воссоединения Мэттью срочно прооперировали грыжу (это случилось во время летних каникул). Мать Мэттью сказала нам, что ей пришлось оставить сына в больнице, где он был очень несчастен. Тем не менее, сказала она, он быстро поправился, как только вернулся домой. Когда он пришел к нам обратно в возрасте 18 месяцев, он не проявлял никаких признаков чрезмерного стресса, хотя мы заметили, что он усвоил паттерн забираться в потенциально опасные места. Взаимодействие между Мэттью и его матерью по-прежнему приносило удовольствие им обоим, даже несмотря на то, что теперь мать должна была оставлять Мэттью в Центре одного, поскольку его старший брат пошел в детский сад, и от нее требовалось вместе с другими матерями по очереди помогать воспитателю.
Мэттью между тем начал проявлять некоторые признаки напряжения. Во время отсутствия матери ему нужно было находиться у наблюдателя на коленях. Он стал быстрее уставать и к концу утра иногда регрессировал до ползанья взамен ходьбы. Только через несколько месяцев после того, как родился его маленький брат, у Мэттью появились заметные признаки нарушений, проявлявшиеся в склонности часто ушибаться и в повышенной готовности к плачу. Он часто забирался к матери на колени, что та позволяла, если держала на руках младенца. Когда мать была занята младшим сыном, Мэттью обращался к другим взрослым. Младенцу он уделял очень мало внимания. Хотя на первый взгляд он казался достаточно бодрым, имелись едва уловимые признаки того, что не все так хорошо, как могло бы быть. Со временем Мэттью стал неугомонным и гиперактивным и падал даже чаще, чем прежде. Он проявлял большой интерес к своему отражению в зеркале, корча сам себе рожи. (Значение этого паттерна трудно проинтерпретировать[26] .)
Матери Мэттью хотелось верить, что Мэттью становится все более зрелым, и потому она стала ждать от него все большей и большей независимости. На самом деле, кажущаяся большая зрелость Мэттью в своей основе имела зеркальную идентификацию со старшими сиблингами, особенно с теми, кто был уже школьного возраста, и могла также быть признаком ухода в депрессию, но для матери было бы слишком болезненно осознать это. Еще одной попыткой адаптации была идентификация с соперником-младенцем. Мэттью проявлял признаки желания быть младенцем самому; например, как и его младенец-брат, он забирался в манеж. Этого его мать уже не могла стерпеть. Мэттью среагировал на это тем, что стал хуже понимать словесные инструкции матери и начал проявлять некоторую диффузную агрессивную активность, например, разбрасывать вещи или бесцельно бегать вокруг. Ранее Мэттью буквально излучал счастье, теперь же он все еще продолжал улыбаться, но у всех наблюдателей сложилось единодушное впечатление, что его улыбке недостает прежней жизнерадостности. Она стала напряженной, больше похожей на гримасу, нежели на улыбку, хотя она соотносилась с ожиданиями матери в его адрес и с его отношением к миру в целом. Мэттью не проявлял или, точнее, не позволял себе проявлять заметную реакцию на отсутствие матери в комнате.
В возрасте двух лет мать отправила Мэттью в комнату тоддлеров одного. Она была настолько загружена своими семейными обязанностями, что уже не могла регулярно приносить к нам младенца, который был четвертым наблюдаемым нами ребенком в этой семье.
В комнате тоддлеров воспитатель наблюдал, как Мэттью мастурбировал аутоагрессивным образом, зажимая свой пенис и вытягивая вверх ноги, т. е., по сути, регрессируя к аутоэротической активности [27] . Наблюдатель в игровой заметил, что у мальчика практически не менялось выражение лица вне зависимости от ситуации, в которой он находился, и что он демонстрировал тенденцию к безрассудству и гиперактивности. Таким образом, казалось, что аккумуляция травматизации (шоковая и стрессовая травмы в значении Крис, ср. также: khan, 1963) оказалась для Мэттью слишком сильной [28] . Начиная с субфазы воссоединения у него развивалась тенденция находить удовлетворение в аутоэротической и агрессивной активности, так же как и в гиперактивности, в то время как в аффективной сфере он демонстрировал мягкость и умеренность, что при поверхностном наблюдении, казалось, соответствовало желанию матери, чтобы он был независимым и оставался ее счастливым маленьким «большим» мальчиком.
В случае Генри вторая беременность его матери и отлучение его от груди пришлись на пиковый момент того этапа, когда субфаза раннего практикования перекрывается с субфазой дифференциации. (Его мать присоединилась к нашему проекту, когда Генри было немногим больше девяти месяцев.) В это время он часто подползал к ней и крикливо требовал взять его на колени. Он явно нуждался в контакте и постоянной «подзарядке>> от нее. Это происходило, когда он начал осторожно упражняться во всем том, что предшествует вертикальному перемещению и ходьбе. Требовательное поведение Генри, таким образом, началось преждевременно до периода практики прямохождения. Это было тесно связано с явной эмоциональной холодностью матери во время ее беременности; в этом отношении случай Генри напоминает вышеописанный случай маленькой девочки. В возрасте 11—13 месяцев Генри по моторным навыкам превосходил других детей своей возрастной группы, чем вызывал восхищение у всех, в то время как мать воспринимала это как должное. После того как он к 14 месяцам полностью овладел активной вертикальной локомоцией, его
мать вообще прекратила реагировать на его возобновившуюся активную требовательность. В связи с этим Генри начал все больше использовать невербальные средства для привлечения ее внимания. На протяжении жарких летних месяцев он приносил ей все новые и новые тяжелые игрушки, как бы предлагая поиграть с ним. Малыш таскал их обеими руками, обливаясь потом, но все было бесполезно. Чрезмерный характер и навязчивость такого подхода на протяжении нескольких недель были явно симптоматичны. В нем проявился паттерн, усвоенный ребенком из поведения матери, которая пыталась заменять игрушками саму себя. В нем также содержались соматопсихические элементы идентификации с материнской беременностью, а также попытки соответствовать сознательному и бессознательному желанию матери, чтобы ее сын был большим и сильным (он был довольно маленьким). И наконец, в нем содержались элементы примитивных предшественников защит, таких как идентификация (отзеркаливание) и проекция. Все эти механизмы потерпели неудачу, и мы очень рано увидели, как после периода тяжелой депрессии (Mahler, 1961) этот маленький ребенок постепенно обратился к механизму мазохистического подчинения.
Мы уже упоминали феномен «следования тенью». Выраженный чрезмерно, он является, как мы полагаем, одним из угрожающих сигналов, характерных для данной субфазы, — признаком того, что осознание ребенком своей отделенности вызывает у него сильное напряжение. Ребенок пытается уцепиться за мать, реагируя на каждое ее движение и каждую смену настроения, а также предъявляя ей настойчивые требования. В случае с Томми именно феномен «следования тенью» составлял главную особенность процесса индивидуации: мальчик отказывался выпускать мать из поля зрения. Он следил за каждым ее движением краем глаза; он практически кидался в том же направлении, когда она шла к двери, и вообще, куда бы она ни двинулась. Все его разнообразные голосовые обращения были адресованы исключительно матери и постепенно свелись к бедно артикулированным раздраженным призывам. Как и Барни, он был одним из тех тоддлеров, у которых осознание своей отдельности от матери возникло вместе с развитием локомоторных способностей и до того, как они были эмоционально готовы справиться с этим осознанием. В случае Томми это приводило к вспышкам гнева, которые длились гораздо дольше обычных нескольких минут.
Обобщая вышесказанное, повторим, что сигналы потенциальной опасности на этой субфазе включают выраженную больше среднего сепарационную тревогу, более интенсивное, чем обычно, следование за матерью или частые, импульсивно заряженные «побеги» от нее с целью спровоцировать ее на погоню, и, наконец, чрезмерно выраженные нарушения сна. (Кратковременные нарушения сна в норме характерны для второго года жизни.)
Отталкиваясь от наших данных, мы обнаружили, что можем подразделить субфазу воссоединения на три периода: (1) начало воссоединения; (2) кризис воссоединения и (З) индивидуальное разрешение этого кризиса, проявляющееся в формировании паттернов и личностных характеристик, с которыми ребенок вступает на четвертую субфазу сепарации-индивидуации — консолидацию индивидуации.
Мы пришли к такому подразделению при помощи сравнения месяц за месяцем девяти наиболее тщательно изученных детей — последней группы в нашем исследовании. Мы оценивали развитие у них объектных отношений, их настроение, выраженность психосексуальных и агрессивных тенденций, а также их когнитивное развитие. Наше дальнейшее обсуждение субфазы воссоединения будет иллюстрировано примерами из историй этих детей.
НАЧАЛО ПЕРИОДА ВОССОЕДИНЕНИЯ
Мы заметили, что в возрасте около 15 месяцев у ребенка происходит важная качественная перемена в его отношении к матери. В период практикования, как уже отмечалось, мать являлась как бы «домашней базой», к которой ребенок частенько возвращался, когда ему было что-либо нужно: еда, успокоение или «подзарядка», если он устал или заскучал. Но в тот период он не расценивал мать как отдельного самостоятельного человека. Примерно в 15 месяцев мать переставала быть всего лишь («домашней базой» и становилась человеком, с которым тоддлер желал разделять все свои открытия. Самым важным поведенческим признаком этих новых отношений было стремление ребенка постоянно приносить и показывать матери заинтересовавшие его предметы. Эти вещи привлекали ребенка, но больше всего эмоций он вкладывал в потребность разделить их с матерью (см. случаи Барни, Генри и других детей). Тоддлер всеми доступными ему средствами показывал матери, что хочет заинтересовать ее своими «находками» и разделить с ней удовольствие от них.
Одновременно с началом осознания своей отдельности к ребенку приходит понимание того, что желания матери отнюдь не всегда совпадают с его собственными, а его желания подчас расходятся с материнскими. Такое осознание вступает в конфликт с чувством грандиозности и всемогущества периода практикования, когда ребенок чувствовал себя «властелином мира» (Mahler, 1966b). Какой удар по доселе непоколебимому всемогуществу! Блаженство двойственного единства оказывается разрушено.
Мы заметили также, что параллельно процессу осознания матери как отдельного человека, с которым можно разделить свои удовольствия, идет на убыль поглощенность тоддлера движением и исследованиями. Источник самого большого для ребенка удовольствия смещается от независимой локомоции и исследований расширяющегося мира на социальные взаимодействия. Любимым времяпрепровождением становятся игры в «ку-ку» (kleeman, 1967) и игры, связанные с подражанием. Мать теперь воспринимается как отдельный человек в огромном мире, и это происходит параллельно с осознанием существования других детей, их похожести и в то же время отличности от себя. Это подтверждается тем фактом, что дети в этом возрасте демонстрируют большее желание иметь то же, что есть у другого ребенка, или Делать то же, что делает он,
т. е. желание отзеркаливать, подражать, идентифицироваться с другим ребенком. Они хотят игрушки или чашку с соком и печенье, которые дали другому ребенку. Вместе с данным важным моментом развития появляется специфическая целеориентированная злость, агрессия, если желаемая цель оказывается недоступной. Мы, конечно же, не упускаем из поля зрения тот факт, что эти моменты развития приходятся на середину анальной фазы с характерными для нее жадностью, ревностью и завистью.
Открытие анатомической разницы между полами в этот период будет обсуждаться в этой главе позднее; здесь достаточно будет заметить, что для девочек пенис, кажется, становится прототипом желаемого, но недостижимого «обладания>> другими детьми. И для мальчиков, и для девочек это открытие сходным образом способствует более четкому осознанию своего тела и своего отношения к телу других людей. Тоддлер начинает лучше осознавать свое тело именно как свою принадлежность. Ему уже не нравится, когда над ним «производят действия». Наиболее заметно он сопротивляется тому, что его прижимают или держат в пассивном положении во время переодевания или смены подгузника. Ему уже не очень нравится, когда его обнимают и целуют, если он к этому не готов. Наши наблюдения показывают, что это требование телесной автономности больше выражено у мальчиков.
Социальная экспансия и важность отношений с отцом
Желание большей автономии выражается не только в негативизме по отношению к матери и другим, но также ведет к активному расширению мира мать — дитя, прежде всего к включению в него отца. Отец как объект любви с самого начала попадает в другую категорию объектов, чем мать. Хотя он и не совсем выпадает из симбиотического союза, но все же не является в полной мере его частью. Кроме того, по всей видимости, маленький ребенок очень рано начинает чувствовать, что отец с матерью находятся в особых отношениях, и значение этого на фазе сепарации-индивидуации и поздней преэдипальной фазе мы пока еще только пытаемся понять (Abelin, 1971; Greenacre, 1966; Mahler, 1967а).
Но в период воссоединения ребенок развивает отношения не только с матерью и отцом, но и с другими людьми из своего окружения. В нашем исследовании мы видели, что дети начиная с 16—17 месяцев были склонны проводить все больше и больше времени в комнате тоддлеров отдельно от своих матерей и что как мальчики, так и девочки сходным образом начинали искать внимания наблюдателей (чаще мужского пола) и формировать довольно тесную к ним привязанность1.
Сепарационные реакции на субфазе раннего воссоединения, с клиническими иллюстрациями
На субфазе раннего воссоединения мы обнаружили интересную перемену в реакциях детей на присутствие или отсутствие матери. Теперь они все четко осознавали отсутствие матери и хотели знать, где она находилась (тем самым значительно повышая свою ориентацию в пространстве). С другой стороны, они могли все дольше оставаться погруженными в свои обычные занятия и часто не хотели, чтобы их отвлекали. Они могли пожелать «пойти проведать» мать, не имея намерения с ней остаться; чаще они проходили недалеко от нее, затем изменяли направление движения и возвращались к своим собственным делам. Такая смена направления чаще встречалась у мальчиков, чем у девочек. Однако если мать отсутствовала слишком долго, дети реагировали иначе, чем на предыдущих субфазах. Мы уже описывали «сниженную тональность настроения», которая характерна для субфаз дифференциации и практикования. Теперь, в начале периода воссоединения, нами был обнаружен новый тип поведения: отсутствие матери вызывало у ребенка повышенную бессистемную активность. Можно было бы
![]()
1 Такое раннее предпочтение наблюдателей-мужчин, казалось, имело гендерно специфичный оттенок, однако мы пока не готовы интерпретировать или даже анализировать это явление.
ожидать, что эквивалентом сниженному настроению в момент осознания ребенком своей отделенности будет печаль (ср.: Mahler, 1961). Чтобы справиться с печалью, Эго должно обладать значительной силой — силой, которой у ребенка этого возраста попросту нет (ср.: Zetzel, 1949, 1965). Гиперактивность, таким образом, следует рассматривать как ранний защитный механизм, направленный против осознания болезненного аффекта печали.
По мере прогресса субфазы воссоединения дети находили более активный способ справиться с материнскими отлучками: они обращались к замещающим взрослым и начинали включаться в символическую игру (см.: Galenson, 1971). Они часто изобретали формы игры, которые помогали им совладать с фактом исчезновений и появлений различных вещей. Иногда их игра включала в себя социальное взаимодействие. Нередко в том, как дети играли, легко прочитывалась ранняя идентификация с матерью или отцом — это проявлялось, например, в том, как они держали кукол и мишек. По-видимому, развивалась начальная интернализация репрезентаций объектов. Игра в мяч, например, не только способствовала социальному взаимодействию, но и была связана с чувствами и фантазиями по поводу расставания и повторного обретения объекта (см.: Freud S., 1920). Донна любила зашвырнуть мяч подальше, а затем с удовольствием находила его; другая маленькая девочка теряла мяч, и ей нужно было, чтобы наблюдатели его ей возвратили; Венди, которая предпочитала отношения со взрослыми один на один, использовала мяч, чтобы привлечь взрослого наблюдателя к игре.
Для большинства детей период раннего воссоединения достигал кульминации к возрасту 17 или 18 месяцев, когда они демонстрировали что-то похожее на временную консолидацию и принятие отдельности. Это происходило одновременно с большим удовольствием от тех вещей и видов деятельности, которые ребенок разделял с отцом или матерью, а затем и с не столь близкими людьми из своего окружения — как взрослыми, так и детьми. Во время периода практикования очень важным словом было <<пока-пока», а самым важным словом периода раннего воссоединения становится «привет».
На этом этапе развития, который служит консолидации, нами, однако, были замечены важные предшественники неминуемо надвигающейся борьбы с объектом любви, проявляющиеся во многих видах поведения. Самыми впечатляющими из них были приступы гневливости, наблюдавшиеся практически у всех детей[29] . Мы видели множество проявлений возросшей ранимости, бессильной ярости и беспомощности. Также у многих детей наблюдалось возобновление боязни незнакомцев. Как и в более раннем возрасте (с семи до девяти месяцев), реакция на незнакомых людей состояла из смеси тревожности, интереса и любопытства. Кроме того, теперь часто можно было видеть вполне сознательное избегание посторонних, как будто бы незнакомец представлял угрозу уже оставленному иллюзорному единению с матерью. Казалось, угрозу несет в себе сам факт, что какие-то люди, помимо матери, приобретают важность для ребенка (конфликт лояльности), как будто это несовместимо с когда-то исключительными, особенными отношениями с ней (причина и следствие, видимо, здесь смешаны, и очевидно, преобладают механизмы проекции или экстернализации).
В нашей выборке наиболее систематически наблюдаемых детей было несколько таких, у которых период первой консолидации чувства отделенности протекал необычным образом или был сокращен. В каждом случае это казалось связанным с трудностями на более ранних субфазах отношений мать—дитя. Проиллюстрируем это нашими наблюдениями над двумя такими детьми.
Во время первой части 17—18-го месяцев Марк продолжал интересоваться множеством людей и видов деятельности. Его привлекала комната тоддлеров; он мог оставлять мать и возвращаться к ней, и их отношения в целом были вполне благоприятными. Однако примерно в конце 17-го месяца Марк стал очень требовательным. Он постоянно нуждался во внимании матери, но, казалось, сам не понимал, чего хотел от нее. Чрезмерно требовательное поведение у него внезапно сменялись агрессией против матери и бегством. Такая «амбитендентность» распространялась также на других людей и на другие цели. Например, Марк упорно настаивал, чтобы мать взяла его на руки, но как только он оказывался у нее на руках, он сердито требовал его отпустить. Он тревожно цеплялся за мать, будто боялся, что она его оставит или навсегда лишит любви. Все это было связано, как мы полагали, с необычайной запутанностью у матери и у ребенка того, что касалось прочтения сигналов друг друга, — нарушениями «взаимного сигнализирования». (Это напоминает о том, как эта мать испытывала трудности с пониманием сигналов от своего старшего ребенка, см.: Mahler, Furer, 1963а, р. 4—5; ср. также: Spitz, 1964, «крушение (схождение с рельсов) диалога».)
Харриет также демонстрировала девиантное поведение в этот период: она не цеплялась за мать, а скорее игнорировала ее; на 18-м месяце своей жизни она уделяла ей гораздо меньше внимания, чем на протяжении предыдущего. Она как будто не замечала, ушла ли ее мать или вернулась. Она не выказывала особого удовольствия от общения, какое наблюдалось у других детей; на протяжении этого месяца она, казалось, полностью была погружена в себя. Эта маленькая девочка описывалась как вполне самодостаточная, но в целом не заинтересованная в людях. Обычно она играла с игрушками, куклами и мишками и бормотала что-то сама себе, создавая у нас впечатление глубокой увлеченности собственным миром, своей фантазийной жизнью. Казалось, она удовлетворяла свою потребность в физической близости, используя неодушевленные объекты. Если она расстраивалась, то ложилась плашмя на пол или втискивалась в какое-нибудь узкое место; казалось, она хотела замкнуться, закрыться во что-то, что бы позволило ей почувствовать целостность и безопасность, которой ей не хватало в отношениях с матерью.
К вопросу о структурализации Эго и формировании связного Я
Следует подчеркнуть, что первое осознание ребенком отдельности приносит радостные открытия начинающейся автономии и социальных взаимодействий, выражающиеся в ряде важных слов и в жестовой коммуникации, свойственных данному периоду. Одним из них является обнаружение того, что можно попросить кого-то выполнить какое-либо желание, используя слова и жесты. Например, <<печенье» было важным ранним словом для всех детей. С открытием того, что можно позвать мать и привлечь ее внимание, слова <<Смотри, мама» также начинали использоваться очень часто. За этим шло открытие, что можно обнаружить мать или кого-либо еще и выразить свой восторг; это было связано с ныне весьма распространенным словом «Привет!» Также важным на данном этапе являлось открытие того, что можно получить похвалу и восхищение за демонстрацию способности ходить и других навыков. для тоддлера в период воссоединения важно, что он может доставить матери удовольствие; это проявлялось у него в том, что он приносил ей игрушки.
Более болезненные аспекты отдельности едва ли начинали осознаваться тоддлером на протяжении этих месяцев, за исключением тех детей, у которых различные обстоятельства внутреннего и экспериментального характера вызывали преждевременный кризис сепарации.
Кризис ВОССОЕДИНЕНИЯ:
ОТ 18—20 МЕСЯЦЕВ ДО ГОДА И ПОЗДНЕЕ
Грандиозность и страх потери любви
Примерно в 18 месяцев наши тоддлеры, казалось, жаждали повсюду проявлять свою быстро растущую автономию и предпочитали, чтобы ничто не напоминало им о том, что они временами не могли с чем-либо справиться сами. Конфликты возникали из-за того, что, с одной стороны, они хотели быть великими, всемогущими и отдельными, но при этом нуждались в матери для магического выполнения своих желаний, без осознания того, что помощь, на самом деле, приходит извне. В большинстве случаев преобладающее настроение изменялось на общую неудовлетворенность, проявлялась склонность к быстрым сменам настроения и вспышкам гнева. Период, таким образом, характеризовался быстрым чередованием желаний оттолкнуть мать прочь и прильнуть к ней — поведенческая последовательность, которую слово «амбитендентность» определяет наиболее точно. Уже в таком возрасте у ребенка возникало два противоположно направленных желания, что характерно для середины субфазы воссоединения.
Для детей этого возраста было характерно использовать мать как продолжение Я, отрицая таким образом болезненное осознание отдельности. Типичным поведением такого рода было, например, тянуть мать за руку и пользоваться ею как инструментом, чтобы достать желаемый объект, или ожидать, что мать, направляемая единственным магическим жестом, а не словами, догадается и выполнит промелькнувшее у тоддлера желание. Появлялся также неожиданный и странный феномен, очевидно, являющийся предшественником проекции собственных негативных чувств, — внезапный страх, что мать ушла, хотя она даже не поднималась со стула. Также нередко бывало, что ребенок как будто не узнавал мать после ее недолгого отсутствия.
Как нам следовало понимать эту склонность неожиданно «терять» чувство присутствия матери в тот период, когда она в связи с возросшей отделенностью стала человеком из внешнего мира? Было ли это регрессией, вызванной слишком сильным напряжением из-за необходимости осознать, что теперь придется функционировать по отдельности? Или это было вызвано конфликтом между желанием распоряжаться своим собственным Я и желанием соучаствовать в материнском всемогуществе? Желание функционировать самостоятельно может быть частично угрожающим для ребенка, находящегося на той стадии развития, когда собственные чувства и желания
еще едва дифференцируются от материнских. Желание быть автономным и отдельным от матери, оставить ее может также эмоционально означать, что мать могла бы пожелать покинуть его (интроективно-проективный период — Ferenczi, 1913). Концептуализация данного феномена периода воссоединения оказалась еще более запутанной и озадачивающей в связи с тем фактом, что размытая идентичность матери во внешнем мире достаточно часто совпадает с тенденцией с ее стороны реагировать враждебно на своего отделяющегося и проявляющего все больше самостоятельности ребенка. Реакции матери в это время часто имеют оттенок раздражительности по поводу упорства тоддлера в своей автономности, например, его желания завязывать шнурки без посторонней помощи и т. д. «Ты думаешь, можешь сам справиться? Ну, хорошо, не буду мешать, посмотрим, что у тебя выйдет». Или: «Минуту назад ты не хотел быть со мной. Ну что же, а теперь я не хочу быть с тобой» (см.: Mahler, Pine, Bergman, 1970, р. 257—274).
Как мы отмечали ранее, мы обнаружили возобновление с новой силой реакции на незнакомых. Это явление весьма часто описывалось наблюдателями как «застенчивость». Вновь появившаяся реакция на незнакомых случалась особенно часто по отношению к людям из окружающего мира, которые в более ранние моменты жизни ребенка расценивались как особенные друзья. Мы цитируем описание наиболее типичного поведения из записей наших наблюдений:
Отношения Фрэнки со взрослыми (но не с матерью) выражались в следующих поведенческих проявлениях. Он иногда обращался к ним вполне дружелюбно с некоторой дистанции; тем не менее, как только они обращались к нему, он тут же убегал к своей матери. Однажды он подкатил мяч к наблюдателю, которая ранее была его лучшим другом; когда она толкнула мяч обратно, он помчался к матери.
Нерешительность была другой типичной поведенческой чертой этого периода. Некоторые дети в это время могли подолгу стоять на пороге комнаты тоддлеров, не в состоянии решить, хотят ли они присоединиться к происходящему внутри.
Стояние у порога казалось прекрасной символизацией конфликтующих желаний: желания войти в мир детей-сверстников отдельно от матери и позыва остаться с матерью в детской комнате. (Это чем-то напоминает сомнения и нерешительность в случае обсессивно-компульсивного невроза.)
Были некоторые дети, которые могли реализовывать свою растущую автономность и желание независимости с относительно небольшим явным конфликтом. Еще один пример из наших записей:
Линда имела необычно доверительные отношения со своей матерью, и та всегда наслаждалась общением с дочерью. Но теперь Линда протестовала против того, чтобы мать несла ее вверх по лестнице, хотя раньше это приводило ее в восторг. Теперь ей, видимо, требовался меньший физический контакт с матерью. Она хотела исследовать «мир» отдельно от нее и все больше вовлекалась в социальные взаимодействия с другими людьми. Когда матери не было в комнате, Линда могла независимо играть в течение продолжительного периода времени. Даже если она явно скучала по матери, она могла быть настолько увлечена своей деятельностью, что мельком высматривала ее и затем возвращалась к своим занятиям.
В некоторых случаях, однако, когда мать была либо не удовлетворена своим ребенком, чрезмерно тревожась за него, либо холодна, паттерны нормального воссоединения выражались в преувеличенной форме. На уровне поведения этот амбивалентный конфликт отыгрывался либо в настойчивом преследовании матери, либо в побегах от нее (на поздней субфазе практики и ранней субфазе воссоединения), или, бывало, становился причиной чрезмерной требовательности к матери, чередующейся с крайним негативизмом.
Расширение эмоционального спектра и зарождение эмпатии
В этот период спектр аффектов, переживаемых тоддлером, расширяется и становится довольно дифференцированным.
Описывая предшествующий период, мы говорили о гиперактивности и безостановочной деятельности, которая представляется защитой от печали по поводу потери симбиотического единства. Теперь необходимость иметь дело с аффектами печали и злости, разочарования в матери или осознания ограниченности своих возможностей и относительной беспомощности можно проследить во многих других видах поведения. В этот период, например, наблюдатели, следившие за разными детьми, впервые отметили, что те боролись со слезами, пытаясь подавить желание заплакать.
Было интересно, например, наблюдать реакции Тедди на плач другого ребенка. Он просто не мог этого выносить. Чужой плач, казалось, каким-то образом стимулировал его агрессивные защитные реакции, и он мог напасть на других детей без особых на то причин[30] . Очевидное осознание им своей отделенности и уязвимости, однако, открыло дорогу росту способности к эмпатии, которая также выражалась позитивными способами. Несмотря на свою агрессивную реакцию на плач других детей, в другие моменты Тедди проявлял к ним сочувствие и симпатию. Например, он принес свою бутылочку Марку, когда тот плакал, или пытался подружиться с Харриет в день, когда у нее явно было пониженное настроение.
Мы видели в этом возрасте многие признаки идентификации с установками других людей, особенно с установками матери или отца. Это происходило на более высоком уровне эго-идентификации — не просто в виде интроецирования или отзеркаливания, характерных для более ранних периодов, например, периода дифференциации, когда мы наблюдали, как дети перенимали паттерны проявления материнской заботы о них, делая свои первые шаги в сторону индивидуации и отделенности (часть II, глава З). Например, у Фрэнки на стадии воссоединения появилась манера громко требовать своего, а также тенденция к драматизации, что напоминало привычки его матери. Другой маленький мальчик был не только требовательным, но также не желал делиться. Он стремился заставить мать выполнять его желания. Особенно не желал он оставлять всемогущество симбиотического двойственного единства; это напоминало склонность его матери к симбиотическим и «присваивающим личность» отношениям (Sperling, 1944), которая также проявлялась и после симбиотической стадии в отношениях с ее гораздо более старшей дочерью... Другая форма идентификации как защиты демонстрировалась детьми, которым необходимо было справиться с переживаниями, связанными с рождением сиблинга в период раннего воссоединения, с тем, кто теперь идентифицировался с материнской заботой и отношением к новому ребенку.
Частичная интернализация, казалось, была способом справиться или защититься от возрастающей уязвимости тоддлера, которая ощущалась им все сильнее по мере того, как его восприятие своей отделенности возрастало. Он болезненно осознавал не только то, что временами он оказывается беззащитным и одиноким, но и то, что даже его мать не всегда может восстановить его ощущение благополучия, что на самом деле ее интересы были отдельными и отличными от его собственных. Все эти переживания, конечно, усиливались еще больше, если в отношения ребенка с матерью вмешивался новорожденный сиблинг.
Реакции на сепарацию во время кризиса воссоединения (18—21 -й месяцы)
В период самого острого кризиса воссоединения все дети становятся особенно чувствительны к тому, где находится мать, и остро осознают ее отсутствие. С когнитивной точки зрения, способность осознать, что мать может быть где-то еще и может быть обнаружена (ср. «постоянство объекта» у Пиаже), теперь хорошо сформирована. Это знание временами весьма способствует подбадриванию тоддлера, когда он переживает из-за того, что соскучился по матери. В целом, однако, тоддлеры в этом возрасте не любят быть пассивно «оставленными позади». Начинают развиваться трудности,
связанные с уходами матери, выражаясь в реакциях прилипчивости к ней. Обычно эти реакции сопровождаются подавленным настроением и изначальной неспособностью, краткой или длительной, заинтересоваться игрой.
Часто ребенок, испытывающий острые переживания из-за того, что мать оставила его, пытался установить тесную связь с одним из наблюдателей, желая сидеть у него на коленях и периодически даже регрессируя до вялой сонливости. В это время наблюдатель, очевидно, представлял собой не другой объект любви и уж тем более не какого-либо человека из отличного-от-матери мира, а скорее вариант симбиотической замены матери, расширение Я. В то же время, надо отметить, уже началось расщепление объекта (см.: kernberg, 1967). «Наблюдатели» также особенно хорошо подходили для отработки ребенком этой защиты, становясь мишенью для его яростных реакций на ощущение бессилия, целью которых было защитить образ хорошей матери от своего деструктивного гнева. Особенно явно это наблюдалось у тех детей, у которых были нарушенные отношения с их матерями на более ранних субфазах.
Механизмы расщепления в это время могут принимать разные
формы. Если наблюдатель в отсутствие матери становился «плохой матерью», то
все, что бы он ни делал, было нехорошо, и превалировало общее настроение
капризности. Ребенок проявлял страстное стремление к «хорошей матери», в то же
время казалось, что она существует только в его фантазии. Когда возвращалась
реальная мать, она могла быть встречена словами «Что ты мне принесла?», как и
выражениями гнева, разочарования и другими негативными реакциями. Или, бывало,
наблюдатель как заместитель матери мог временно стать «хорошей симбиотической
матерью», и тоддлер мог пассивно сидеть на его коленях и есть печенье, как
маленький ребенок. Когда настоящая мать возвращалась, он реагировал импульсом
подскочить к ней как можно быстрее и в то же время пытался как будто избегать
ее, как бы предотвращая разочарования в дальнейшем. Тоддлер мог игнорировать
мать после ее возвращения или двинуться к ней и вдруг свернуть в сторону,
отвергая ее попытки начать разговор. В последнем случае кажется, что отсутствующая
мать стала «плохой» матерью, и таким образом ее следовало избегать. Другим
вариантом обращения с замещающим мать было амбивалентное отношение, как будто
он или она были одновременно «хоро![]() и
и ![]() матерью, как и
настоящая мать, когда она присутствовала.
матерью, как и
настоящая мать, когда она присутствовала.
Мы наблюдали подобные переживания, выраженные в разной степени и в разных вариациях. С особенной ясностью в этот период прослеживаются истоки многих свойственных человеку проблем и дилемм — проблем, которые иногда не удается полностью разрешить на протяжении всей жизни.
Переходные феномены
Мы наблюдали также и другие механизмы, используемые, чтобы справиться с сепарацией во время кризиса воссоединения. Одна маленькая девочка, которая подошла к этой части описываемой фазы позже других детей, — возможно, потому что ее мать умудрялась полностью удовлетворять ее потребности и оставаться «всемогущей» вместо того, чтобы мягко подтолкнуть ее, как начавшего оперяться птенца, — стала требовать право полного обладания не матерью, но стулом, на котором та сидела. Когда мать покидала комнату, девочка тут же садилась на ее стул. Если ребенок вставал со стула, то не позволял кому-либо еще сесть на него. Слово «мое» стало важным для нее в это время; она не делила мать ни с кем и могла выносить материнское отсутствие, только если в это время обладала ее стулом. Стул стал для нее видом органа-объекта, используемого в качестве связующего с матерью моста в значении Кестенберга (kestenberg, 1971).
Другие дети демонстрировали многообразие переходных феноменов, которые были менее очевидно связаны с их матерями. Например, они потребляли большие количества крендельков и печений или, бывало, настаивали на том, чтобы носить с собой бутылочки. Некоторые дети не могли находиться в игровой без своих матерей и брели в гардеробную, которую мы привыкли рассматривать как «переходную комнату», потому что она располагалась между детской (миром матерей и младенцев) и комнатой тоддлеров (миром их автономии). В этой гардеробной к тому же имелось окно во внешний мир от пола до потолка; поскольку в этом месте висели пальто, она являлась комнатой перехода из дома в Центр.
Чтение книжек с историями стало другой переходной деятельностью, которой дети особенно полюбили заниматься, когда матерей не было в комнате. Можно предполагать, что книжки с историями выполняли роль переходных объектов, потому что, с одной стороны, они удовлетворяли потребность в дистанцировании и исследовании окружающего мира (путем символизации и фантазии), а с другой стороны, чтение позволяло создать близость, побыть рядом с тем, кто читает.
Несмотря на то, что в этот период тоддлерам необходимо было знать, где их мать, и они не любили оставаться пассивно покинутыми (судя по тому, как они реагировали на уходы матери), они становились все более способны покидать мать активно и самостоятельно. Комната тоддлеров сама по себе приобретала все большее значение: казалось, она становилась для многих тоддлеров убежищем от их конфликтных отношений с матерью. Дети явно находили там удовлетворение; они погружались в игру с игрушками и различными материалами, а также друг с другом. Они начинали формировать отношения со своим воспитателем, который был «оптимально доступен» им всем. Эти отношения были не заменой связи с матерью, но отношениями с новым взрослым, который мог способствовать развитию детского интереса к окружающему миру. К тому же этот новый взрослый мог предложить альтернативные варианты удовлетворения и тем самым канализировать неудовольствие и способствовать началу сублимации.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПАТТЕРНОВ
ВОССОЕДИНЕНИЯ: ОПТИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
К 21-му месяцу у ребенка можно наблюдать ослабление борьбы, характерной для стадии воссоединения. Претензии на всемогущество, периоды чрезмерной сепарационной тревоги, чередование требований близости и автономности — все это идет на убыль, по крайней мере, на какое-то время, поскольку ребенок, очевидно, снова находит оптимальную дистанцию в отношениях с матерью — дистанцию, на которой он чувствует себя наиболее комфортно. В нашем сеттинге эта оптимальная дистанция обычно была представлена расположенной неподалеку, но в то же время отдельной комнатой тоддлеров, в которой имелись возможности для стимуляции, упражнения в автономии и растущего удовольствия от социальных интеракций.
Усиливающаяся индивидуация, которая делает возможной эту способность функционировать на большей дистанции без физического присутствия матери, проявляется в следующем. (1) Развитие языка в том, что касается наименований объектов и выражения желаний конкретными словами. Способность называть объекты (katan, 1961), видимо, сообщает тоддлеру ощущение способности контролировать окружающий мир. Использование личного местоимения «я» часто появляется именно в это время, так же как и способность узнавать и называть знакомых людей и себя на фотографиях[31] . (2) Процесс интернализации, о котором можно догадываться как по актам идентификации с «хорошими» частями матери и отца, так и по интернализации правил и требований (зачатки Супер-Эго). (З) Прогресс способности выражать желания и фантазии при помощи символической игры, а так же использовать игры для контроля над собственным поведением.
Примерно к 21-му месяцу жизни детей мы сделали важное наблюдение в наших помесячных сравнениях, состоявшее в том, что тоддлеров уже нельзя было делить на группы в соответствии с общим критерием, которым мы пользовались ранее. Перемены, связанные с индивидуационным процессом, происходили так быстро, что уже больше не были фазоспецифичными, но индивидуально весьма различались и варьировали
от одного ребенка к другому. Основной вопрос уже касался не столько осознания отделенности, сколько взаимовлияния этого осознания и отношений между ребенком и матерью, а также отношений с отцом (которые на этом этапе уже четко отделены от отношений с матерью) и общей интеграции индивидуальности ребенка. Мы также наблюдали, что в это время появляется значительная разница в развитии мальчиков по сравнению с девочками. В нашей относительно малой выборке мальчики, если им на то предоставлялась разумная возможность, проявляли тенденцию разъединяться с матерью и наслаждаться самостоятельностью в расширяющемся окружающем мире (см. Greenson, 1968). Девочки же, казалось, больше были поглощены матерью в ее присутствии; они требовали большей близости и чаще бывали вовлечены в амбивалентные аспекты отношений. Можно предполагать, что это связано с осознанием половых различий. Важно отметить, что в нарциссической ране, переживаемой девочками по причине отсутствия пениса, практически всегда обвинялась мать.
Например, мать одной маленькой девочки чувствовала, что ее ребенок становится все более требовательным и настойчивым. Она требовала исполнения всех своих желаний и очень злилась, если ее прихоти не удовлетворялись. В парке, по рассказам матери, девочка настаивала, чтобы мать ее бесконечно качала. Она продолжала обращаться к матери за помощью в любых затруднительных ситуациях вместо того, чтобы попытаться справиться самой. Однажды, после скандала по поводу ухода матери из комнаты, она рассматривала книжку с картинками, где смогла правильно назвать все изображения, кроме «матери» (механизм отрицания).
Другая маленькая девочка в 22 месяца стала упрямой и негативистичной. Особенный гнев вызывала у нее одежда, которую подбирала для нее мать, и причесывание. В то же время она стала более прилипчивой к матери. В Центре, где она с самого раннего возраста заняла обособленную позицию по причине неприязни к другим детям, она стала относиться к ним еще более настороженно и выражала сильное неудовольствие, если кто-то пытался «узурпировать» внимание ее матери. Ей было все труднее пойти в комнату тоддлеров; когда, в конце концов, ее мать отвела ее туда, девочка немедленно вернулась в детскую, оставив мать позади. Она не очень интересовалась игрушками, за исключением объектов для социального взаимодействия с матерью и другими взрослыми. Она часто возвращалась к матери для тесного контакта. Мы интерпретировали это поведение как смещенную конкуренцию со своими сиблингами за внимание матери, которого она жаждала для себя как для маленькой дочки. Большую часть времени она не возражала против того, чтобы ее мать покидала комнату, но бежала к ней, когда та возвращалась. Однажды она подбежала к ней с куклой и стала ей возбужденно показывать, как кукла сделала «пи-пи».
Третья маленькая девочка на 22-м месяце жизни стремилась к близости со своей матерью и проявляла потребность получать от нее физическую стимуляцию. Мать часто держала ее на коленях, поглаживая и стимулируя ее довольно-таки чувственным образом. Когда матери не было рядом, девочка стимулировала себя при помощи мастурбации. Она продолжала получать удовольствие от игр в комнате тоддлеров, но в детскую ходила чаще, несомненно, в связи с потребностью находиться рядом с матерью. Часто она пыталась привлечь внимание матери игрой в ку-ку или как-нибудь спровоцировать мать, чтобы та за ней побежала. Она открыто ревновала к своей маленькой сестре и даже пыталась отобрать у нее бутылочку. На 22-м месяце эта маленькая девочка впервые стала использовать слово «мама». Также она просыпалась посреди ночи и звала мать. Она искала мать и просила ее позвать, если та в это время проходила интервью. Пока матери не было, она, казалось, была занята игрой, чередуя роль младенца с ролью матери по отношению к настоящим младенцам. Данная ситуация, конечно же, объяснялась влиянием множества факторов, и ее можно было понять, только обладая глубинными познаниями в том, что касалось истории развития на предшествующей субфазе, и будучи знакомым с матерью.
Мальчики, казалось, справлялись со зрелищем отсутствия пениса у девочек гораздо менее ясным способом; их вос-
приятие этого явления смешивалось с анальными соображениями, а позднее с фаллическими кастрационными тревогами, выражаемыми в символизме их игр.
К 23-му месяцу жизни детей казалось, что способность справляться как с чувством отдельности, так и с актуальной физической раздельностью зависит от особенностей каждого случая отношений матери и ребенка, а также от их нынешнего состояния; оно было однозначно менее фазоспецифичным. Мы обнаружили, что трудно четко выделить, что именно в каждом конкретном случае обусловливало усиление тревоги или успешную адаптацию. Каждый ребенок к этому времени формировал свой собственный характерный способ совладания. В периоды, когда случались кризисы, не всегда было легко понять, чем этот кризис вызван. Иногда он казался связанным с детской тревожностью по поводу быстрой индивидуации (весьма часто это приводило к повышенной амбивалентности и агрессивности) или с телесными напряжениями не без связи с одновременным разочарованием в матери; в определенные моменты кризис казался однозначно имеющим отношение к телесным напряжениям (оральным, анальным и фаллическим, т. е. зональным) в значении, которое придает им Гринакр (Greenacre, 1945). Иногда он казался связанным со степенью и природой материнской доступности, иногда с тревожными чувствами матери в связи с тем, что ребенок становился все более самостоятельным.
Эта очень важная «финальная фаза» воссоединения как этапа интрапсихического развития, кажется, подводит итог решению многочисленных задач развития и созревания, к которым приходит каждый отдельный ребенок к четвертой субфазе.
Начало формирования генДерной идентичности
Матери часто сообщали, что, по их ощущениям, тела их маленьких дочерей отличались от тел сыновей, что девочки были как бы мягче и приятней. Мы не хотели бы поднимать вопрос о том, являются ли такие ощущения матерей культурно детерминированными или они вызваны тем фактом, что маленькие девочки в целом более гибко подстраиваются, чем мальчики; возможно, дело и в том, и в другом. В любом случае, ощущения матери, связанные с телом ее ребенка, вполне могут иметь влияние на раннее формирование паттернов. В целом мы наблюдали у мальчиков большую склонность к двигательной активности, чем у девочек, и сильнее выраженное сопротивление поцелуям и объятиям вне и даже во время дифференциации; мы также отмечали, что мальчики раньше начинали интересоваться движущимися объектами, такими как машинки и поезда.
Какое бы влияние ни оказывали сами по себе половые различия на сферу врожденного эго-аппарата и на ранние формы Эго, формирование гендерной идентичности значительно усложнялось и в общем дополнялось эффектами от открытия ребенком анатомических и половых различий. Это происходило иногда в период от 16-го до 17-го месяца или даже ранее, но гораздо чаще на 20-м или 21-м месяце.
Открытие мальчиком своего пениса обычно случалось гораздо раньше. Сенсорно-тактильный компонент этого открытия мог быть иногда даже датирован первым годом жизни (см.: Roiphe, Galenson, 1972, 1973), но нет уверенности в эмоциональном влиянии такого открытия в этот период. Примерно с 12-го до 14-го месяца, однако, мы наблюдали, что вертикальное положение упрощает визуальное и сенсорно-моторное исследование пениса. Возможно, в комбинации с прогрессом в зональной либидинизации, связанным с созреванием, это приводит к большему катектированию этого чувственного, приносящего удовольствие органа.
Так случилось, что в психоаналитической психологии развития мало внимания уделялось тому факту, что открытие пениса и, в особенности, получение важного опыта возникновения непроизвольной эрекции и ее исчезновения происходят параллельно приобретению способности свободно перемещаться в пространстве. За исключением Лофгрена (L6fgren, 1968), мы не нашли ни одной ссылки на то, что маленький мальчик замечает, что его сильно катектированный орган, его пенис, движется сам по себе (т. е. происходит эрекция). Это пассивное переживание, по-видимому, является очень важным. Кажется вполне вероятным, что маленький мальчик осознает не поддающиеся контролю движения своего пениса одновременно с тем, как он развивает мастерство движения телом в вертикальной позиции (см.: Mahler, 1968а).
С любой точки зрения исследование маленьким мальчиком своего пениса на субфазе практикования кажется вначале опытом получения безграничного удовольствия; несколько матерей сообщили, что их сыновья часто мастурбировали дома. Это отличается от наших более поздних наблюдений за тем, как на фазе сепарации-индивидуации (в конце второго и в начале третьего года жизни) мальчики стискивают свои пенисы для подзарядки уверенностью.
Открытие девочками пениса сталкивает их с чем-то, чего самим им не хватает. Это открытие вызывает ряд поведенческих проявлений, явно указывающих на возникновение у девочек тревоги, гнева и реакций неповиновения. Они стремятся аннулировать половые различия. В связи с этим, у нас создалось впечатление, что у девочек мастурбация приобретала отчаянный и агрессивный оттенок чаще, чем у мальчиков, и в более раннем возрасте. Мы уже упоминали о том, что это открытие совпадает по времени с возникновением чувства зависти; у некоторых девочек ранняя зависть к пенису явилась основой для устойчивого превалирования этого аффекта.
Открытие анатомических половых различий приобретало разные формы у разных детей. Один маленький мальчик (который рано заговорил) открыл наличие пупка у матери и назвал его ее «пи-пи». Россыпь других примеров встречается по всей этой книге.
Наиболее яркая (и в то же время наиболее типичная) реакция на неожиданное открытие анатомической разницы между полами проявилась у Кэти — это случилось в нежном возрасте 14 месяцев. Мы нашли это особенно интересным по причине жизненных обстоятельств девочки в то время. Кэти отличалась особенной ранимостью, поскольку ее отец был временно в отъезде. Она была необыкновенно способной,
очаровательной, рано развитой маленькой девочкой, которая хорошо владела речью и была всеобщей любимицей и отрадой своей матери. Последняя необычайно гордилась женственными чертами своей маленькой девочки, всегда одевая ее с особой тщательностью. Она была, так сказать, ее более красивым и женственным альтер эго. В отсутствие отца мать нашла работу с частичной занятостью, и в это время дня Кэти была под присмотром матери одного из маленьких мальчиков из нашего исследования. Кэти, которая могла похвастаться ранним развитием во всех областях, уже была частично приучена к туалету. Однажды мы заметили, что она не желала сидеть на унитазе; вместо этого она начала хныкать и хватать себя в области гениталий. Мать ранее сообщала нам, что несколько раз Кэти купали совместно с ее маленьким приятелем. На вопрос, заметила ли Кэти пенис своего маленького друга, мать сказала нам, что Кэти прокомментировала, что у мальчика были две кнопочки на животе. За этим последовал период повышенной капризности, и некогда очаровательную маленькую девочку стало невозможно чем-либо удовлетворить в нашей детской группе. Некоторое время спустя Кэти стала не только капризной, но и агрессивной по отношению к другим детям. Особенно часто она хватала других детей за волосы, ее просто невозможно было удержать от этого. Как раз примерно в то же время мать сообщила нам, что, поскольку Кэти ненавидела мыть волосы, она брала ее в душ с собой, чтобы помыть ей голову. В душе Кэти схватила мать за волосы на лобке, явно в поиске «спрятанного пениса». Благодаря раннему речевому развитию девочки, у нас была возможность проследить взлеты и падения в ее попытках примириться с нарциссической раной отсутствия пениса. Это, вероятно, так сильно подействовало на нее по причине отсутствия ее отца и, возможно, также потому, что до этого она была объектом любви для своей матери, самой себя и всех остальных. У нее была устойчивая, оптимальная, иногда даже завышенная самооценка. В нашей группе была еще одна маленькая девочка, для которой обнаружение половых различий стало тяжелым ударом. Она также была для своей матери воплощением всех совершенств и завершением ее собственного Я (см.: Stoller, 1973; Galenson, Roiphe, 1971).
Кратко говоря, мы обнаружили, что задача становления отдельным индивидом казалась в этот момент в целом более сложной для девочек, чем для мальчиков, потому что девочки после открытия половых различий были склонны возвращаться назад к матери, обвинять ее, предъявлять ей требования, разочаровываться в ней и в то же время быть амбивалентно к ней привязанными. Они требовали от матери, чтобы она, так сказать, уплатила долг. Как только девочка сталкивалась с собственным несовершенством, она могла начать восприниматься как несовершенная и в бессознательном матери. Мальчики, с другой стороны, очевидно, сталкивались с кастрационной тревогой позже. На втором и третьем году они, казалось, получали больше удовольствия от самостоятельности, чем девочки. Они были более способны обращаться к окружающему миру или к своему собственному телу за удовольствием и удовлетворением; они также обращались к отцу как к фигуре, с которой можно идентифицироваться. Они, казалось, каким-то образом могли совладать со своей кастрационной тревогой на фазе квазипреэдипальной триангуляции (Abelin, 1972); в нашем исследовании это было достаточно легко проследить.
ОБСУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СУБФАЗЫ
В нашем исследовании мы пронаблюдали, как развивается кризис воссоединения, а также увидели, как в некоторых случаях он может привести к неразрешаемому и закрепившемуся внутрипсихическому конфликту. Он может послужить точкой неблагоприятной фиксации, препятствуя, таким образом, более позднему эдипальному развитию; в лучшем случае он может добавить трудностей к разрешению эдипова комплекса и придать ему особый оттенок.
Задача развития на самом пике сепарационно-индивидуационной борьбы, происходящей на субфазе воссоединения,
огромна. В этом важном поворотном пункте личностного развития собираются и аккумулируются оральные, анальные и раннегенитальные напряжения и конфликты. У ребенка развивается потребность отказаться от симбиотического всемогущества, а также возрастает осознание образа тела и телесных напряжений, особенно в точках зональной либидинизации. Вера в материнское всемогущество также, очевидно, перестает быть незыблемой.
В то время как страх потерять объект и быть покинутым частично ослабевает, на данном стапе он усложняется интернализацией родительских требований. Это не только указывает на начало формирования Супер-Эго, но также само по себе является выражением страха потерять любовь объекта. В связи с этим на стадии воссоединения тоддлер оказывается особенно ранимым. Страх потери любви объекта развивается параллельно с повышенной чувствительностью к родительскому одобрению или неодобрению. Появляется большая восприимчивость к телесным ощущениям и напряжениям, по Гринакр. Все это дополняется возрастающей чувствительностью к ощущениям со стороны кишечника и мочеиспускательного аппарата в период приучения к туалету, даже в условиях вполне нормального развития. Нередко возникают весьма сильные реакции на открытие анатомических половых различий.
Длительность и интенсивность кризиса воссоединения сигнализирует о преждевременной интернализации конфликтов, нарушениях в развитии, которые, являясь предшественниками инфантильных неврозов, затем вполне могут способствовать формированию инфантильного невроза в классическом смысле. Как мы говорили ранее, конфликт сначала отыгрывается, а именно выражается в требовательном поведении, направленном на мать с целью заставить ее функционировать как всемогущее продолжение личности ребенка; все это сменяется проявлениями сильной прилипчивости. Другими словами, у тех детей, развитие которых не было оптимальным, на субфазе воссоединения конфликт амбивалентности неизбежен и протекает в виде быстро сменяющегося прилипчивого и негативистичного поведения. Такое чередование поведения
составляет феномен, который мы определили как
«амбитендентность>>, имеющий место, когда контрастные тенденции еще не
полностью интернализированы. Такие феномены в некоторых случаях могут
сигнализировать о том, что у ребенка произошло слишком устойчивое расщепление
объектного мира на ![]() и <<плохие» объекты. Посредством
такого расщепления
и <<плохие» объекты. Посредством
такого расщепления ![]() объект защищен от производных
агрессивного импульса.
объект защищен от производных
агрессивного импульса.
Два этих механизма: требовательное поведение и расщепление объектного мира — в чрезмерном виде также характерны для большинства случаев пограничного переноса у взрослых (Mahler, 1971; см. также: Frijling-Schreuder, 1969). Мы смогли установить возможных предвестников этого в вербальном первичном материале нескольких детей в конце второго и на третьем году их жизни. Такие механизмы, как и проблема нахождения того, что позднее Морис Бове (Bouvet, 1958) описал как «оптимальную дистанцию», могут превалировать уже на четвертой субфазе сепарации-индивидуации, в то время, когда должно начаться становление «либидинальной объектной константности», а сепарационные реакции идут на убыль.
Нарушения, возникшие на субфазе воссоединения, нередко проявляются снова в гораздо более определенной и индивидуально вариативной форме на финальной фазе этого процесса, на которой единая репрезентация Я должна отделиться от размытой и интегрированной репрезентации объекта.
Клинические последствия кризисов воссоединения будут зависеть от: (1) развития, связанного с достижением константности либидинального объекта; (2) количества и качества более поздних разочарований (стрессовой травматизации); (3) возможной шоковой травматизации; (4) степени кастрационной тревоги; (5) исхода эдипова комплекса; и (6) подросткового кризиса в ходе развития. Все это выполняет свою функцию в рамках индивидуальных конституциональных врожденных особенностей.
ГЛАВА 7
ЧЕТВЕРТАЯ СУБФАЗА: КОНСОЛИДАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И НАЧАЛО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОНСТАНТНОСТИ ОБЪЕКТА
точки зрения процесса сепарации-индивидуации, главная задача четвертой субфазы включает два аспекта:
(1) становление четко очерченной, в некоторых аспектах уже неизменной индивидуальности и (2) достижение начальной константности объекта.
Что касается Я, надо отметить, что происходит масштабная структурализация Эго, и появляются явные признаки интернализации родительских требований, указывающие на формирование зачатков Супер-Эго.
Установление аффективной (эмоциональной) константности
объекта (Hartmann, 1952) зависит от постепенной интернализации устойчивого,
позитивно катектированного внутреннего образа матери. Это для начала позволяет
ребенку функционировать отдельно (в знакомой среде, например, в нашей комнате
тоддлеров), несмотря на умеренную степень напряжения (ожидания) и дискомфорта.
Эмоциональная константность объекта будет, конечно же, в первую очередь иметь
основы в достижении постоянства объекта на когнитивном уровне, но все другие
аспекты развития детской личности также участвуют в этой эволюции (см.:
McDevitt, 1972) [32]![]() Последняя субфаза
(грубо говоря, третий год жизни) является исключительно важным периодом
внутрипсихического развития, в ходе которого приобретается стабильное
Последняя субфаза
(грубо говоря, третий год жизни) является исключительно важным периодом
внутрипсихического развития, в ходе которого приобретается стабильное
чувство целостности (границы Я). На этой же субфазе, очевидно, происходит примитивная консолидация гендерной идентичности.
Но константность объекта включает в себя больше, чем поддержание репрезентации отсутствующего объекта любви (ср.: Mahler, 1965а; Mahler, Furer, 1966). Она также подразумевает объединение <<хорошего» и <<плохого» объекта в одну целостную репрезентацию. Это способствует слиянию агрессивных и либидинальных влечений и смягчает ненависть к объекту, когда агрессия наиболее интенсивна. Наша точка зрения на либидинальную объектную константность наиболее схожа (мы полагаем, идентична) с точкой зрения Хоффера, хотя и иначе сформулирована. Хоффер (Hoffer, 1955) утверждал, что константность объекта должна расцениваться как последний этап в развитии зрелых объектных отношений. В особенности она связана с тем, какое разрешение получают агрессивные и враждебные импульсы. По достижению статуса объектной константности объект любви не отвергается и не меняется на другой, если он не может более обеспечить удовлетворение; в этом состоянии все еще наличествует стремление к объекту, и он не отвергается (и не становится ненавидимым) как неудовлетворяющий просто по причине своего отсутствия.
Медленное установление эмоциональной константности объекта является сложным и мультидетерминированным процессом, включающим все аспекты психического развития. Главными базовыми детерминантами являются: (1) доверие и уверенность, приобретаемые в результате регулярно происходящего облегчения напряжений, вызываемых различными потребностями, — облегчения, которое обеспечивается силой, удовлетворяющей потребности, начиная с симбиотической фазы. По мере прохождения субфаз процесса сепарации-индивидуации такое снятие потребностных напряжений постепенно приписывается удовлетворяющему нужды целостному объекту (матери) и затем трансформируется при помощи интернализации во внутрипсихическую репрезентацию матери; и (2) когнитивное приобретение символической внутренней
репрезентации постоянного объекта (по Пиаже), а в нашем понимании уникального объекта любви — матери. Также имеет значение ряд других факторов, таких как врожденные особенности сферы влечений и созревания, нейтрализация энергии влечений, тестирование реальности, толерантность к фрустрации и тревоге и так далее.
Только после того, как константность объекта начинает успешно формироваться, что, согласно нашей концепции, происходит не ранее третьего года жизни (см.: Mahler, 1965b), мать во время своего физического отсутствия может быть замещена — по крайней мере, частично — надежным внутренним образом, который остается стабильным безотносительно к состоянию инстинктивных потребностей или внутреннего дискомфорта. Суть данного приобретения состоит в том, что временная сепарация может длиться дольше и переноситься лучше. Установление постоянства объекта (его «психического образа», по Пиаже) является необходимым, но не достаточным предварительным условием установления либидинальной объектной константности. Другие аспекты развития и созревания сферы влечений и Эго играют свою роль в медленном переходе от более примитивных амбивалентных отношений любви, существующей лишь до тех пор, пока удовлетворяются потребности, к более зрелым (в идеале к редко достижимой ступени постамбивалентности) взаимным, основанным на взаимообмене объектным отношениям любви, свойственным юности и зрелости.
Прежде чем мы продолжим, необходимо сказать еще несколько слов по поводу работы Пиаже, посвященной «постоянству объекта» (Piaget, 1937; см. также Gouin-Decarie, 1965), и о нашем собственном использовании термина константность объекта. Работа Пиаже (Piaget, 1937) четко показала, что постоянство объекта развивается на 18—20-м месяцах жизни, и установление его происходит именно в это время. Но его исследования фокусируются на неодушевленных, кратковременно катектируемых физических объектах. Происходит ли это развитие аналогичным образом и по отношению к либидинальному объекту, т. е. к матери?
Что касается наших изысканий, мы должны
решительно ответить на этот вопрос отрицательно. Существует, по крайней мере,
два главных различия между либидинальным объектом и теми, что изучал Пиаже: (1)
ребенок находится в продолжительном контакте с либидинальным объектом, т. е. с
матерью; и (2) эти контакты часто происходят в условиях высокого уровня
возбуждения, вызванного ожиданием, фрустрацией, удовольствием, волнением. Мать
— «объект>> в психоаналитическом смысле — обеспечивает удовлетворение
влечений ребенка и представляет собой гораздо больше, чем ![]() в физически-описательном
смысле. Мы полагаем, что повторяющийся контакт и высокое возбуждение приводят к
различиям в уровне приобретения свойства постоянства (см. Bell, 1970; Fraiberg,
1969; McDevitt, 1971, 1972; Pine, 1974).
в физически-описательном
смысле. Мы полагаем, что повторяющийся контакт и высокое возбуждение приводят к
различиям в уровне приобретения свойства постоянства (см. Bell, 1970; Fraiberg,
1969; McDevitt, 1971, 1972; Pine, 1974).
Но эффект, оказываемый либидинальным статусом объекта на достижение им свойства постоянства, никоим образом не является однозначным. Один из нас предположил, что «усиленное обучение и запоминание, которое может происходить в условиях оптимального возбуждения (т. е. когда сила влечения не достигает травматического уровня) и в условиях повторяющихся предъявлений, может привести к укреплению внутренней репрезентации либидинального объекта даже ранее 20 месяцев» (Pine, 1974). Макдевитт (McDevitt, 1972, не опубликовано), с другой стороны, говоря о периоде после 18—20 месяцев, предположил, что «психическая репрезентация матери может быть настолько нагружена враждебными и агрессивными чувствами, что стабильность этого образа, по крайней мере, его либидинальная сторона в противоположность когнитивной становится нарушенной» (см. также главы 5 и 6). Весьма примечательно, что Белл (Bell, 1970) продемонстрировал экспериментально, что дети, имеющие гармоничные отношения со своими матерями, развивают «постоянство человеческого объекта» раньше, чем «постоянство просто физического объекта», в то время как в случае дисгармоничных отношений верно обратное. (Наши исследования это подтверждают многочисленными примерами.) Таким образом, «наличие интенсивных либидинальных и агрессивных влечений, связанных с объектом, может... способствовать более быстрому и менее фиксированному приобретению стабильной репрезентации постоянного объекта» (Pine, 1974; см. также: kaplan, 1972).
Все это заставляет предположить, что развитие либидинальной константности объекта является сложным процессом. В целом, как бы то ни было, в норме константность либидинального объекта должна быть достаточно стабильной к третьему году жизни. В социокультурном плане это отразилось в том, что возраст трех лет считается моментом готовности для начала посещения детского сада (ср.: Freud А., 1963).
Четвертая субфаза процесса сепарации-индивидуации не является субфазой в том же смысле, как первые три, поскольку не имеет верхней возрастной границы.
Мы видим однозначный, хотя и в то же время весьма относительный переход от феноменов субфазы воссоединения с более или менее проблематичными уходами к возросшей способности играть отдельно от матери, что является показателем того, что ребенок все более способен полагаться на ее внутренний образ («образ хорошей матери») во время ее отсутствия. Но эти перемены не заканчиваются однозначно в какой-либо четко определимой точке[33] .
Мы обнаружили, что по мере того, как протекает эта субфаза, ребенок постепенно становится способен снова принять свою отделенность от матери (как уже было в период практикования); по сути, когда он увлечен игрой, то часто предпочитает оставаться в комнате тоддлеров без матери, вместо того чтобы покидать комнату вместе с ней. Мы расцениваем это как признак начала формирования эмоциональной константности объекта. В то же время множество сложных, нагруженных конфликтами и свободных от конфликтов процессов, по-видимому, продолжаются у ребенка в ходе третьего года, делая константность объекта пока что непрочным и обратимым приобретением. Пока что все дело в степени ее сформированности, как сообщил Хартманн одному из нас (Малеру. Это зависит от контекста многих других факторов развития, превалирующего состояния Эго и аффективной реактивности на окружающую среду в данный момент. Ниже мы приведем подтверждающие это утверждение примеры. Позвольте нам описать поведение троих детей в день, когда их матерей, предоставив им адекватные объяснения, попросили удалиться в свою зону в детской комнате и чаще оставлять своих малышей под присмотром воспитателя в комнате тоддлеров. Здесь, как и в наших предыдущих иллюстрациях, отмечено поведение, специфичное для фазы, а также выраженные индивидуальные вариации, характерные для каждого конкретного случая.
Три старших тоддлера (в возрасте от 26 до 28 месяцев) перешли в комнату для своих сверстников, которая была им уже достаточно хорошо знакома. Она привлекала их уже много месяцев, но они не могли позволить себе оставить матерей в детской и требовали их присутствия рядом с собой. Когда матерей попросили перейти в смежную детскую комнату, куда был открытый доступ, мы смогли наблюдать, с одной стороны, реакции тоддлеров на эту мягкую сепарацию, а с другой — материнскую готовность и их способ сепарации от теперь более независимо функционирующих детей.
Первая маленькая девочка, чья мать проявляла оптимальную — в ретроспективе мы бы даже сказали, максимально возможную, — эмоциональную доступность на более ранних субфазах, казалось, Дальше Других Детей продвинулась в плане Достижения константности объекта. Мы полагали, что у нее внутренний образ матери был позитивно и неамбивалентно катектирован; и в самом деле, этот ребенок понимал, где находилась мать, и мог весьма успешно справляться с ее короткими отлучками (в то время как она была в другой комнате или покидала Центр) начиная примерно с 25—26 месяцев. В день, когда матерей попросили оставаться в детской, старший сотрудник, занимающийся комнатой тоддлеров, описал
![]()
1 В личной беседе.
реакции этой маленькой девочки следующим образом. Она находилась близко к своей матери, пока та сидела с ней в комнате тоддлеров. Когда мать ушла, она позволила себе увлечься игрой, которую инициировал сотрудник, и на короткое время вообще перестала беспокоиться по поводу отсутствия матери. Девочка как будто даже не сразу заметила ее уход. Она осознала это, только когда стала рисовать, и, будучи довольна собой все больше, несколько раз спросила: «Где мама?» Мы полагаем, что в эти моменты она хотела показать рисунки матери (воссоединиться с ней), но когда никто не ответил на ее зов, она смогла продолжить рисование и даже еще больше им увлекласы (В нашем описании третьего года мы, однако, увидим, насколько тонкими, сложными и не имеющими однозначного окончания остаются преобразования эмоциональной константности объекта в этом возрасте.)
В отличие от этой маленькой девочки, которая к тому моменту явно достигла высокой степени константности либидинального объекта, другой ребенок, которого мы наблюдали в тот день, — мальчик — страдал от ранних разочарований в матери. В описываемый день он вел себя так же, как и во многие предыдущие, как будто у него сохранялся конфликтный, неоднозначный внутренний образ матери, вплоть до общего стремления ее избегать. Отмечалось, что он был очень тихим и подавленным с того самого момента, как пришел в Центр. Как обычно, он принял активное участие в различных мероприятиях, но как только его мать покинула комнату тоддлеров, его настроение начало портиться и стало почти подавленным. Он чувствовал себя несчастным, что выражалось в его мрачности: он безучастно стоял у раковины, не проявляя интереса к игре с водой, которая ранее была одним из его любимых занятий. Тем не менее он не спрашивал про мать и, казалось, не замечал ее отсутствия, но взгляд у него был отсутствующим.
Вторая маленькая девочка демонстрировала совершенно иной вид поведения. В целом ее толерантность к уходам матери была очень низкой, даже если сепарация была кратковременной. Она реагировала немедленно и интенсивно. Когда она замечала, что ее мать собирается уйти, она бежала к ней, повисала на ней, ныла и плакала. Сотрудник предложил ей взять куклу-младенца, с которым ей очень нравилось играть за неделю до этого. На минуту девочка перестала плакать, схватила куклу, прижала ее к себе и, казалось, была готова начать с ней играть; но затем она осознала, что ее мать на самом деле не собирается оставаться, и уже была не способна играть с куклой. Вместо этого она крепко прижала ее к себе и, рыдая, побежала вслед за матерью. В конце концов, она заметила знакомую фигуру одного из сотрудников, чье присутствие ее как будто успокоило. Однако она оставалась подавленной в течение всего периода отсутствия матери. Другими словами, она смогла поддерживать свое эмоциональное равновесие на короткое время, найдя матери подходящую замену в виде отношений со взрослым один-на-один. Нужно подчеркнуть, что кризис воссоединения все еще бросает тень на движение ребенка в сторону эмоциональной константности объекта: прогресс довольно часто перемежается с регрессией, и в процессе расставания часто наблюдается амбивалентность, особенно когда «мать во плоти» все еще потенциально рядом.
Как правило, если в отношениях имеется значительная доля амбивалентности, материнские уходы провоцируют сильные реакции гнева и стремления к близости, которые могут как находить себе выражение, так и оставаться скрытыми. В таких условиях позитивный образ матери не может поддерживаться. Реакции трех детей на воссоединение со своими матерями также открывают разительно отличающиеся паттерны в развитии константности объекта. Первая маленькая девочка, которая, казалось, сохраняла позитивный образ матери во время отсутствия последней и которая была способна использовать игру и участие других людей для облегчения своего беспокойства, встречала мать улыбками. Она несла ей игрушки, приветственно махала ими и в целом казалась искренне обрадованной ее появлением. Маленький мальчик продемонстрировал отсутствие соответствующего аффекта, не выказав никакого удовольствия по поводу возвращения матери. Мать это прокомментировала так: ее сын по ней не скучал, «ему все равно». Когда вторая маленькая девочка увидела, что ее мать вернулась, она отреагировала с видимой амбивалентностью. Она начала гримасничать, затем попыталась улыбнуться, но выглядела обиженной и сердитой на мать. Поведенческие проявления, показатели этих вариаций в развитии эмоциональной константности объекта, становятся очевидными благодаря изучению отношений младенцев и тоддлеров со своими матерями на предыдущих субфазах сепарации-индивидуации.
Первой маленькой девочке повезло иметь оптимальное, а именно гибкое и прогрессивное отношение со стороны матери, изменявшееся в соответствии с потребностями предыдущих субфаз. Ее мать была терпеливой, понимающей и эмоционально доступной на первых двух субфазах, а когда подошел подходящий с точки зрения развития момент, она стала ненавязчиво поощрять у своей дочери независимость и автономное функционирование. Благодаря врожденным задаткам и оптимальному детско-материнскому взаимодействию на симбиотической фазе и на первых двух субфазах процесса сепарации-индивидуации, у этой маленькой девочки ко второму году жизни развилось базовое доверие, способность полагаться на мать и других людей и вторичный здоровый нарциссизм с хорошим уровнем самоуважения. Она однозначно продвинулась дальше, чем любой из ее сверстников в своем вторичном автономном эго-функционировании.
Как мы видели в вышеописанном примере, этот ребенок в возрасте 25—26 месяцев очень хорошо справлялся с отсутствием матери. Когда она спрашивала про мать, ее вполне удовлетворяли простые объяснения, где та находится. У нее как будто имелся здоровый и удовлетворяющий внутренний образ матери и внутрипсихическая репрезентация, которая была позитивной и заряженной доверием. Это обеспечивало превосходное автономное эго-функционирование, несмотря на легкий дистресс и «ожидание», вызванное материнским отсутствием.
Мы увидим, однако, что даже у этой маленькой девочки хорошо развитая константность либидинального объекта не могла сохраняться перед лицом тяжелой и концентрированной шоковой травматизации.
Мы были удивлены, увидев, с какой неохотой мать этой маленькой девочки восприняла тщательно обоснованную просьбу ведущего исследователя всем матерям удалиться в смежную комнату и позволить своим детям приходить и уходить по их собственному желанию. (Впервые нам стало очевидно, что эта женщина была доступна не оптимально, а фазонеспецифично и чрезмерно.)
По контрасту с этой матерью, которая стала чрезмерно доступной не только на субфазе воссоединения, но и вне ее, мать маленького мальчика (поведение которого мы вкратце описали выше) не смогла не быть непредсказуемой в своих установках и эмоциональном отношении к сыну. Мы наблюдали за ним после того, как его мать покинула комнату. Он казался полностью увлечен фантазийной игрой, временами выражение лица было серьезным, а иногда грустным, ему не хватало оживленности, соответствующей его возрасту, и он не вовлекался во взаимодействие с людьми. даже при всем этом автономное функционирование его Эго было великолепным. Другими словами, ему приходилось в основном и весьма преждевременно рассчитывать (что он и делал) на свою собственную автономность, очевидно, подавляя свою эмоциональную потребность в материнской поддержке.
Вторая маленькая девочка продолжала реагировать на уходы матери с большой тревогой; она становилась грустной, несчастной и отчужденной. В дни, когда это не доставляло ей такого беспокойства, она частично справлялась с трудностями, активно нянча куклу-младенца, т. е. посредством идентификации с матерью. В других случаях она сама превращалась в беспомощного младенца, постоянно что-то жуя, высматривая и прижимаясь к своему любимому наблюдателю (мужского пола) как к замене удовлетворяющей нужды матери или ища аутоэротического и нарциссического удовлетворения, например, яростно раскачиваясь на лошади-качалке или часто разглядывая себя в зеркале. Ее сепарационная тревога и гнев по отношению к матери привели в итоге к выраженной регрессии нарциссического типа.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Поскольку в этот период ребенок учится выражать себя вербально, мы можем проследить некоторые преобразования процесса внутрипсихической сепарации от матери и связанные с ним конфликты при помощи вербального материала, который мы от него получаем наряду с наблюдением за его поведения. Вербальная коммуникация, которая начала формироваться на третьей субфазе, быстро развивается на субфазе сепарации-индивидуации и постепенно замещает другие модели коммуникации несмотря на то, что язык жестов всего тела и аффектомоторика все еще присутствуют в репертуаре ребенка. Игра становится более целенаправленной и конструктивной. Начинает формироваться фантазийная игра, ролевая игра с использованием воображения. Наблюдения реального мира становятся более детальными и явно включаются в игру, а также возрастает интерес к товарищам по играм и «отличным-от-матери» взрослым. Начинает развиваться чувство времени (а также пространственные отношения), и наряду с этим возрастает способность терпеливо переносить отсрочку удовлетворения и продолжительную сепарацию. Такие концепты, как «позже» или «завтра», не только понимаются, но уже и используются детьми этого возраста: с ними экспериментируют, придавая особое значение, связанное с приходами и уходами матери. Мы видим много сопротивления требованиям взрослых, большую потребность и желание (часто все еще нереалистичное) автономии (независимости). Проявляющийся в это время мягкий или умеренный негативизм, который, очевидно, необходим для развития чувства идентичности, также является характеристикой данной субфазы. (Ребенок все еще пребывает в основном на анальной и ранней фаллической стадии зонального развития.)
Таким образом, четвертая субфаза характеризуется развертыванием сложных когнитивных функций: вербальной коммуникации, фантазии и тестирования реальности. В этот период быстрой дифференциации Эго, от 20—22-го до 30— 36-го месяца жизни, индивидуация происходит столь бурно, что даже поверхностное ее описание вышло бы за пределы этой книги (Escalona, 1968). Достаточно сказать, что установление ментальных репрезентаций Я как однозначно отдельных от репрезентаций объекта открывает путь к формированию самоидентичности.
В идеальных случаях во второй половине третьего года жизни либидинальные инвестиции сохраняют устойчивость при отсутствии немедленного удовлетворения и поддерживают эмоциональное равновесие ребенка, когда объект временно отсутствует.
В период нормального симбиоза объект нарциссического слияния ощущался как «хороший>>, т. е. в гармонии с симбиотическим Я, так что первичная идентификация проходила в рамках позитивной заряженности любовью. Внутрипсихическое осознание отдельности происходит скорее неожиданно, чем постепенно. Чем более вторгающимися и/или непредсказуемыми были родители, тем меньше влияния приобретает модулирующая, посредническая функция Эго. Чем менее предсказуемо надежным или чем более вторгающимся было эмоциональное отношение объекта любви из внешнего мира, тем больше объект останется или станет неассимилированным, чужеродным телом — «плохим» интроектом во внутрипсихической эмоциональной экономии (ср.: Heimann, 1966). Чтобы избавиться от этого «плохого интроекта», в игру вступают производные агрессивных влечений; таким образом, появляется тенденция к идентификации репрезентации Я с «плохим» интроектом или, по крайней мере, к их смешению. Если ситуация сохраняется на субфазе воссоединения, тогда может случиться прорыв агрессии, которая может затопить или заместить «хороший объект», а вместе с ним и хорошую репрезентацию Я (Mahler, 1971, 1972а). На это будут указывать бурные вспышки гнева и настойчивые попытки принудить отца или мать функционировать в качестве квазивнешних Эго. Коротко говоря, результатом этого может стать значительная амбивалентность, которая впоследствии будет препятствовать благополучному развитию в направлении эмоциональной константности объекта и здорового вторичного нарциссизма. Таковы последствия для тех детей, у которых слишком неожиданное и весьма болезненное осознание своей беспомощности привело к резкому распаду чувства собственного всемогущества, так же как и магического всемогущества, разделяемого с родителями, по Эдит Якобсон (Jacobson, 1954). Это те тоддлеры, кто в особенности на третьем году жизни проявляют склонность расщеплять объектный мир на <<хорошее» и <<плохое», для кого <<мать во плоти» (Bowlby, 1958), <<мать после сепарации» (Mahler, 1971) всегда несет в себе разочарование и у кого шаткая регуляция самоуважения.
Мы наблюдали, что многие из наших нормальных детей могли отпрянуть от матери или проявляли другие знаки того, что можно было проинтерпретировать как вид эротизированного страха по поводу соприкосновения с матерью, которая в ходе игры искала телесного контакта с ребенком. В то же время дети искали возможности устроить шумную возню с отцом и получали от этого удовольствие. Такие виды поведения, как мы полагали, были признаками страха быть поглощенными опасной «матерью после сепарации», от которой необходимо было защищаться и в чье всемогущество некоторые из этих детей все еще явно верили, несмотря на то что ощущали, что их матери не позволяют им более разделять с ними свою магическую власть (Mahler, 1971).
Одним из главных условий психического здоровья, если речь идет о преэдипальном развитии, является приобретенная и развивающаяся способность ребенка сохранять или восстанавливать свое самоуважение в контексте относительной либидинальной константности объекта. На четвертой, не имеющей однозначного окончания субфазе должны иметь свои исходные точки обе внутренних структуры — константность либидинального объекта и единый образ Я, базирующийся на подлинных эго-идентификациях. Однако мы полагаем, что обе эти структуры представляют собой лишь начало дальнейшего процесса развития.
«Внутренняя мать», т. е. ее внутренний образ или внутрипсихическая репрезентация, в ходе третьего года жизни должна стать более или менее доступной в целях поддержания комфорта ребенка во время ее физического отсутствия. Первым базисом для стабильности и качества этой внутренней репрезентации являются актуальные отношения мать—дитя, проявляющиеся в их повседневных взаимодействиях. «Внутренняя мать>>, очевидно, является результатом предшествующих трех субфаз, однако это не конечная точка. В части III мы более подробно опишем перипетии процесса сепарациииндивидуации на примере пяти детей и покажем, как это маленькое существо, на третьем году своей жизни готовое начать независимо функционировать в окружающем его огромном мире, старается справиться без физического присутствия матери с теми бурями, которые то и дело угрожают уничтожить эту хрупкую, недавно сформировавшуюся внутреннюю структуру относительной эмоциональной константности объекта.
Угрозы константности либидинального объекта и отдельному индивидуальному функционированию исходят из разных источников. Прежде всего ребенок испытывает давление созревшей сферы влечений, которое сталкивает его с новыми задачами по мере прохождения анальной фазы, сопровождающейся приучением к туалету. Затем, в связи с переходом на фаллическую фазу, ребенок гораздо яснее осознает половые различия, что вызывает у него кастрационную тревогу различной интенсивности.
Психоаналитикам очень хорошо известно, насколько велико разнообразие отрицания, фантазий, обвинений и страхов, с помощью которых ребенок пытается справиться с этими проблемами. для нас здесь важно проследить, как все это влияет на расцветающую константность либидинального объекта и либидинальные инвестиции Эго, проходящего процесс индивидуации.
Мы уже описали, как кастрационная тревога начиная со второй половины второго года жизни может препятствовать развитию и здоровой интеграции Я-репрезентаций (а возможно, прежде всего, образа тела) и может также мешать либидинально катектированным идентификационным процессам. Кумулятивная (в ходе развития) травматизация (ср.: khan, 1964) на анальной и особенно на фаллической фазах может формировать блок на пути развития константности объекта, а также предварительной консолидации детской индивидуальности.
Эти предшествующие и последующие события однозначно определяют линию поведения в трехлетнем возрасте и степень интеграции индивидуальности. Оба приобретения — консолидация индивидуальности и эмоциональная константность объекта — могут пошатнуться в связи с борьбой вокруг приучения к туалету, а также в связи с осознанием анатомических половых различий, наносящим удар по нарциссизму маленькой девочки и подвергающим большой опасности телесную целостность маленького мальчика.
К третьему году в жизни каждого ребенка формируется особая констелляция, которая является результатом накопления восприятий личности матери как оптимально или не очень эмпатичной, способной осуществлять материнскую заботу, на которую ребенок реагирует. Эта реакция распространяется на отца и всю психосоциальную констелляцию семьи ребенка. На эти реакции значительно влияют случайные, но иногда судьбоносные происшествия, такие как заболевания, хирургические вмешательства, несчастные случаи, сепарация с матерью или отцом, т. е. факторы опыта. Случайные события такого рода в каком-то смысле предопределяют судьбу каждого ребенка и являются материалом, из которого формируются бесконечно разнообразные, но в то же время бесконечно повторяющиеся темы и задачи его отдельно взятой жизни.
Далее мы опишем колебания между большей и меньшей эмоциональной константностью объекта у пяти детей, за чьим развитием мы наблюдали, начиная с конфликтов субфазы воссоединения вплоть до конца третьего года жизни. Мы проследим конфликты и борьбу каждого ребенка вокруг приобретения и поддержания константности либидинального объекта в течение четвертой субфазы. Мы попытаемся определить, в какой момент, если таковой существует, борьба, характерная
для субфазы воссоединения, заканчивается и
как разрешение кризиса воссоединения способствует или препятствует прогрессу в
сторону здоровой индивидуальности (самоидентичности) и объектной константности.
Мы также постараемся показать начало формирования и постепенное закрепление
свойственной каждому ребенку защитной структуры, а также его характерный стиль
адаптации, т. е. индивидуальные способы совладания с проблемами (см.: Mahler,
Mcdevitt, 1968).
РАЗВИТИЕ ПО СУБФАЗАМ
НА ПРИМЕРЕ
ПЯТИ ДЕТЕЙ
аблюдая процесс сепарации-индивидуации у большого количества детей, мы обнаружили бесконечные вариации в субфазном развитии в зависимости от врожденных задатков ребенка, отношений мать—дитя и жизненных обстоятельств на каждой субфазе. Приведенные ниже случаи показывают, в какие сложные констелляции складываются переменные, как, подобно узорам в калейдоскопе, изменяются паттерны, как в процессе индивидуации прогресс сменяется регрессом и как колеблется недавно обретенное ребенком, еще неустойчивое равновесие Эго и влечений во взаимодействии со матерью и расширяющимся окружающим миром.
ГЛАВА 8
рюс был одаренным ребенком, который столкнулся со значительными трудностями в материнско-детских отношениях. С самого его рождения мать транслировала малышу свою тревогу по поводу его сохранности. Случай Брюса представляет собой пример весьма успешной индивидуации вопреки значительным сложностям. Неблагоприятные обстоятельства уже в хронологическом возрасте симбиоза были замечены всеми наблюдателями. Изучение особенностей развития, которое проводилось между четвертым и пятым месяцами, показало, что взаимное сигнализирование в этой паре «мать—дитя» было весьма ненадежным. Как мать, так и ребенок были тревожными, напряженными, беспокойными, и им, очевидно, было друг с другом не слишком комфортно.
МАТЬ БРЮСА
Тревожность миссис А, казалось, превышала обычную озабоченность матерей по поводу своего первого ребенка. Поскольку она не находилась у нас в анализе и мы не знали о ее внутренних конфликтах по поводу материнства, мы не станем здесь описывать свои предположения по поводу ее фантазий относительно ребенка. Достаточно сказать, что у миссис А. имелась тревожная навязчивая потребность убедиться, что ее ребенок родился здоровым. Первые месяцы ее беременности были омрачены различными неблагоприятными обстоятельствами, и то, что Брюс родился естественным образом, с нормальным весом, в отличном состоянии, что он был весьма активен с момента рождения — все это не рассеивало материнской тревоги. Ни мать, ни ребенок не получали удовольствия от краткого периода кормления грудью. В ранние месяцы симбиотической фазы Брюса больше успокаивала пустышка, чем процесс кормления.
РАЗВИТИЕ БРЮСА ПО СУБФАЗАМ
Брюс был очень напряженным, неугомонным ребенком с гипертонусом, он с трудом устраивался у матери на руках. Он мог плакать вплоть до тяжелых «припадков», с которыми его мать с трудом справлялась. Это обстоятельство, а также его непреходящие нарушения ночного и дневного сна оказывали изнуряющее воздействие на миссис А. Брюса нельзя было ни успокоить, ни покормить в горизонтальной позиции; он не позволял себя укачивать до пятого месяца жизни.
Ввиду того, что у Брюса был такой беспокойный сон, миссис А. стала тревожиться и всегда была озабочена тем, что он «недостаточно спит». Очень часто она интерпретировала его беспокойство и нервное возбуждение как трудности засыпания и нередко безуспешно старалась уложить его спать практически насильно, хотя мы все замечали, что он внимательно разглядывал то, что его окружало, и не выглядел сонным. Выраженная настороженность Брюса и интерес к происходящему в Центре встречали противодействие со стороны матери, озабоченной тем, что он не высыпается.
У Брюса рано развилась социальная улыбка, которая в возрасте пяти месяцев переросла в специфическую реакцию улыбки, связанную с предпочтением матери. К этому времени он вырос в довольно крепкого, круглолицего маленького мальчика, который стал гораздо спокойнее. Благодаря хорошо развитым бедренным и икроножным мышцам он удерживал свою любимую вертикальную позицию; он любил цепляться ногами за колени матери. Это был легко возбудимый ребенок,
интересовавшийся игрушками, и это позволяло его матери чувствовать себя более расслабленно и счастливо.
Прежде Брюса описывали как очень беспокойного ребенка, склонного напряженно сосать соску, но к пяти месяцам его моторная активность постепенно стала более целенаправленной и уже меньше служила разрядке внутреннего дискомфорта. Он стал способен дольше самостоятельно играть и ожидать приема пищи. Он начал использовать свой рот не только для сосания, но и для исследования. Определенная нетерпимость к неожиданностям извне проявлялась в реакциях испуга на определенные звуки. Но несмотря на то, что он демонстрировал такую гипербдительность по отношению к резким громким шумам, в то же время он как будто развил повышенную терпимость к внутренним стимулам. В период от четвертого до пятого месяца Брюс проявлял радостное возбуждение при виде своей бутылочки, постепенно его возбуждение спадало, и между пятым и шестым месяцем он выказывал сходную реакцию, глядя на игрушки. Мы узнали, что он реагировал возбуждением, улыбками и гулением, когда слышал, что его отец вернулся домой. К возрасту пяти месяцев он также демонстрировал особую привязанность к своему одеялу, которое стало настоящим переходным объектом. Он гулил и агукал с восторгом, когда бы его ему ни давали. Его восприятие было выраженно аудиальным, т. е. он явно предпочитал звуковые стимулы. В возрасте пяти месяцев Брюс начал устраиваться с ббльшим комфортом, когда мать его укачивала. Несмотря на то, что малыш довольно редко улыбался в первые недели пребывания у нас, теперь он стал дружелюбным и улыбчивым.
На шестом месяце жизни в поведении Брюса стало появляться сравнительное «сканирование» людей и «сверка» их с матерью. Он по-прежнему плакал и впадал в перевозбужденное состояние перед тем, как неожиданно провалиться в сон.
Во время субфаз дифференциации и раннего практикования Брюс энергично обратился к окружающему миру. Казалось, он получал большое удовольствие от своих растущих моторных способностей. Но тот факт, что он, как и все нормальные дети, был относительно независим в период раннего практикования, заставил его мать почувствовать себя отвергнутой; в результате она не смогла предложить Брюсу себя для эмоциональной подзарядки. У нее опять появилась склонность интерпретировать его перевозбужденность, когда он уставал, и его потребность в ней как потребность во сне. Она непреднамеренно пыталась устанавливать дистанцию между ним и собой.
В это время, т. е. приблизительно в шесть-семь месяцев, у Брюса развились тяжелые реакции на незнакомых людей. Успокоить его могла только мать. Несмотря на то, что миссис А. это было приятно, временами даже она не могла утешить его, когда он был расстроен. Оптимальная дистанция между Брюсом и его матерью в ходе дифференциации и период раннего практикования выглядела так: Брюс мог играть с игрушками в манеже, в то время как миссис А. смотрела на него через комнату. Брюс часто поглядывал на мать, и она говорила, что никогда бы не подумала, что «смотреть за маленьким ребенком может быть таким удовольствием».
В период раннего практикования Брюса приводили в восторг его открытия. Его растущий интерес к окружающему миру, казалось, помогал ему преодолеть более ранние реакции на незнакомцев. Он пребывал в приподнятом настроении. Сначала ему нужно было сидеть у матери на коленях, чтобы привыкнуть к незнакомцу, но его интерес к миру проявлялся все больше и больше. Ему нужно было совсем немного физического контакта с матерью; он подзаряжался уверенностью на расстоянии, просто глядя на нее и подавая голос.
Когда Брюсу исполнилось девять месяцев, его мать забеременела снова. В то же самое время она, видимо, стала нетерпелива по отношению к Брюсу, особенно если он извивался во время смены пеленок. Известие о ее беременности последовало практически сразу за разговором, в котором миссис А. сообщила о своем желании вернуться на работу. Новая незапланированная беременность, казалось, активизировала конфликты и тревожность матери, что отразилось на ее отношениях с сыном. Миссис А. теперь жаловалась, что никогда
не знает, чего хочет Брюс; она часто давала ему еду вместо себя. Примерно в девять месяцев у Брюса развилось кратковременное, но тяжелое нарушение пищевого поведения. Миссис А. жаловалась на трудности с купанием, пеленанием и одеванием сына. Он, казалось, боролся за то, чтобы избежать попадания в горизонтальное положение или необходимости вести себя тихо, т. е. пассивно. Миссис А. начинала на него покрикивать, а затем чувствовала себя виноватой за свой гнев. Мы полагали, что поведение миссис А. по отношению к Брюсу было смещением на него гнева, ощущаемого ей в связи с новой беременностью, по поводу которой она регулярно жаловалась и из-за которой испытывала сильный физический дискомфорт и постоянную тошноту.
В это время, когда Брюсу было около 10 месяцев, она считала, что обязана дать ему понять значение слова «нет». Казалось, что в это время, в период ее собственного кризиса, она не могла позволить Брюсу быть индивидом со своими собственными правами; она хотела, чтобы он оставался пассивным, подконтрольным придатком своих родителей.
Брюс отреагировал на перемены в своей матери тем, что у него пропало удовольствие от своих занятий. Вместо ползания и манипулирования предметами он начал стараться подниматься, удерживая положение стоя (что напоминало о его более ранних паттернах, когда он в основном находился на коленях у матери). В этом возрасте позиция стоя очень способтвует чувству гордости и благополучия у ребенка. Однако в случае Брюса позиция стоя, казалось, способствовала понижению настроения. Мы можем предполагать, что это происходило, потому что он был не способен без посторонней помощи снова сесть или опуститься на четвереньки. Кроме того, вертикальная поза, возможно, заставляла его чувствовать себя более уязвимым относительно образа его тела и его телесных ощущений. Это, без сомнения, повлияло на то, что у Брюса возобновилась настороженность по отношению к незнакомым людям и снизилось удовольствие от самостоятельной игры. Как бы то ни было, несмотря на это временное нарушение, когда он перешел немного позже на собственно период практикования, Брюс продемонстрировал основные характеристики этой субфазы. Он получал большое удовольствие от окружающего мира, был в восторге от своих развивающихся функций и в 10—14 месяцев был способен переносить краткие периоды сепарации от матери.
Пик периода практикования как такового совпал по времени с летними отпусками, поэтому мы видели Брюса лишь однажды во время домашнего посещения. Когда он возвратился с каникул в возрасте 14 месяцев, он начал демонстрировать поведение, типичное для периода раннего воссоединения, что для него было весьма преждевременно. У него обострилась чувствительность к тому, где находилась мать, он получал удовольствие, делясь с ней всем, что имел, особенно едой. Опять вернулись тревожные реакции на все незнакомое, и ему нужно было некоторое время посидеть у матери на коленях, прежде чем он мог начать играть вместе с другими детьми. Поскольку воссоединение началось так рано, мы видим в этом случае слишком сильное (не оптимальное) взаимное наслоение характерных черт субфаз практикования и воссоединения.
В конце концов, миссис А. как будто смирилась со своей новой беременностью и лучше настроилась на нужды Брюса. В то же время она стала очень тревожной и неотступно следовала за ним, следя за каждым рискованным шагом во время его прогулок и лазанья.
Постепенно Брюс стал больше осознавать материнское отсутствие в комнате. Он играл возле ее пустого стула и иногда начинал плакать, когда дверь открывалась и кто-нибудь еще, а не мать, входил в комнату. В целом, материнско-детские отношения в ранние месяцы периода воссоединения были довольно позитивными. Однако ближе к окончанию своей беременности миссис А. быстро уставала, делалась подавленной и раздраженной. Она опять начала тяготиться Брюсом. Она делала сравнения не в его пользу с другими детьми в Центре и сократила с ним контакт. Вначале Брюс, казалось, попытался помочь себе сам; например, он начал самостоятельно есть. Он стал выражать запросы косвенным образом; он попадал в опасные ситуации, вынуждая мать его спасать. Но в конечном итоге, в его поведении стало проявляться пассивное соглашательство. Он стал более прилипчивым и депрессивным.
Брюсу было 16 месяцев, когда родилась его маленькая сестра. Изначально он старался справляться с этим событием, избегая видеть мать с новым ребенком, просто глядя в сторону. Но ко времени, когда сестре исполнился месяц, его механизм избегания уже не срабатывал; он стал более депрессивным, был не способен получать удовольствие от самостоятельных занятий, был тихим и подавленным. Он тревожно льнул к своей матери и не выпускал ту из виду, как будто боялся, что она его может покинуть. В этот момент миссис А. осознала депрессию Брюса; она стала больше за него беспокоиться и стала с ним более терпеливой и дающей.
Скачкообразные прогресс и регресс в отношениях Брюса с его матерью, казалось, прекратились, когда на 19-м месяце случился поворотный момент в его развитии. Он преодолел свою депрессию и начал находить много удовольствия в игре и в своих отношениях с другими людьми. Брюс научился пользоваться речью. Способность говорить стала для него огромным подспорьем, поскольку теперь он мог облечь в слова свое активное любопытство и интерес к миру. В случае этого ребенка не совсем понятно, стало ли раннее овладение языком достижением в ходе созревания, которое затем сделало более легким обращение к внешнему миру, что в чем-то схоже с моделью преждевременного созревания локомоции, или же его обращение к окружающему миру и другим людям помогло ему научиться говорить. Это, вероятно, было обоюдно направленным процессом. В течение 19-го и 20-го месяцев жизни Брюс преодолел свои ранние сильные реакции на сепарацию. Он стал чрезмерно, возможно, реактивно независим. Казалось, его меньше беспокоило присутствие маленькой сестры, он нашел для нее имя и получал некоторое удовольствие, помогая о ней заботиться; другими словами, он стал «идентифицироваться с активной матерью». В центре он был очень привязан к комнате тоддлеров и многим людям, получал удовольствие от общения как со взрослыми, так и с другими тоддлерами и с большой охотой участвовал во всех занятиях.
Кризис воссоединения у Брюса получил свой особенный оттенок по причине рождения сестры, а также в связи с тем, что мать периодически теряла с ним контакт из-за своей беременности и нетерпеливости по отношению к нему.
Разрешение кризиса воссоединения произошло у Брюса неожиданно и на некоторое время вполне успешно. Казалось, для него это произошло не путем нахождения каких-то компромиссов с матерью (даже несмотря на то, что он идентифицировался с активной матерью), но скорее посредством дезидентификации с ней, в терминологии Гринсона (ср.: Greenson, 1968), при помощи обращения к отцу. Мы, конечно, не могли это наблюдать непосредственно в нашей обстановке, но вскоре вполне смогли реконструировать из символической игры Брюса и вербального материала. (Он <<готовил» для своего отца, вел с ним воображаемые телефонные беседы и т. п.) Его отношения с матерью были часто слишком амбивалентными, и он справлялся с этим, игнорируя ее и прекращая с ней контакт. Он был, например, склонен разделять приятные аспекты своей жизни не с ней, а с другими людьми. Мы полагали, что такое прерывание контакта с матерью может быть лишь временным решением и что ранняя сепарационная борьба вполне может возобновиться позже [34] .
Наличие у Брюса многочисленных ресурсов и врожденные задатки помогли ему адаптироваться к трудностям в отношениях мать—дитя. С другой стороны, его слабые места, весьма вероятно, являлись производными, по крайней мере, частично, от конфликтов, свойственных этим отношениям, потребности так рано (18—19 месяцев) отстраниться от близкого контакта с матерью и его тенденции столь сильно полагаться на собственные ресурсы к концу субфазы воссоединения.
ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ БРЮСА
В начале третьего года жизни Брюс был серьезным маленьким мальчиком, отличавшимся большой настойчивостью во всем, что бы он ни делал. даже несмотря на то, что иногда он казался подавленным, он был всегда активен и постоянно чем-то занят и заинтересован. Он любил комнату тоддлеров и чувствовал себя вполне комфортно, играя там. Объем его внимания был значительным. Игра представляла для него особую значимость не только как символическое разыгрывание своей собственной реальности, но и как средство, при помощи которого он устанавливал отношения с людьми. Когда ему кто-то нравился, ему недостаточно было просто быть рядом с этим человеком, он хотел с ним играть. Что касается его матери, то он хотел, чтобы и она с ним играла или читала ему.
Казалось, что на настроение Брюса в начале третьего года его жизни практически не влияло отсутствие или присутствие его матери. Он не обращал на нее особого внимания, когда она находилась в комнате тоддлеров. Когда ее там не было, а он проявлял признаки потребности в ней, то он был склонен отгораживаться от подобного ожидания тем, что быстро вовлекался в игру.
Брюс особенно любил, чтобы ему читали. Таким образом, он мог находиться близко к кому-нибудь (сидя рядом с этим человеком или у него на коленях) и в то же время удовлетворять свой неубывающий активный когнитивный интерес к миру. Его когнитивное развитие было очень многообещающим; он проявлял большой интерес к последовательностям вещей и событий. У него определенно было чувство времени и ритма в игровой комнате, где одна деятельность сменяла другую (развивая чувство времени). Он обычно начинал день тихо, но по мере того, как он вовлекался в деятельность, он постепенно становился более оживленным. Иногда его активность была чрезмерной, особенно в ходе живой игры с другими детьми, включая шумную имитационную деятельность. Он получал удовольствие от рисования; он часто ставил кляксы на бумагу кисточкой или энергично двигал ей вверх и вниз в емкости для краски, тем самым выражая свои активные агрессивные влечения.
Брюс обнаружил свой пенис на 10-м месяце и, казалось, мог его трогать и обращаться с ним без переживания каких-ли60 внутренних конфликтов. На третьем году жизни, однако, в его поведении появились признаки страха кастрации и однозначные проявления анальных конфликтов. Иногда при возникновении позывов к дефекации он искал близости матери, но в другое время он сопротивлялся материнскому вмешательству, ее попыткам помочь ему с туалетом или переодеть подгузник. Он проявлял интерес к тому, как вещи ломались или как от них отсоединялись какие-то части и как их можно было починить или собрать.
Казалось, что для Брюса игра имеет эффект подзарядки уверенностью; она, вероятно, помогала ему справиться с тем, что его беспокоило. Он любил играть с поездами, особенно провозить поезд сквозь туннель. Таким образом он мог проработать свой интерес и озабоченность по поводу того, что вещи приходят и уходят, а люди появляются и исчезают.
Следующие примеры демонстрируют, как тщательное, психоаналитически ориентированное наблюдение поведенческих и игровых последовательностей позволяет нам делать умозаключения о внутренних процессах, в данном случае относительно отдавания фекалий, потери частей целого объекта, утери частей тела и, вероятно, относительно временной потери и восстановлении объекта любви — все символически отыгранное в игре и выраженное словами.
Одним утром после опорожнения кишечника в подгузник Брюс начал искать свою мать. Когда он не смог ее найти, он подобрал книжку о поездах, свою любимую; он указал на картинку и начал говорить о вагоне с углем, которого не было на этой самой картинке. Он знал, что в составе поезда был вагон с углем, хотя он не был показан. Подобным образом, он только что искал свою мать, но не нашел ее. Также он опорожнил кишечник, содержимое которого ощущал у себя в подгузнике, но не мог его видеть. Затем он нашел другую книжку и посмотрел на картинку семьи. Он указал и назвал отца
и мальчика, но не назвал девочку и маму, которые были на картинке. Затем он пошел к игрушечному почтовому ящику, указал на открытую на ящике заслонку и затем четко произнес: «ду-ду» (делать-делать — произвести дефекацию). Затем он стал играть с полыми кубиками, помещая меньший в больший (как бы пряча его) и затем расставляя их по порядку. Затем он посмотрел в окно, где часто видел мальчишек, играющих во дворе, и сказал «мальчик», несмотря на то, что никто во дворе в тот момент не играл. Он привлек внимание наблюдателей ко всем элементам этой фантазии, принадлежащим <<синкретическому целому», которое в тот момент подразумевалось и было неочевидно или невидимо. Таким образом, такой свободной ассоциативной последовательностью слов и действий он обнаружил свою озабоченность по поводу недостающих частей-объектов или целых-объектов, в особенности отсутствующего объекта любви — своей матери.
Брюсу нелегко давалось выражение своих потребностей напрямую; он прикасался к своей матери, в то же время избегая смотреть на нее. Многое сигнализировало о том, что и мать, и ребенок старались улучшить свои отношения, но их попытки были осторожными и невнятными.
Брюс проявлял свою потребность в заботе и свою «идентификацию с активной матерью», играя с игрушечными животными; он кормил их пластилином, подражая матери, которая кормила его маленькую сестру, его самого и отца. Он часто разыгрывал приготовление еды для своего отца или телефонные беседы с ним; он был также способен показать свою потребность в матери более открыто, высматривая ее в детской комнате.
В начале своего третьего года жизни Брюс практически не выказывал ревности к сестре, когда находился рядом с ней; наоборот, он как будто был рад ее видеть, когда она приходила в комнату тоддлеров. Он часто получал удовольствие от игры с ней, когда приходил в детскую, где она обычно находилась (пока ей не исполнился год). Казалось, он стремился поделиться с ней своим «имуществом». Вместо прямой конкуренции с сестрой Брюс соперничал со своими товарищами по играм.
В комнате тоддлеров он обычно хотел всецело завладеть вниманием воспитательницы, особенно когда она занималась другим ребенком. Если она, например, читала ему книжку, и ее отвлекал другой ребенок, Брюс косвенным образом требовал ее возвращения, притворяясь, что очень громко читает книгу, которую она ему оставила. Еще недавно он был очень щедрым по отношению к своим приятелям по игровой, а теперь отказывался делиться. Подавление агрессии в адрес сестры началось очень рано на субфазе воссоединения и, казалось, имело структуру настоящего защитного механизма вытеснения (см.: Mahler, McDevitt, 1968). Это сдерживание агрессии заодно распространялось и на других детей; будучи некогда способен постоять за свое в борьбе за право обладания, теперь он пассивно позволял забирать у себя вещи.
Мать Брюса казалась в целом довольной своим сыном. В некоторых областях взаимодействия, однако, она по-прежнему пыталась обращаться с ним как с пассивным младенцем, а не как с растущим маленьким мальчиком. Это было особенно заметно, когда она меняла ему подгузники: в отличие от других матерей мальчиков этого возраста, она продолжала класть Брюса в горизонтальную пассивную позицию вместо того, чтобы поменять ему подгузник стоя или во время игры.
Мы предполагали, что хорошее автономное эго-функционирование Брюса, которое проявлялось в его речи, манере обращения с объектами и его конструктивной целеориентированной активности, было результатом выдающихся врожденных способностей, а также его отношений с отцом и идентификации с ним. По вечерам Брюс с нетерпением ожидал возвращения отца домой задолго до его обычного времени прихода. Когда отец приходил с работы, они проводили много времени вместе, и отец его многому обучал. Как упоминалось ранее, хорошие отношения с отцом, очевидно, помогли Брюсу в формировании его гендерной идентичности (Mahler, 1958b; Stoller, 1973; см. также главу 6). Миссис А. продолжала самоустраняться от контакта с сыном. Теперь, на третьем году жизни мальчика, она открыто отделяла мужественность (или маскулинность) от женственности (или фемининности): она заявила, что Брюс и его отец оба были интеллектуальными, в то время как она и ее дочь были эмоциональными.
Подводя итог, можно сказать, что кризис воссоединения у Брюса достиг своего пика на втором году жизни к моменту рождения его младшей сестры. Затем у него был период, когда он ощущал себя несчастным и демонстрировал очень выраженное прилипчивое поведение. После этого он как будто разрешил свой кризис воссоединения, подавляя свои враждебные чувства по отношению к сестре (отрицание) и не придавая значения приходам и уходам матери (Mahler, McDevitt, 1968). Вместо этого он обратился к другим людям, в основном к своему отцу, а также к товарищам по играм и наблюдателям в Центре, и занялся эго-активностью, такой как конструктивная и символическая игра. Такова была картина, которую мы наблюдали в начале третьего года жизни Брюса.
Такой весьма неустойчивый баланс в эмоциональной жизни Брюса не мог сохраняться под влиянием требований и внутренних давлений, возникающих на третьем году жизни. Частично эти давления были психосексуальными, связанными с возросшим осознанием анатомической разницы между полами и с борьбой вокруг приучения к туалету. Давление возникало и в другой области — в неустойчивых отношениях между Брюсом и его матерью. Когда Брюсу было 27 месяцев, миссис А. вернулась на работу с неполной занятостью (она была учителем). Он умолял ее остаться дома и плакал, когда она уходила. Няня рассказывала, что после ухода матери Брюс плакал не очень долго, но просился поспать (регрессия), чего с ним не случалось в других ситуациях. Это поведение напоминало о том факте, что миссис А. часто интерпретировала претензии Брюса на внимание на субфазе дифференциации (5—10 месяцев) как признаки желания спать и пыталась его укладывать насильно.
В следующие месяцы, последовавшие за ее выходом на работу, миссис А. рассказывала, что Брюс казался раздражительным, несчастным и часто злился дома. Она ничем не могла его удовлетворить и чувствовала, что он ее провоцирует. Она связывала такое поведение Брюса с тем, что он был неудовлетворен собой из-за приучения к туалету[35] . С точки зрения сепарации-индивидуации, поведение Брюса казалось характерным для субфазы воссоединения, когда ребенок периодически жаждет вернуться на симбиотическую фазу. Конечно же, этого невозможно достичь, выйдя за пределы хронологического возраста симбиоза. Ребенок теперь функционирует на более высоком уровне Эго. Тот факт, что он способен стремиться в «потерянный рай», формировать желание, в терминологии Макса Шура, сам по себе утверждает его раз и навсегда в качестве отдельного существа.
Ситуация с сестрой усиливала дистресс на четвертой субфазе сепарации-индивидуации. В начале третьего года его жизни девочка начала ходить; она приходила в игровую, как и полагается тоддлеру, требуя и получая изрядную долю внимания. Брюс был этим недоволен и реагировал на ее присутствие, пытаясь ее игнорировать (отрицание) так же, как он игнорировал свою мать. Более того, как только его сестра стала оставлять мать как «домашнюю базу» и начала предпочитать пребывание в комнате тоддлеров, Брюс спешил заново занять освободившуюся «домашнюю базу». Он немедленно направлялся к матери, и они погружались в эмоциональное общение.
для Брюса воспитательница из игровой всегда была самым важным человеком в Центре. Но когда его сестра стала приходить в комнату тоддлеров, направляясь прямо к воспитательнице и забираясь к той на колени с однозначными ожиданиями безусловного принятия, Брюс предпочитал возвратиться к матери, а не конкурировать с сестрой за благосклонность воспитательницы. То, что Брюс снова обрел доступ на освободившиеся колени матери, помогло ему получить дополнительную либидинальную подпитку от нее в этот момент, что, возможно, способствовало преодолению интенсивных реакций на ее возвращение на работу.
Между 32-м и 33-м месяцами Брюс начал привыкать к присутствию сестры в комнате тоддлеров. Приходя в игровую после прибытия в Центр, он демонстрировал весьма интересный и выразительный ритуал — с гордостью показывал то, что было на нем надето, особенно штанишки. Он недвусмысленно давал понять воспитательнице, что хотел, чтобы она начала им восхищаться еще до того, как он переступит порог. Это желание получить восхищение, особенно по поводу его одежды, штанишек, по поводу его принадлежности к мужскому полу, казалось, согласовывалось с его тенденцией защищать себя и то, что ему принадлежит, более активным фаллическим способом и отражать атаки других мальчиков его группы, если они были по отношению нему агрессивны. Главная борьба все еще разворачивалась вокруг анальных конфликтов. Под воздействием процесса приучения к туалету и кастрационной тревоги кризис воссоединения снова возник и достиг своей кульминации во временных нарушениях константности объекта, особенно в специфическом замешательстве по поводу того, где находится мать.
Брюс знал, что временами его мать спускалась на цокольный этаж, чтобы попить кофе с другими матерями. В моменты временнбго замешательства Брюс мог сказать «Я хочу пойти вниз (на цокольный этаж) повидать маму», даже несмотря на то, что ему было известно, что мать находится наверху, где он видел ее буквально минуту назад. В другой раз он изъявил желание увидеть мать в детской комнате, хотя знал, что в тот день ее не было в Центре.
Аналогичное наблюдение было сделано однажды, когда мать Брюса попросила его пойти домой с ней и маленькой сестрой, которую она держала на руках. Несколькими минутами позже, когда он был готов идти, у миссис А. больше не было на руках младенца, и Брюс выглядел сбитым с толку, потому что ожидал, что девочка все еще будет там. Он немедленно развернул неистовые поиски своей сестры, как будто боялся, что она исчезла. Его растерянность по поводу ее местонахождения ясно указывает на то, что именно агрессивные чувства и фантазии Брюса были основой его временного расстройства ориентации. Ему обычно хорошо удавалось отрицание и, как мы полагали, даже вытеснение агрессии.
В отношении мальчика к матери происходили колебания: временами Брюс игнорировал ее, а иногда он был не готов от нее отделиться. Он также реагировал непредсказуемым образом на наблюдателя из игровой. Временами он казался очень близок с ней, прекрасно проводил с ней время и с нетерпением ожидал совместных игр. В другое время он мог неожиданно повести себя так, как будто не знал ее вообще.
К возрасту 33 месяцев Брюс развил тенденцию настаивать на том, чего ему сильно хотелось. То, каким образом он вцеплялся в некоторые свои приобретения, вещи, которые имели определенно символическое значение, позволило нам предположить, что он был озабочен сдерживанием движений кишечника, что, в свою очередь, было связано с кастрационной тревогой. Брюс любил проделывать дырки в пластилине, затем закрывал их и говорил с большим облегчением: «дырки все пропали». Он привязывался то к одной, то к другой игрушке, которая на время становилась его главным сокровищем. Он носил их с собой повсюду и никому не давал. Он проявлял особенный интерес к открыванию и закрыванию шкафчиков в кукольном домике, клал внутрь разные вещи и снова вынимал их. Брюс с большой неохотой ходил в туалет, таким образом, придерживаясь своего паттерна избегания ситуаций, провоцирующих тревогу. Казалось, что ситуация вокруг приучения к туалету вовлекала его в частично интернализированную борьбу. Он привлекал внимание матери только после того, как намочил или запачкал свой подгузник, и затем настаивал на том, чтобы его переодели. Однажды, придя в Центр утром, миссис А. сообщила, что Брюс не мочился и не испражнялся с вечера. Мальчик казался напряженным, озабоченным и ни на что не реагировал. В конце концов, он опорожнил кишечник и, после того как мать сменила ему подгузник, опять начал улыбаться, почувствовал себя свободно и стал нормально общаться.
Вслед за этим эпизодом в один выходной Брюс осуществил дефекацию в туалете у себя дома, куда был отведен по собственной просьбе, но затем опять вернулся к подгузникам и какое-то время еще настаивал на том, чтобы их ему поменяли. После этого последовал период, когда он испражнялся в подгузник, но отрицал, что фекалии были там, хотя и мог неуклюже проходить все утро. Когда его мать хотела заменить ему подгузник, он энергично ей возражал, хотя не сопротивлялся физически. (Наблюдатели неоднократно удивлялись его пассивной манере поведения, когда мать подхватывала его на руки.) Оставшуюся часть месяца Брюс не хотел, чтобы ему меняли подгузники после того, как он их испачкал или намочил. Вероятно, в этот момент конфликт между пассивностью и активностью стал частично интернализованным. Этот конфликт вокруг приучения к туалету был активизирован двумя факторами: (1) Брюс не получал достаточного одобрения и поддержки от матери во время приучения к туалету и (2) его мать достаточно жестко обращалась с его телом, таким образом усиливая страх Брюса попадать ей в руки.
В игре Брюса наблюдались признаки того, что его интерес к появлению и исчезновению объектов, по крайней мере частично, определялся озабоченностью по поводу утери частей тела. Это казалось комбинацией кастрационной тревоги и озабоченностью по поводу потери фекалий. К концу третьего года жизни Брюс все еще не был приучен к туалету. Несмотря на то, что в целом он был весьма толерантен к другим детям и готов с ними делиться, был один случай, когда он изо всех сил настаивал на том, чтобы оставить себе три коробки мелков. Ему требовались они все: он вынимал мелки из коробки, клал обратно и, наконец, засовывал их все внутрь молочного грузовичка. Когда все мелки оказывались в грузовичке, Брюс говорил: «Все исчезли». Затем он открывал дверцу, чтобы удостовериться, что они все еще были там.
Одна игровая последовательность представляла особый интерес. Наблюдатель за игровыми сессиями предложила сделать что-нибудь для Брюса из пластилина. Он хотел, чтобы она сделала зебру. Когда она спросила, что такое зебра, он сначала сказал, что у нее есть хвост, потом, что у нее есть вымя, и, наконец, что у нее есть полоски. Он притворялся и разыгрывал,
что зебра ее кусала; затем он утешал ее, держа ее руку у себя под мышкой. Здесь он выражал в игре конфликтные чувства — желание причинить боль, может быть, даже избавиться от человека, а затем желание держаться поближе и уцепиться покрепче. Игра, казалось, включала два аспекта оральной активности: кусание (оральную агрессию) и инкорпорацию (которая частично служила утешению и успокоению).
Несмотря на интенсивно переживаемые конфликты и периодическую неустойчивость объекта, к концу третьего года жизни Брюс явно вступил на фаллическую фазу. Это достижение, тем не менее, было весьма неоднозначным. В то время как он стал более уверенным и гораздо более активным, он уже не играл с игрушками так последовательно и конструктивно, как раньше. У него появилась склонность разбрасывать повсюду вещи и впадать в возбуждение. Прежде у него был необычайно большой объем внимания, чего о нем нельзя было сказать теперь. Новые особенности его игры и поведения в целом казались четко связанными с тем фактом, что игра часто затрагивала болезненные, частично интернализированные конфликты. Как только в его деятельность вмешивались эти конфликты, он оставлял это занятие, например, он не любил, когда ему что-то напоминало ситуацию «мамочка— младенец». Также не нравились ему ситуации, когда что-то ломалось. Избегание болезненных ситуаций весьма походило на более раннее избегание Брюсом возможной ссоры (конфликта) с матерью.
Несмотря на то, что в некотором смысле Брюс стал более уверенным, его по-прежнему беспокоили ситуации, в которых ему приходилось бы просить о внимании, из страха, что он его не получит. В таких случаях он был склонен выражать запрос косвенным образом. Например, когда его наблюдатель приходила в комнату, по нему было видно, что он хотел с ней поиграть; но вместо того, чтобы попросить поиграть или подойти к ней, он выходил из комнаты, оборачиваясь, чтобы проверить, пойдет ли она за ним. Казалось, это было утонченной формой высокосимволичного уровня неожиданных побегов субфазы воссоединения, описанных в главе 6.
Одна область, в которой Брюс был более уверен во второй половине третьего года жизни, была связана с защитой того, что ему принадлежало, когда кто-либо угрожал это забрать. Фаллический энтузиазм Брюса, который временами проявлялся в гиперактивности, отчасти был подлинным восторгом от собственных растущих способностей, с примесью фаллического возбуждения. Он часто выглядел очень общительным и счастливым. Он был склонен лидировать в игре. Он мог достаточно ясно выражать свои желания и, казалось, получал удовольствие от слов и вербальной коммуникации. Как уже говорилось, он отличался высоким уровнем осознания мира вокруг и эмоционально участвовал в том, что наблюдал. Однако иногда его возбужденность и гиперактивность явно имели защитный характер.
К концу третьего года жизни, когда Брюс начал ходить в детский сад, мы были настроены весьма оптимистично по поводу его потенциала развития и полагали, что у него имеется солидный базис для развития автономии и отношения к объектам, людям и всему остальному. У нас имелись также определенные опасения по поводу его возможной склонности к депрессии и пассивности.
ГЛАВА 9
ДОННА
есмотря на благоприятный симбиотический период и «идеальное>> отношение со стороны матери, Донне непросто давался процесс сепарации-индивидуации. Хотя казалось, что возможности ее матери возрастали пропорционально меняющимся в ходе развития потребностям ребенка, у донны развилась ранняя и довольно сильно выраженная сепарационная тревога. Она как будто шаг за шагом теряла способность полагаться на собственные ресурсы и доверие к «нематеринской» стороне мира. Вплоть до 14 месяцев она была во всех отношениях самым способным ребенком в Центре и вполне хорошо функционировала во время повседневных непродолжительных разлук с матерью. Однако несмотря на то, что константность объекта у донны сформировалась раньше, чем у других детей, процесс привыкания к расставаниям с матерью протекал весьма болезненно.
МАТЬ ДОННЫ
Длительное время все наблюдатели проекта считали миссис Д. отличной матерью. Маленькие дети в Центре обычно предпочитали именно ее в качестве замены своим матерям. Только впоследствии мы поняли, что в отличие от других матерей, которые в период первого активного дистанцирования со стороны ребенка мягко подталкивали своих «готовых опериться птенцов», мать донны этого не делала. Не получая ненавязчивой поддержки своих попыток дистанцироваться, Донна, вероятно, ощущала бессознательные сомнения своей матери в том, что дочери удастся справиться самостоятельно. Это однозначно внесло вклад в формирование большей, чем обычно, ранней зависимости от материнского одобрения и неодобрения (очень ранние предшественники Супер-Эго).
РАЗВИТИЕ ДОННЫ ПО СУБФАЗАМ
Донна была желанным ребенком, и оба родителя хотели девочку. Мать комфортно чувствовала себя с ней с самого рождения и кормила ее грудью в течение двух месяцев. В возрасте от четырех до пяти месяцев, на пике симбиоза, настроение донны в основном выражалось в спокойной и расслабленной удовлетворенности происходящим. Мать и ребенок были хорошо настроены друг на друга и совпадали по темпераменту обе спокойные и немного серьезные. О превосходных природных способностях донны можно было судить по тому, как она развлекала себя в манеже, лепеча и изучая «отличных-от-матери» людей. Сравнительное сканирование также началось на пятом месяце ее жизни. Она выражала свою специфическую привязанность к матери, улыбаясь ей чаще, чем остальным. Когда она уставала, ее энергетические запасы быстро восстанавливались после краткого пребывания у матери на коленях. Когда ее держали наблюдатели, она, напротив, как будто становилась более спокойной. Иногда у нее наблюдалась мягко выраженная реакция на незнакомых, но в целом она не возражала, когда ее брал на руки наблюдатель, и начинала «осматривать» подбородок, рот и нос последнего. Трудности засыпания отмечались на пятом-шестом месяцах жизни, сообщалось о ее ранней разборчивости в еде. Донна рано начала ползать и часто использовала этот навык, чтобы уползти от матери и исследовать окружающий мир. В отличие от большинства других детей, в начале периода дифференциации Донна не проявляла особого возбуждения или удовольствия. У нее не отмечалось колебаний настроения; как правило, она была спокойной и уравновешенной.
Во время предварительной обработки данных за семивосьмимесячный период отмечалось, что Донна не принадлежала к тому типу детей, которые поднимают большой шум вокруг своих желаний. Возможно, между этой ее особенностью и тем, что матери нужны были лишь минимальные сигналы от донны, была определенная связь: Донне просто не требовалось быть настойчивой, чтобы получить то, что она хотела. Уже с шестого месяца в ее поведении наблюдалось зарождение осознания своей отдельности. У нее появились умеренные реакции на посторонних людей.
На седьмом месяце Донна использовала свою развивающуюся способность ползать не только для удовольствия от деятельности, но и также для того, чтобы получить игрушки и дистанцироваться от матери. К восьмому месяцу ее ранние реакции на незнакомцев сошли на нет, и она стала активно интересоваться своими отцом и братом, а также мальчиком ее возраста, который тоже посещал Центр. Когда матери не было в комнате, у донны наблюдалось явное снижение настроения, и она не так хорошо, как обычно, справлялась с различными задачами. После воссоединения с матерью ее активность становилась чрезмерной. Мать однозначно являлась для Донны центральной точкой, от которой начинался отсчет все расширяющегося круга ее деятельности.
Примерно в это время Донна заинтересовалась своим отражением в зеркале и начала дотрагиваться до него. В восемь месяцев у нее все еще были трудности с отходом ко сну. Ее мать связывала это с тем, что отец возвращался домой вечером, и Донна ждала его, чтобы поиграть. Ее привычка избирательно есть сохранялась. Ее реакции на незнакомцев стали более выраженными, чем в предыдущие месяцы, в них отмечались качественные отличия: когда ее держал человек <<отличныйот-матери», она смотрела вниз, на пол, избегая взгляда в лицо. Даже если она была у матери на коленях, люди «отличные-отматери» казались ей угрожающими, когда подходили близко.
Когда Донне было 9—10 месяцев, семья предприняла поездку за город, где Донной занималось множество людей. Впоследствии в Центре у девочки возникли сильные реакции на сепарацию. Когда матери не было в комнате, Донна часто поглядывала на дверь и обыскивала комнату глазами. Она расстраивалась, если что-то напоминало ей о матери: например, когда она видела, что кто-то еще, а не мать, заходит в комнату, когда она видела свое отражение в зеркале без материнского рядом или когда она обнаруживала, что кто-то другой сидит на стуле матери[36] . Если она смотрела на лица наблюдателей, у нее возникало что-то похожее на реакцию на незнакомцев, и когда мать возвращалась в комнату, Донна периодически смотрела ей в лицо, как бы заново обретая уверенность. Вместе с этими ранними реакциями на сепарацию Донна также продемонстрировала очень ранние зеркальные идентификации со своей матерью — как мимически, так и в жестах.
В период раннего практикования, с 9-го по 10-й месяц, Донна независимо и жизнерадостно играла вдали от матери, и ситуацию омрачали лишь ее реакции на сепарацию. В то же время Донна и ее мать всегда чувствовали друг друга, даже когда малышка занималась какой-то деятельностью на расстоянии[37] . Девочка то и дело отправлялась обратно к матери за краткой эмоциональной подзарядкой.
Донна была чувствительна к вмешательству матери в ее первые попытки автономного функционирования. Она плакала, когда мать не позволяла ей выйти за открытую дверь.
Во время летних каникул Донна научилась ходить, ей на тот момент было 11,5 месяцев. Она не демонстрировала страха, но (в отличие от многих других детей) была осторожна в своей моторной активности. После летних каникул Донна казалась на пике обязательного для периода практикования «любовного романа с миром». Она была весьма рассеянной по отношению к матери и дружелюбной к наблюдателям.
Миссис Д. сказала: любит всех и вся. Она хочет обнять весь мир». В это время, хотя ей и не нравилось, когда мать уходила из комнаты, Донна справлялась с ее отсутствием, обращаясь к моторной активности, игрушкам и другим людям.
Когнитивный прогресс донны был охарактеризован следующим образом в разделе «Недавно возникшие функции Эго» (второй из девяти «ориентирующих вопросов», см. приложение С): продолжает обучаться, имитируя жесты, и ее сенсомоторный интеллект прогрессирует. Она начинает связывать слова с эмоциональными состояниями, объектами и действиями (<<глобальные слова», по Шпитцу). Двумя месяцами позже Донна начала использовать эти <<глобальные» слова в общении.
На 13-м и 14-м месяцах жизни расширяющаяся деятельность Донны привела к усилению фрустрации и первым проявлениям злости. По словам матери, когда она не могла получить желаемое, она начинала пронзительно и яростно кричать. Однажды, когда во время игры в Центре Донна не смогла забрать игрушку у мальчика приблизительно ее возраста, она начала сердито дергать ногами в воздухе, хотя все еще улыбалась. В другой раз она толкнула другую девочку в грудь головой и отняла у нее игрушку. Еще одного мальчика она намеренно оттолкнула, хотя, судя по выражению ее лица, нельзя было сказать, что она злилась, скорее паясничала. Она несколько раз стукнула маленькую девочку по голове деревянным молотком и затем выглядела обеспокоенной и растерявшейся, когда эта 15-месячная девочка начала плакать; Донна попятилась и засунула пальцы в рот. Она без особых колебаний отбирала игрушку у другого ребенка, но казалась расстроенной, когда ребенок начинал плакать. Однажды она сбила маленькую девочку с ног. Миссис Д. утверждала, что при столкновении с препятствиями Донна просто сходила с ума, особенно когда хотела проникнуть за дверь. К тому же, если мать разговаривала с донной гневно или раздраженно, это ее очень сильно ранило, она могла начать плакать и выглядела несчастной. Одному из наблюдателей казалось, что миссис Д. слегка медлила в ситуациях, когда надо было не дать Донне причинить вред
другим детям. Миссис Д. преимущественно связывала подобное поведение дочери с тем, что та играла со старшим братом, который бывал довольно жесток с ней. У включенного наблюдателя этой пары мать — дитя сложилось впечатление, что мать редко возражала Донне, была чрезмерно терпеливой, и в результате между ними редко случалась прямая конфронтация.
На 14—15-м месяце Донну описывали как очень возбудимого ребенка. Она была более активной, чем любой из ее сверстников, и очень любила двигаться, особенно куда-нибудь забраться. Когда она злилась, то реагировала более фокусированным и прямым выражением гнева, чем раньше. Среди сверстников она была наиболее самоуверенной, всегда знала, чего хочет.
В 14—15 месяцев Донна стала узнавать свое отражение в зеркале. Она демонстрировала явный прогресс в распознавании Я-репрезентаций и, таким образом, достаточно рано начала осознавать свою отдельность.
Примерно в том же возрасте взаимодействие с матерью стало протекать в форме приятного совместного времяпрепровождения, что обычно знаменует начало субфазы воссоединения[38] . Если мать выходила из комнаты, Донна практически сразу начинала плакать, но все еще могла достаточно легко отвлечься. Однако вскоре она начала тревожно ожидать материнского ухода. В это время она старалась совладать со своей сепарационной тревогой, активно практикуя сепарации. Она часто говорила «пока-пока» и шла к игровой зоне. Тем не менее, когда мать покидала комнату, Донна быстро бежала к двери и плакала. Теперь ее уже было непросто отвлечь, и ее толерантность к фрустрации снизилась. Ее способ справляться с отсутствием матери заключался в желании также отправиться за дверь; позволение выйти за дверь, казалось, облегчало ее дистресс. Вместе с сообщениями о соперничестве, ревности и повышенной агрессии стали впервые появляться сообщения о том, что у донны возникли страхи; ее пугали шум пылесоса, маски для Хеллоуина, монстры и включенный телевизор1.
Когда Донне было примерно 16 месяцев, у нее начался кризис воссоединения: по мере того, как она все больше осознавала отдельность матери, она все больше желала быть к ней поближе. Ей не нравилось видеть, как ее мать уделяет внимание другим детям. Когда та садилась близко к младенцу, Донна отнимала у того соску и засовывала ее себе в рот. Она забиралась к матери на колени или зарывалась в ее юбку. В это время Донна также стала подозрительно ревнивой по отношению к своему старшему брату и хотела все, что было у него. Она была настойчива в получении желаемого. Когда мать уходила на интервью, Донна поднимала шум и рыдая шла к двери. Сообщалась, что Донна рано начала использовать слово «нет» и употребляла его довольно часто. Иногда ее можно было отвлечь игрой, особенно в мяч. Как бы то ни было, если наблюдатель брал ее на руки, она падала духом и начинала плакать до тех пор, пока не увидит мать. В этот трудный период, сопровождающий кризис воссоединения, она, очевидно, также стала осознавать половые различия. Она задирала свою юбку и разглядывала выпирающий животик. Она дотрагивалась до своих гениталий, когда ей меняли подгузник. Теперь она замечала, когда обмочилась, и ей это не нравилось. Мы также узнали от ее матери, что Донна «смотрела» на пенис своего старшего брата, когда оба ребенка купались вместе.
Примерно с 16-го по 18-й месяц у донны, казалось, произошло временное разрешение кризиса воссоединения путем идентификации со своей матерью. Она начала играть в дочки-матери с куклами и младенцами. Теперь она высматривала мать не так часто и обычно не для успокоения, а скорее для кратковременного контакта, чтобы поиграть
![]()
1 Имеется упоминание о том, что между 14-м и 15-м месяцем жизни Донна устраивала неожиданные провоцирующие побеги от матери на игровой площадке, но к 16-му месяцу такая активность снизилась.
или поделиться чувствами. Она свободно покидала детскую комнату. Она была вполне счастлива, живо взаимодействовала со всеми наблюдателями и очень интересовалась другими детьми. Она хорошо справлялась, когда мать была на интервью, и успокаивалась питьем сока. Ее очень раннее когнитивно-аффективное развитие Эго проявлялось в том, что Донна была единственным ребенком, кто в этом возрасте мог идентифицировать людей на фотографиях; она могла определить себя, свою мать и других детей из Центра. Она также знала имена всех других детей. Она демонстрировала великолепную толерантность к фрустрации в этом возрасте, чему способствовала идентификация с матерью.
Такие иллюзорные признаки разрешения конфликта на субфазе воссоединения чаще всего оказываются временными. У донны кризис воссоединения проявился снова в течение месяца. В возрасте 18 месяцев Донна опять беспокоилась по поводу местонахождения матери и боялась всего незнакомого; к тому же у нее усилились собственнические чувства. Если раньше Донна ходила в комнату тоддлеров вполне непринужденно и легко (с того момента, как научилась ходить самостоятельно), то теперь она отказывалась идти туда, пока мать не шла вместе с ней. Она также избегала близкого контакта с другими детьми и впадала в сильный дистресс, когда ее мать покидала комнату. Она опять стала очень собственнически относиться к своей матери и не хотела ее ни с кем делить. Донна легко начинала плакать, если ее ругали. У нее развился сильный страх громких шумов, например, грохота проезжающих грузовиков или отбойных молотков на улице.
Триггером такой быстрой смены в настроении и поведении донны стало заболевание, требующее инъекций пенициллина, от которых мать не могла ее спасти. Это поколебало веру донны в материнское всемогущество и магическую силу. Однажды, когда во время болезни она проснулась посреди ночи, она отвергала мать, не позволяя той себя успокоить, и настаивала, чтобы к ней подошел отец.
Донна теперь казалась мечущейся между желанием независимого автономного функционирования и своей потребностью быть еще ближе к матери. Ей требовалось постоянно знать, где находилась ее мать.
Когда она играла дома, она часто кричала: «Мамочка!» Хоть мать и отвечала из другой комнаты, этого было недостаточно; ей нужно было пойти и увидеть мать, прежде чем вернуться к своей игре.
Временами Донна осмеливалась уйти от матери в комнату тоддлеров, однако малейшая фрустрация заставляла ее вернуться. Сообщалось, что она весьма собственнически вела себя в игровой и использовала слова «мне» и начиная уже с 19 месяцев.
Отмечалось, что Донна была весьма негативистичной и упрямой. Она настаивала на том, чтобы все делать самостоятельно, и противилась тому, чтобы ее одевали, меняли ей подгузники или укладывали спать. (Она была в середине анальной фазы.) Прилипчивое поведение донны, тем не менее, перемежалось с более независимым, уверенным и даже авантюрными
Примерно в начале 21-го месяца Донна перенесла небольшую хирургическую операцию на коже головы. Во время процедуры ее завернули в простыню и удерживали на столе три медсестры. Она горько плакала все это время. После возвращения домой она казалось вполне бодрой, но на следующий день не хотела смотреть на себя в зеркало, потому что носила на голове повязку. Флакон с пеной для ванной, который ей в то время подарили, она связала с хирургической процедурой и отказывалась купаться.
Через две недели после этой операции брата донны должны были забрать в больницу для удаления миндалин. Мать на всю ночь осталась в больнице с ним. Это был первый раз в жизни Донны, когда она провела ночь без матери.
![]()
1 Когда Донне было 20—21 месяц, миссис Д. с прискорбием отметила: «Вот она и перестала быть моей маленькой крошкой» и последовала за ней в комнату тоддлеров, стараясь ее от всего оградить и не полагаясь на ее самостоятельность. Ретроспективно мы отметили, что такая гиперопека способствовала росту амбивалентности по отношению к матери со стороны донны.
Уколы пенициллина, операция, тонзиллэктомия у брата наряду с отсутствием матери дома в течение ночи привели к накоплению травматических переживаний, случившемуся именно в той части периода воссоединения, когда личность особенно уязвима, а процессы интернализации находятся на пике. Таким образом, на примере Донны мы могли наблюдать с особой ясностью, как кризис воссоединения стал 60лее острым по причине объединения трех основных детских тревог: страха быть оставленным (страха потери объекта), страха потери любви объекта и в особенности кастрационной тревоги.
В течение оставшихся месяцев второго года жизни Донна продолжала демонстрировать то, что мы расценивали как в чем-то чрезмерное поведение воссоединения. Она по-прежнему нуждалась в физической близости с матерью. Казалось, ей было трудно отойти от нее и чем-нибудь заняться самостоятельно. После расставания она искала контакта с матерью на регрессивном уровне: ей необходимо было чувствовать мать и Дотрагиваться до нее; просто видеть ее и знать, где она находится, было недостаточно.
Сильная амбивалентность Донны по отношению к матери проявлялась в том, что когда девочка была с ней, чаще всего она вела себя особенно требовательно и настойчиво. Хотя в целом ее характеризовали как бодрого и счастливого ребенка с ровным настроением, она могла начать ныть и поднимать шум при малейшей фрустрации. В этот период Донна, которая всегда была осторожным ребенком, стала еще более бдительной и с неохотой пробовала новые виды моторной деятельности, особенно те, которые могли бы способствовать самостимуляции, например, катание на лошадке-качалке. У нее было много мелких страхов и подозрений, и она весьма негативно реагировала на попытки приучения к туалету. Кратко говоря, к концу второго года жизни донны кризис воссоединения никоим образом не был разрешен.
Попытка оценить по субфазам развитие Донны привела нас в замешательство. Перед нами были одаренный ребенок и мать, которая и хотела, и была готова отреагировать на его малейшие сигналы. И в то же время уже на субфазе практикования реакции на сепарацию, развившиеся у Донны, были сильнее, чем у любого другого ребенка. Кроме того, она не получала особого удовольствия от развития локомоторной функции, что было вызвано, по-видимому, большим, чем обычно, страхом потери объекта. Хотя в ее случае страх не был чрезмерным, однако этого было достаточно, чтобы сформировался характерный паттерн поведения, которым Донна явно показывала, что не может справиться без матери, несмотря на то, что ее мать была всегда готова ей помочь, а скорее всего, именно поэтому.
Аккумуляция травматических переживаний Донны, помноженная на ранний паттерн потребности в близости матери, возможность наблюдать анатомию старшего брата во время купания и их взаимная стимуляция, состоящая в жестком обращении, крайне затруднили для Донны разрешение кризиса воссоединения. Обращает на себя внимание, что сепарационная тревога девочки максимально усиливалась именно в тот момент, когда мать ее покидала. Как только мать оставляла ее в комнате тоддлеров одну, Донна справлялась очень хорошо, даже лучше, чем в ее присутствии. Она как будто временно «забывала» свою потребность в матери, поскольку вовлекалась в соответствующую ее возрасту игру с другими детьми и тогда снова проявляла себя как необычайно одаренного ребенка, получающего большое удовольствие от автономного функционирования.
ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ ДОННЫ
В начале третьего года жизни Донна выглядела в целом уравновешенным ребенком с выразительным лицом. Иногда она бывала довольно подавленной, в другое время становилась чрезмерно активной и самозабвенно бегала повсюду. Однако к некоторым видам двигательной активности, например к лазанью, она относилась без восторга. Донна, безусловно, любила общаться, интересовалась взрослыми и демонстрировала удвоенное удовольствие от своей деятельности, когда получала от них внимание и поощрение. Она предпочитала играть с людьми, нежели самостоятельно. Отмечалось, что она уверена в себе и способна оттолкнуть любого, кто встанет у нее на пути.
Возникло две центральных темы. Первая касалась ее прилипчивости к матери. Это наблюдалось и ранее, а теперь, с 24-го по 25-й месяц, началось снова. Каждый раз, когда она приезжала в Центр, она льнула к матери и не реагировала ни на какие усилия вовлечь ее в игру. Донне всегда требовалось немалое время (иногда и целый час), чтобы отвлечься от матери. Как только та покидала комнату, девочка обычно начинала играть и, хотя и спрашивала периодически, где же мама, с готовностью удовлетворялась объяснениями.
Другая тема, которая возникла в начале третьего года ее жизни, имела отношение к реакции Донны на половые различия и озабоченности процедурами туалета. Однажды она поместила игрушечных мать и дочку на туалет, отложив в то же время фигурки отца и мальчика. Когда мальчики вышли из игровой, чтобы пойти в туалет, Донна подняла свою юбку, указала на свои гениталии и сказала: «Мама». Затем она сама вышла из комнаты и начала искать «настоящую мать». Когда она ее не нашла, то присоединилась к детям в туалете. Когда она увидела, как один из мальчиков натягивал свои штанишки, она сказала «нет» и опять пошла искать мать и обнаружила ее в детской. Она лишь ненадолго осталась с ней и вскоре начала играть с игрушками в детской. В ее игре прослеживались определенные паттерны: она надевала колечки на стержни, играла с полыми кубиками. Казалось, что игра с этими более структурированными и символическими, хотя и более детскими, игрушками помогла Донне совладать со своим чувством тревоги. Мы полагали, что эти чувства в значительной степени были связаны со страхом кастрации.
В первые месяцы третьего года жизни Донна как будто колебалась между женским и мужским образом себя. Очевидно, это протекало параллельно с отрицанием анатомических различий, а именно она избегала смотреть на одного из мальчиков, который бегал вокруг, не надев штанишек, или она могла сказать, посмотрев на мальчика, который мочился, что он — девочка. Особенно взбудоражило Донну, когда один из мальчиков погнался за ней с кисточкой для рисования. Во время игр Донна могла быть то женственной и обаятельной, то громогласной и агрессивной. Играя с куклами, она давала всем куклам имя своего старшего брата.
Появились также игры, в которых маленькая девочка была в кровати с папой. Ее мать почувствовала новое качество женственности в отношениях Донны с ее отцом, хотя, по ее словам, Донна не демонстрировала по отношению к ней соперничества или ревности.
Чтобы понять неожиданно трудный, неровный и нагруженный проблемами ход развития на третьем году жизни донны, необходимо определить ту важную роль, которую играла зависть к пенису и озабоченность своими гениталиями. Предположения об этом можно выдвигать, основываясь на наблюдениях за поведением, а также на вербальном материале, в основном полученном во время игровых сессий.
На 28-м месяце жизни Донна подхватила инфекцию мочеполовых путей. Она испытывала дискомфорт в области гениталий и была обследована незнакомой женщиной-доктором, поскольку ее постоянный врач-мужчина был в отъезде. Пережитое повысило ее страх кастрации, и с этого момента она открыто выражала боязнь пораниться, например, во время лазания. Она не могла объяснить, как это могло случиться, но в итоге изобразила это, усевшись на свою руку и в то же время трогая свои гениталии другой рукой.
Примерно в это же время, приблизительно на 28-м месяце, изменилось и поведение донны, связанное с туалетом. Донна научилась пользоваться туалетом месяц назад (между 26-м и 27-м месяцем жизни) и обычно со всем справлялась сама. Когда ей случалось воспользоваться туалетом в Центре, она бывала очень горда собой. Теперь, вследствие травмы от инфекции и осмотра незнакомым врачом, во время которого ей пришлось лежать на столе без матери, которая бы ее поддержала, она требовала сопровождать себя в туалет и в течение некоторого времени избегала смотреть на себя или на свою мочу. Она явно старалась уйти от болезненных воспоминаний, связанных с инфекцией, но жаловалась на «боль», указывая на область своих гениталий.
И от матери Донны, и от самой девочки поступал разнообразный материал относительно страха кастрации, озабоченности первичной сценой и фантазий о том, чтобы стать мальчиком. В одной из игровых сессий Донна сказала, что поранила колено, и указала на свои гениталии. Она также пожаловалась своему включенному наблюдателю-мужчине, что поранила колено в парке, и настаивала на том, что это мать толкнула и уронила ее, таким образом, явно обвиняя мать в <<ранении».
В это время Донна любила выстраивать высокие сооружения и затем ломать их. Она также любила смотреть на других детей в туалете, хотя сама не могла говорить об этом или использовать туалет в Центре. Ее мать сообщила, что донна время от времени использовала детский стульчак дома, но по большей части она этого не делала (дальнейшая регрессия в приучении к туалету).
Переболев инфекцией мочеполовых путей, Донна стала еще больше цепляться за мать. Это происходило каждый день, когда они приезжали в Центр. Часто она горько плакала, когда та уходила. Однако Донна не следовала за матерью, даже когда воспитательница предлагала отвести ее к ней. На самом деле, было заметно, что она чувствовала себя легче после ее ухода; ее как будто разрывало, с одной стороны, желание прилипнуть к матери, а с другой — желание быть независимой. Таким образом, мы могли наблюдать интернализацию конфликта, протекающую у нас на глазах. Донна, казалось, задействовала все свои ресурсы, чтобы сделать возможным ежедневный отрыв от матери. Ее настроение в период прилипчивости было раздражительным, требовательным и подозрительным; отмечалось, что она часто злилась на мать. Казалось, что та уже не является вседающей фигурой в глазах донны, какой была ранее. Это усилило амбивалентность по отношению к матери и вызвало некоторое расщепление объектного мира.
Во второй половине третьего года жизни, несмотря на выраженный страх кастрации и частично интернализованные конфликты, Донна отважилась на участие в тех видах деятельности, которых до этого боялась: она подошла к лошадке-качалке, хотя сначала лишь на короткое время и с опаской. Она также начала с готовностью лазать на большие деревянные кубики, чего раньше всегда боялась. Однако при этом Донна стала еще более ранимой и опасалась агрессии со стороны других детей.
Обращает на себя внимание, что, несмотря на это, Донна чаще выбирала себе в друзья мальчиков, а не девочек. Она любила играть с Чарли, который помыкал ею не меньше, чем старший брат дома. Она тенью следовала за другим мальчиком из группы; он был ее любимым товарищем по играм. Однажды мать ее маленького «приятеля» отказалась брать ее с собой к ним в дом, который она часто посещала, и Донна страшно расстроилась. Один из наблюдателей отметил, что в этот момент она вела себя так, будто ожидала, что сможет заполучить пенис своего маленького приятеля посредством близкого контакта с ним (как будто посредством осмоса). Было ли это предварительными признаками принятия маленькой девочкой своей мазохистически окрашенной гендерной идентичности, мы не знаем.
Конечно, сильная амбивалентность, описанная выше, вносила свой вклад в то, что Донна по-прежнему с трудом включалась в игры детей в комнате тоддлеров. Утром, перед тем как присоединиться к какому-либо виду деятельности, она часто засовывала палец себе в рот, покусывая его и исследуя рот изнутри. Когда же она, наконец, начинала играть, чаще всего это была игра в куклы, обычно кормление. Мать продолжала быть очень терпеливой с донной, периодически пытаясь заинтересовать ее какой-нибудь деятельностью, а в другое время просто ждала, пока Донна самостоятельно от нее отойдет. Условия в комнате тоддлеров также влияли на потребность донны вцепиться в мать или ее готовность от той отделиться. Если там царила атмосфера повышенной активности, она держалась за мать более настойчиво и дольше, чем обычно.
Донна использовала определенные виды поведения, чтобы оградить себя от тревоги. Например, она часто выполняла на публику определенные трюки со своим телом, некоторым из которых она научилась у своего брата и отца; другие явно были ее собственными изобретениями. Это казалось попыткой заверить себя, что с ее телом все было в порядке (оно могло выполнять даже такие трюки). После демонстрации трюка, которому она научилась у отца, она смотрела на свои руки и говорила: детские ручки». У нее имелась кукла, которая, как она настаивала, не была ни девочкой, ни мальчиком, а просто младенцем. Для Донны кукла, по-видимому, все еще имела потенциал стать мальчиком. Мать рассказала, что когда Донна была расстроена, она считала себя младенцем, в то время как в хорошем настроении она говорила, что является девочкой.
Следующая игровая последовательность иллюстрирует, каким опасным может стать мир, когда симбиотическая мать, которой недавно доверяли, после полного осознания отделенности делается угрожающей. Донна рисовала «льва». Затем она пририсовала маленькое пятнышко, которое, как она сказала, лев откусил от своей мамочки-львицы (пенис, откушенный львом?). Она, казалось, пыталась справиться с путаницей в своем воображении, стараясь понять, было ли у матери «это» и хранила ли она это от нее подальше или, возможно, также была кастрирована.
Донна переживала отсутствие пениса как нарциссическую рану, в которой винила свою мать; ее главной защитой была регрессия, прилипчивость к симбиотической матери, как у младенца, и сосание пальцев. Мать в самом деле успокаивала Донну, как младенца, держа на руках. Таким образом, она унимала агрессию в отношениях, но вынуждала Донну удерживать в себе и вытеснять свои агрессивные импульсы. Отец, казалось, стал фигурой повышенной важности для донны. Иногда она сопротивлялась матери, но могла с готовностью пойти укладываться спать с отцом. Однажды, когда ее родители собрались пойти куда-то вечером, Донна поцеловала на прощание отца и отказалась целовать мать. Ее любимым времяпрепровождением в тот период было сидеть у отца на коленях, в то время как он качался на кресле-качалке. Во время домашних посещений Донне очень нравилось показывать наблюдателю игрушки, который папа для нее починил.
Однажды ей читали историю про поезда. Донна в возбуждении ударила рукой по изображению поезда, прикрывая другой рукой область своих гениталий и раскачиваясь. Затем она еще раз хлопнула по картинке и засунула руку в рот, притворяясь, будто съела поезд. Возможно, это было попыткой исправить свою кастрированность, проглотив любимую игрушку своего товарища по играм, чей пенис она так сильно желала.
Однажды, где-то в возрасте двух с половиной лет, Донна пришла в Центр в радостном настроении. Она без всяких проблем смогла оставить мать и пойти прямо в комнату тоддлеров. Это случилось после похода в зоопарк, где Донне впервые удалось попить через соломинку, как это делал ее брат. Она была очень горда своим успехом, и, возможно, это послужило причиной ее хорошего настроения.
Во второй половине третьего года жизни Донна часто имитировала мальчишеские игры, пытаясь как-то разрешить проблему своей зависти к пенису. Она стала более свободно двигаться — начала кататься на лошадке-качалке, ходила вверх и вниз по лестницам и получала особенное удовольствие, съезжая вниз по горке на животе. Казалось, что эти виды деятельности обеспечивали ее чувственным удовольствием и придавали ей уверенности, что ее тело было неповрежденным.
Мать сообщила, что дома Донна любила ходить без штанишек, часто дотрагивалась до гениталий и говорила, что они болят. Мать полагала, что это был уже не физический дискомфорт, поскольку инфекция мочеполовых путей прошла, и что жалобы донны отражали скорее ее озабоченность этой частью своего тела.
Отношения донны с мальчиками и мужчинами приняли открыто настойчивый характер. Она хотела, чтобы отец что-то делал для нее, например ее одевал. В Центре, когда она шла в туалет в сопровождении наблюдателя-мужчины, она настаивала, чтобы он помогал ей, а затем раздвигала ноги, чтобы
показать ему, что она сделала, а заодно выставить на обозрение свою «кастрированность». Она также пыталась подражать тому, как мочились ее отец и брат. Во время игры она перешагивала через горку, расставляла ноги, толкала грузовичок вверх по ней, и затем он соскальзывал вниз у нее между ног. Из того, что она говорила, можно было понять, что, хотя у нее еще не было пениса, она была уверена, что в будущем он у нее вырастет.
В тот период Донна очень интересовалась матерями и младенцами и, увидев картинку с большим и маленьким самолетами, назвала их самолетом-мамой и самолетом-малышом. Она как будто перепрыгнула из состояния ребенка к идентификации с матерью через заботу о куклах, их кормление и т. д. Часто она вела себя весьма по-взрослому и в такие моменты становилась очень услужливой, общаясь с другими детьми, включая брата.
Изменилось и ее отношение к случаям, когда она не успевала в туалет или мочилась в кровать ночью. Теперь Донна расстраивалась и плакала, если не успевала добежать до туалета, в то время как раньше воспринимала такие происшествия спокойно. Прежде она часто просыпалась ночью и звала мать, чтобы та отвела ее в туалет, но теперь это случалось реже, и она могла до утра проспать сухой. Иногда она просыпалась посреди ночи в слезах, говоря, что ей нужно «пи-пи». Несмотря на то, что на Донну никогда не оказывали давления в отношении приучения к туалету, теперь она как будто боялась, что обмочит свою кровать (предшественники развития Супер-Эго?).
Донна продолжала разными способами выказывать озабоченность по поводу повреждения своего тела. Она сместила тревогу на свой нос и, как отмечалось ранее, на свои колени. Мать донны описала следующее происшествие. У донны случилось носовое кровотечение. Она очень испугалась, беспрерывно плакала и периодически вытирала кровь о колено; она казалась очень сильно напуганной. Позже, когда она рассказывала об этом отцу, она забыла упомянуть кровоточащий нос и сказала, что поранила коленку. А еще раньше она обвиняла
свою мать, будто та толкнула ее так, что она в итоге поранила свое колено.
К концу третьего года жизни Донна все еще колебалась между вполне зрелыми, независимыми видами поведения во многих сферах и младенческими паттернами. Ее зрелость проявлялась в идентификации с матерью: в материнском поведении по отношению к куклам, в способности управиться с туалетом без посторонней помощи (даже вдали от дома), в ее желании самостоятельно выбирать себе одежду и т. д. Но она все еще пила молоко из бутылочки, и ее изначальной реакцией на любые непонятные или вызывающие тревогу ситуации было вцепиться в свою мать, тянуть ту за одежду или набить рот едой. Ее мать, которая всегда была такой терпеливой и принимающей по отношению к Донне, теперь стала проявлять некоторые негативные реакции; она выражала нетерпение и раздражение по поводу прилипчивого поведения донны.
Донна, ощущая растущее нетерпение матери как по поводу ее трудностей в связи с расставаниями, так и по поводу ее растущей независимости, пыталась искать новые решения. Временами она спешила в комнату тоддлеров — как будто для того, чтобы не оставить себе времени на колебания и не позволить тревоге взять верх. Наконец, она пришла к новому решению: она нашла ритуал расставания, который позволял ей легче перейти от совместного пребывания с матерью к функционированию без нее. Она некоторое время оставалась рядом с матерью и показывала наблюдателю предметы, принесенные ей из дома. Она делала это очень обстоятельно, считая количество вещей и, таким образом, связывая ситуацию «здесь и сейчас» с чем-то знакомым, после чего она могла отпустить мать (подобное поведение наблюдалось и у Брюса).
Мы ожидали, что благодаря ее превосходным врожденным способностям и тому, что казалось превосходным материнством, у донны были все шансы на беспроблемное развитие по субфазам. Мы полагали, что достаточно гладкая эволюция ее Эго и благоприятное воспитание позволят ей достичь константности либидинального объекта к третьему
году жизни. Мы также думали, что последовательное достижение двух уровней формирования идентичности произойдет на четвертой субфазе сепарации-индивидуации с минимальными трудностями в ходе развития.
Однако все произошло не так, и это заставило нас с особой остротой осознать запутанность и вариабельность среднестатистического <<нормального развития>>. Мы убедились, в частности, в том, что невозможно делать предсказания в области <<нормального развития», кроме разве что утверждения, что основная патология в будущем, вероятно, будет устранена.
Трудности развития, которые прослеживались в случае Донны, в значительной степени были связаны с тем, что переход от веры в собственное всемогущество, подпитываемой более чем оптимальным отношением ее матери, к самоуважению произошел недостаточно постепенно.
Самыми значимыми, тем не менее, оказались трудности, связанные с аккумуляцией «шоковой травматизации» (kris Е., 1956) между 20-м и 30-м месяцем, что, казалось, препятствовало постепенной нейтрализации агрессии. Понадобилось полное вытеснение, которое усиливалось дополнительным защитным механизмом в виде реактивного образования. В результате развилась довольно сильная сепарационная тревога и подавление, которые на время затруднили сублимацию. Тем не менее, мы были уверены в том, что, несмотря на трудности, Донна в конце концов преодолеет все нарушения.
ГЛАВА 10
ВЕНДИ
![]() ы считали Венди очень
привлекательной, жизнерадостной, хорошо приспосабливающейся, в целом
безмятежной и счастливой девочкой. Ее мать страстно любила ее как свое
симбиотическое завершение. Мать и ребенок казались очень хорошо настроенными
друг на друга. Озадачивало, что при таком прекрасно складывающемся симбиозе
Венди очень рано начала проявлять признаки квазидифференциации, которые
выражались в неожиданных приступах плача, интенсивном сканировании и в
способности опознавать различных людей, а также в протестах против материнских
уходов. Ретроспективно мы предполагаем, что ее повышенная тревожность на
третьем—четвертом месяцах была в какой-то степени связана с
гиперсензитивностью, в терминологии Бергмана и Эскалоны (Bergman, Escalona,
1949). У нее очень рано развилась реакция улыбки, и она даже была способна
первая улыбнуться матери к возрасту трех—четырех месяцев. Она начинала плакать,
если мать проходила мимо нее, не остановившись, чтобы с ней пообщаться. Вместо
«получения удовольствия» от преждевременного ухода с орбиты симбиотического
двойственного союза Венди удивила нас ранним сканированием окружающей среды. Ее
повышенная бдительность по отношению к окружению за пределами общей орбиты
мать—дитя была связана с ее врожденной гиперсензитивностью. Несмотря на ранние
признаки дифференциации, Венди, казалось, не извлекала преимуществ из
созревания собственного Эго в ходе развития или из ресурсов своего окружения.
По причине своей гипертревожности, как мы полагаем ретроспективно, Венди
нуждалась в особенно крепком защитном панцире материнского отношения в течение
всего раннего детства. Это могло бы уберечь ее от удара по «идеальному чувству»
симбиотического единства. Притом что миссис М. сильно любила Венди и
наслаждалась общением с ней, она не могла обеспечить ее защитным панцирем
материнства на Длительное время. Возможно, ни одна мать не смогла бы. Ранние
реакции Венди на необратимые и неожиданные перемены в окружающей обстановке —
предшественники страха всего незнакомого, появившегося тремя месяцами позже, —
продолжались практически безостановочно на протяжении процесса
сепарации-индивидуации; они менялись только по форме, структуре и сложности в
зависимости от субфазы.
ы считали Венди очень
привлекательной, жизнерадостной, хорошо приспосабливающейся, в целом
безмятежной и счастливой девочкой. Ее мать страстно любила ее как свое
симбиотическое завершение. Мать и ребенок казались очень хорошо настроенными
друг на друга. Озадачивало, что при таком прекрасно складывающемся симбиозе
Венди очень рано начала проявлять признаки квазидифференциации, которые
выражались в неожиданных приступах плача, интенсивном сканировании и в
способности опознавать различных людей, а также в протестах против материнских
уходов. Ретроспективно мы предполагаем, что ее повышенная тревожность на
третьем—четвертом месяцах была в какой-то степени связана с
гиперсензитивностью, в терминологии Бергмана и Эскалоны (Bergman, Escalona,
1949). У нее очень рано развилась реакция улыбки, и она даже была способна
первая улыбнуться матери к возрасту трех—четырех месяцев. Она начинала плакать,
если мать проходила мимо нее, не остановившись, чтобы с ней пообщаться. Вместо
«получения удовольствия» от преждевременного ухода с орбиты симбиотического
двойственного союза Венди удивила нас ранним сканированием окружающей среды. Ее
повышенная бдительность по отношению к окружению за пределами общей орбиты
мать—дитя была связана с ее врожденной гиперсензитивностью. Несмотря на ранние
признаки дифференциации, Венди, казалось, не извлекала преимуществ из
созревания собственного Эго в ходе развития или из ресурсов своего окружения.
По причине своей гипертревожности, как мы полагаем ретроспективно, Венди
нуждалась в особенно крепком защитном панцире материнского отношения в течение
всего раннего детства. Это могло бы уберечь ее от удара по «идеальному чувству»
симбиотического единства. Притом что миссис М. сильно любила Венди и
наслаждалась общением с ней, она не могла обеспечить ее защитным панцирем
материнства на Длительное время. Возможно, ни одна мать не смогла бы. Ранние
реакции Венди на необратимые и неожиданные перемены в окружающей обстановке —
предшественники страха всего незнакомого, появившегося тремя месяцами позже, —
продолжались практически безостановочно на протяжении процесса
сепарации-индивидуации; они менялись только по форме, структуре и сложности в
зависимости от субфазы.
МАТЬ ВЕНДИ
В том, как мать Венди относилась к дочери, имелись составляющие, подкрепляющие тенденцию девочки не пользоваться собственными ресурсами, а также ресурсами ее окружения в целях дифференциации и индивидуации или сепарации от матери. Во время и после краткого симбиотического периода миссис М. была очень увлечена дочерью, которая была у нее третьим ребенком. Однако при первых же признаках осторожных попыток отделения со стороны Венди у нее появилась тенденция к резкому самоустранению; она не могла позволить девочке активно исследовать свое лицо посредством ощупывания, хотя Венди очень этого желала и ей это было необходимо. Уже на третьем—четвертом месяце жизни Венди издавала протестующие сердитые звуки.
Мать Венди была необыкновенно красивой женщиной, которой нелегко давалось материнство. Она не была уверена в себе как мать и как женщина, и ей постоянно требовалось самоутверждаться. Она была непрерывно занята усовершенствованиями себя и своего дома, но ей всегда казалось, что она делает недостаточно. Она с готовностью принижала себя как плохую мать и подчеркивала, что дети предпочитают
общество отца, который с радостью разделял материнские обязанности с женой. Миссис М., которая так легко теряла уверенность и проявляла нетерпимость по отношению к самой себе, имела склонность так же обращаться с детьми, как только они проявляли какие-либо признаки отдельности и индивидуальности. Она видела себя в них и их в себе. Мы заметили, что она могла разговаривать со старшей сестрой Венди, которой было не больше 30 месяцев от роду, как будто та была взрослой; казалось, она «консультирует» ее по поводу принятия решений. Она делала это не для того, чтобы выяснить, чего ребенок хочет на самом деле, а по причине неспособности решиться на что-то самой. Взросление и развитие ее детей причиняло ей дискомфорт. Казалось, это сталкивало ее с проблемными вопросами по поводу старения и теми сторонами ее личности, которые она считала неприемлемыми.
Как только симбиотический период заканчивался, миссис М. явно чувствовала себя менее комфортно со своими детьми. Она была неспособна получать удовольствие от игривости ребенка, ступившего на путь индивидуации, и их отношения не перерастали в веселые совместные игры.
РАЗВИТИЕ ВЕНДИ ПО СУБФАЗАМ
Венди кормили грудью и очень постепенно отучили от этого на четвертом месяце ее жизни. Тем не менее она не испытывала нежных чувств к бутылочке и никогда не просила ее ночью — в отличие от многих других детей — как вариант переходного объекта. Не наблюдалось и не сообщалось ни о каких неблагоприятных реакциях на постепенный процесс отлучения от груди; по факту, на четвертом-пятом месяце Венди и ее мать были счастливой и хорошо настроенной друг на друга парой мать—дитя. Они много и насыщенно взаимодействовали.
Венди была хорошенькой, мягкой, хорошо приспосабливающейся девочкой, и ее мать, казалось, получала огромное удовольствие от физической близости с ней. Ребенок выглядел жизнерадостным, достаточно спокойным и умиротворенным.
Ее мать очень чутко воспринимала малейшую потребность Венди. Однако, как уже упоминалось, с самого раннего возраста она не давала Венди ощупывать свое лицо и тянуть себя за волосы. Между тем, в период, когда для маленького ребенка типична потребность познакомиться с матерью как матерью, Венди хотела делать именно это (Brody, Axelrad,1970). Миссис М. компенсировала свой отказ позволять себя трогать, улыбаясь Венди, укачивая ее, разговаривая с ней, целуя ее и т. д. Но определенные склонности и идиосинкразии, специфические паттерны ее материнского отношения однозначно усиливали кажущееся врожденным предпочтение Венди визуальной модальности. Возможно, это также способствовало снижению потребности и желания Венди исследовать при помощи прикосновений окружающий ее мир в то время, когда дети приобретают способность ползать и манипулировать предметами вокруг себя.
Если Венди чувствовала дискомфорт, то начинала активно протестовать и делала жесты, указывающие на ее потребности; один из нас определил это как придание эмоционального тона обращению и специфическому интенсивному ожиданию. Венди весьма активно вовлекала мать в общение, и часто можно было видеть, как она посылает ей «неотразимую улыбку», и мать не могла не улыбнуться в ответ и обязательно задерживалась возле дочери.
Большинство детей привыкали к Центру и любили приходить в него, однако Венди это никогда не нравилось. Она никогда не чувствовала себя здесь как дома. Вскоре, казалось, Центр стал для нее воплощением всего «плохого» (незнакомого), а мать, сиблинги и дом — всего <<хорошего» (знакомого). Такую всеохватывающую установку, сформировавшуюся у Венди, в значительной степени предопределил тот факт, что у самой миссис М. никогда не было позитивного отношения к своему участию в проекте; ее мотивация казалась амбивалентной. Вследствие «страстного симбиоза» и рано развившейся интенсивной сепарационной тревоги всеохватывающее устремление Венди к близости и единению со своей матерью перевесило интерес к окружающему миру и препятствовало прогрессу в индивидуации, а именно в развитии Эго; оно удерживало ее от обращения к своим собственным ресурсами
Как мы заметили, у Венди была высоко катектирована визуальная модальность, и это предпочтение сохранялось, даже когда должны были происходить все большие вложения в локомоторное функционирование и в тактильное исследование объектов руками и ртом. При этом моторные способности Венди развивались в пределах нормы и стали проявляться довольно рано. Она начала ползать приблизительно в шесть месяцев и ходить с посторонней помощью около 11 месяцев. Тем не менее она не вкладывала в эти навыки никакого энтузиазма; она не пользовалась ими для исследования окружающего мира. Вместо этого Венди как будто предпочитала оставаться рядом с матерью. Чтобы обрести возможность получать удовольствие от чего-либо в окружающем мире, ей была необходима продолжительная близость с ней. Казалось, она не хочет оставлять знакомую ситуацию симбиотических отношений. Она явно не хотела брать на себя риск отдельного функционирования с присущими ему «минимальными угрозами потери объекта» (Mahler, Furer, 1963а).
Таким образом, у Венди не наблюдалось многих характеристик, типичных для периода раннего практикования или периода практикования как такового. У нее как будто не было особого внутреннего побуждения к автономному функционированию. Девочка по-прежнему предпочитала, чтобы все делалось за нее, и не хотела что-либо делать сама. Когда ей
![]()
1 Тесты по развитию указывали на то, что у Венди были средние врожденные способности, из которых она не извлекала оптимальной выгоды. В 21 месяц, а затем в возрасте 29 месяцев языковое развитие Венди на четыре месяца опаздывало по сравнению с ее хронологическим возрастом, и в личностно-социальной сфере развитие ее личности также задерживалось. Однако к 34-му месяцу ее развитие практически выровнялось, а к концу второй половины третьего года произошел впечатляющий прогресс в ее языковом и личностно-социальном развитии — факты, которые мы обнаружили независимо от тестов посредством данных наблюдения, а также по сообщениям миссис М.
не угрожала разлука или отдельность, она была очаровательным, восхитительным ребенком. Но даже малейшая угроза потери симбиотической близости необычайно ее расстраивала. Любое приглашение к приятному взаимодействию или отношениям за пределами орбиты мать—дитя заставляло Венди немедленно возвращаться к матери. В то время как большинство детей в период раннего практикования использовали свои развивающиеся моторные функции для того, чтобы отползти от матери с целью в чем-либо поупражняться или что-то исследовать, Венди ползла обратно к матери, когда бы мать ни опускала ее на пол на расстоянии от себя. Она редко использовала ползание и другие моторные функции, чтобы обратиться к кому-то другому, кроме матери. (Даже после третьего года жизни Венди общалась только с теми людьми, которые каким-то образом могли расцениваться как продолжение ее матери, с теми, с кем у ее матери установились позитивные отношения и кого она одобряла, к кому относилась с симпатией.)
Мы были достаточно хорошо знакомы с миссис М., поскольку ее старшая дочь также участвовала в нашем исследовании. От нее мы знали, что ее страшит процесс сепарации-индивидуации с обязательными для него продвижениями вперед и шагами назад, застреваниями, взлетами и падениями. Миссис М. получала удовольствие от периода телесной близости, особенно с Венди. Но как только этап симбиоза проходил, ее охватывало желание получить уже независимо функционирующего ребенка. Венди, казалось, чувствовала особое расположение матери к симбиотическому маленькому ребенку, и хотя она «вылупилась» в вышеописанном смысле (ее гиперсензитивность вынудила ее начать воспринимать некоторые аспекты окружающего мира достаточно рано), она пыталась оставаться в симбиозе как можно дольше. Она как будто автоматически сопротивлялась отделенности. Она никогда не могла чувствовать себя комфортно без матери в ситуации, которую мы создавали, и, как уже говорилось ранее, она не желала или была не в состоянии приспособиться или познакомиться с Центром поближе.
К тому же мы [39] полагали, что у Венди была снижена потребность отваживаться на знакомство с окружающим миром. Она была самым младшим членом семьи, и ее старшие сиблинги, которые прямо-таки ее обожали, очевидно, обеспечивали ее интенсивной стимуляцией, которую она пассивно принимала. Таким образом, в каком-то смысле они сами преподносили ей окружающий мир.
Весь период практикования у Венди был нетипичным. Особое внимание обращает на себя то, что, хотя Венди научилась делать свои первые самостоятельные шаги в возрасте 13 месяцев, она сделала их, когда матери не было дома. Можно было предположить, что Венди могла позволить индивидуации идти своим ходом только в случае, если возвращение в симбиоз с матерью представлялось невозможным: ее побуждение к индивидуации становилось возможным только при полном отсутствии матери. Венди не начинала настоящее активное практикование, пока ей не исполнилось 18 месяцев — хронологический возраст, который расценивается как пик субфазы воссоединения. К тому же этот запоздалый период практикования не характеризовался субфазоспецифичным ростом возбуждения. Возможно, это было связано с сопутствующим субфазе воссоединения неизбежным осознанием своей отдельности от матери. Чтобы отгородиться от этого осознания, Венди в своих настроениях оставалась очень зависимой от настроения матери или от атмосферы в мире вокруг нее, отражая использование ею первичной идентификации. Как бы то ни было, запоздалый период практикования пришелся как раз на то время, когда Венди в наибольшей степени была готова функционировать с матерью, либо на расстоянии от нее, даже когда той не было в комнате. Более типичное для субфазы воссоединения поведение (повышенный негативизм и стремление к самоутверждению) появилось у Венди к концу второго года жизни, оно состояло в особом упрямстве и в отказе принимать других людей, замещающих мать.
Однако наслаивающееся удовольствие от независимого функционирования, являющееся атрибутом периода практикования, все-таки на некоторое время смягчило боль от периода воссоединения.
Трудности Венди во внутрипсихическом процессе сепарации были, по-видимому, связаны с трудностями ее матери. Ее мать была неспособна поддержать ее в практиковании и исследованиях. В связи с этим мы наблюдали у Венди тенденцию к возврату, регрессу к близости материнско-младенческих отношений. По мере того, как индивидуация прогрессировала в плане созревания, обязательный импульс к достижению автономии и отделенности стал причиной появления у Венди выраженного негативизма, вспышек гнева и тенденции к пассивно-агрессивному поведению вместо прогресса в сторону конструктивной агрессии, символической игры и других независимых от матери видов деятельности. Она стала очень ранимой, расстраивалась или регрессировала даже при самой незначительной фрустрации.
Мы не наблюдали какой-либо явной борьбы, связанной с приучением к туалету. В начале третьего года жизни Венди ее мать сообщила, что приучение к туалету протекало без затруднений. К 32-му месяцу жизни девочка была не только приучена к туалету в дневное время (неудачи случались с ней лишь изредка), но также оставалась сухой на протяжении ночи. Это было еще одной сферой, в которой Венди оказалась способна угодить матери.
Реакции Венди на расставания и сепарационная тревога
Как отмечалось выше, процесс дифференциации у Венди начался достаточно рано, на четвертом месяце жизни. К возрасту от шести до семи месяцев ее отношения с матерью стали даже более тесными, а ее реакции на незнакомцев и все незнакомое — более интенсивными. Это выражалось во вздрагивании при неожиданных звуках и в появлении выражения озадаченности на ее лице при рассматривании посторонних людей. В восемь—девять месяцев Венди плакала, когда смотрела на себя в зеркало, если не видела рядом отражения матери; более того, она начинала плакать не только когда мать покидала комнату, но и когда та возвращалась.
На протяжении следующих двух месяцев в хронологическом возрасте периода раннего практикования мы наблюдали продолжение тенденции, которая возникла в предшествующие месяцы: дистанцирование от матери, казалось, составляло для Венди угрозу. Она предпочитала сидеть тихо и визуально изучать свое окружение; ее реакции на расставание усилились, и только близость к матери могла ее успокоить. Она не желала использовать свои развивающиеся способности отделяться физически, т. е. уползать от матери. Когда той не было в комнате, Венди направлялась к ее стулу. Ее реакции сепарации заключались не только в сниженном настроении, что можно наблюдать у любого среднестатистического ребенка в хронологическом возрасте раннего практикования, но скорее в очень сильном Дистрессе и печали, заставляющих предположить «анаклитическую депрессию в миниатюре» (ср.: Mahler, McDevitt, 1968). Тем не менее она была дружелюбной и интересовалась миром, пока мать была рядом. В возрасте 20 месяцев Венди стала демонстрировать необычную смесь характеристик периода практикования как такового и периода воссоединения. Постепенно она становилась 60лее независимой. Она реже подходила к матери и не скучала по ней так сильно, когда той не было в комнате. Теперь она пыталась решить свои проблемы самостоятельно вместо немедленного обращения за помощью. Она начала обращаться к матери с призывом поиграть, и особенно любила играть с ней в мяч. В отсутствие матери она могла играть с замещающими ее взрослыми.
В это время врожденная чувствительность Венди стала особенно очевидна; она получала удовольствие от всех видов аутоэротических, кинестетических и тактильных ощущений. Ее мать сообщила, что ей нравится подолгу качаться на качелях.
К концу второго года жизни Венди произошла еще одна перемена, в связи с которой ей опять потребовалась повышенная близость к матери [40] . Венди не выносила, когда ее мать проявляла внимание к другим детям; она не желала играть с другими тоддлерами; ей не нравилась игровая комната. Она стала еще больше подвержена вспышкам гнева. Когда ее матери не было в комнате, она при первой возможности садилась на колени замещающего взрослого. В отсутствие матери она проявляла большой интерес к младенцам в Центре. В такое время она также много ела и пила. На протяжении этих месяцев Венди продолжала стремиться к тесному физическому контакту с матерью.
Мать пыталась направить активность дочери от себя. Та, в свою очередь, реагировала на попытки отдаления со стороны матери сниженным настроением. Но Венди всегда была счастлива, когда воссоединялась с матерью; это были те моменты, когда она могла на законных основаниях вступить в физический контакт и прижаться к ней.
Таким образом, Венди подошла к концу второго года жизни с практически неразрешенным кризисом воссоединения и с очень невысокой способностью функционировать отдельно от матери и объясняться словами, а не жестами и действиями. Период практикования как таковой запаздывал и проявлялся смазанно. Типичный переход от практикования к воссоединению в случае Венди не наблюдался, поскольку она никогда не могла получать удовольствие от мира без тесной близости к матери.
ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ ВЕНДИ
В начале своего третьего года жизни Венди была очень женственной, хорошенькой и привлекательной маленькой девочкой, крепко привязанной к своей матери. Спектр ее активных интересов был довольно ограниченным. Она любила находиться поближе к матери, и даже если та отсутствовала, она предпочитала оставаться на одном месте, часто сидя на стуле. Если Венди двигалась, то почти всегда маленькими, семенящими, неуверенными шажками. В ее движениях наблюдалась общая скованность. В то же время, когда что-то вызывало у нее злость, ревность или зависть (например, когда другой ребенок что-то у нее забирал), Венди могла преодолеть свою скованность и двигалась быстро и свободно. Она вскакивала, быстро бежала через комнату и возвращала себе предмет.
Обращало на себя внимание отсутствие у Венди интереса к другим детям в Центре (лишь иногда она делала исключение для младенцев). Ей нравилось, чтобы вокруг нее было как можно больше взрослых; она любила быть в центре внимания. Отмечалось, что если всеобщее внимание вдруг обращалось на другого ребенка, Венди выглядела расстроенной.
Девочка по-прежнему огорчалась, когда мать выходила из комнаты. В такие моменты ее было невозможно заинтересовать игрой; вместо этого она постоянно возвращалась к наблюдателю на колени. Среди наблюдателей она явно предпочитала двоих сотрудников мужского пола. Если ей удавалось оказаться с ними с глазу на глаз, она выглядела вполне счастливой и удовлетворенной, пока не возвращалась ее мать.
В целом, отношения Венди с матерью казались тесными и аффективно насыщенными. даже если мать не желала полностью посвящать ей свое внимание, когда, например, она читала книгу или разговаривала по телефону, девочка казалась удовлетворенной тем, что мать просто находится неподалеку. Играла Венди преимущественно с куклами, нянча их, что указывало на идентификацию с матерью; она также любила игрушечный телефон и часто изображала, что разговаривает по нему, имитируя мать. Последняя игра также казалась символической репрезентацией предпочтения Венди непрямых коммуникаций.
Несмотря на в целом нежные и тесные отношения с матерью, были моменты в начале ее третьего года жизни, когда она явно стремилась делать все самостоятельно; временами она отвечала «нет» на любой задаваемый ей вопрос. В таком настроении Венди становилась весьма требовательной, кричала, визжала и указывала повелительно на желаемый объект. Когда она злилась, то могла ударить и укусить мать. Одним из факторов, способствующих такой немедленной разрядке агрессивных импульсов, очевидно, являлось отставание Венди в речевом развитии.
Мать Венди жаловалась, что ей сложно справляться с упрямством дочери. Она с трудом выносила взлеты и падения своих детей в процессе сепарации-индивидуации и старалась самоустраняться из проблемных ситуаций, если это было возможно. Она начала интенсивно заниматься благотворительной деятельностью. Иногда она просто покидала дом и оставляла Венди на попечение горничных или нянь.
В ответ на избегание миссис М. своей материнской роли Венди вела себя в Центре следующим образом. Когда матери не было в комнате, она даже не смотрела на материнский стул или на дверь (то, что другие дети ее возраста делали автоматически и что на более ранних фазах также делала и она). Напротив, в такие моменты Венди смотрела по сторонам как можно меньше. (Такое ограничение перцептивного восприятия работало как механизм отрицания.) Внимание Венди казалось направленным внутрь, возможно, это указывало на работу воображения. Как мы говорили выше, она могла присоединиться к одному из взрослых наблюдателей и только тогда становилась более оживленной. Редукция сенсорного восприятия, так же как и активности в целом, похоже, была одной из характерных для Венди защит. Это можно было рассматривать как сохранение <<сниженной тональности настроения» за пределами субфазы практикования, на которой она проявляется обычно.
На третьем году жизни Венди начинала временами активно протестовать, громко плакать и интенсивно противиться уходам матери из комнаты. Было непросто отвлечь ее от этих переживаний.
Когда ее удавалось чем-то заинтересовать в отсутствие матери, Венди использовала наблюдателя как замену, либо пассивно находясь рядом с ним, либо разрешая этому единственному человеку помочь ей забраться на лошадку-качалку: это являлось одним из явно аутоэротических видов активности, которые ей нравились и к которым она регрессировала. Если контакт с человеком, замещающим мать, поддерживался на протяжении длительного времени, Венди могла на короткий период позволить себе «поработать>> над пазлом или поиграть в мяч, но эта игра прекращалась, как только взрослый переставал принимать в ней активное участие.
Другими словами, в отсутствие матери Венди, казалось, испытывала всеохватывающую потребность оставаться нарциссическим ребенком. Она мало разговаривала, мало играла, не стремилась к общению с людьми. Если она не могла найти кого-нибудь, кто бы ее утешил или о ней позаботился, она постоянно успокаивала себя либо качанием на лошадке-качалке, либо кормлением, а иногда она от всего отказывалась и тихо сидела на стульчике, обнимая куклу или плюшевого мишку.
Временами, когда Венди чувствовала себя одинокой и потерянной настолько, что казалась практически парализованной и недоступной контакту, у нее как будто проявлялась неспособность удерживать образ матери несмотря на то, что та могла находиться в смежной комнате. Когда ей говорили, что ее мать в детской за соседней дверью, и спрашивали, хотела бы она пойти ее повидать, Венди реагировала не вполне адекватно. Она указывала на окошко и махала рукой «покапока», что указывало на то, что в ее внутрипсихической реальности мать отсутствовала, коль скоро не была доступна визуально, осязаемо, физически. Можно предполагать, что в такие моменты ей не только недоставало эмоциональной константности объекта, но она теряла и его когнитивную составляющую, «ментальный образ отсутствующего объекта», по Пиаже. Она была неспособна представить себе, где находится ее мать, если та не была в поле ее зрения. Казалось, что, когда мать уходила, у Венди не оставалось «образа хорошей матери», доступного ей во внутрипсихическом плане.
Мы полагали, что такие нарушения константности объекта были связаны с агрессией и амбивалентностью Венди. Миссис М. описывала ее как настойчивую девочку, которая могла временами устраивать сражения с ней дома и быть весьма негативистичной. В Центре негативизм и упрямство по отношению к матери не проявлялись; они были целиком смещены на заместителей матери или отца. С одной стороны, Венди была пассивной и хотела, чтобы все делали за нее, а с другой, она очень однозначно отвечала «нет» на всякое предложение, которое не вполне ей подходило. Заключение об амбивалентности Венди было выведено на основании наблюдений за выражением ее лица, которое часто бывало и раздраженным, и недовольным. Один наблюдатель отметил, что Венди казалась практически парализованной конфликтными чувствами по поводу своей матери, когда той не было рядом, и это удерживало ее от поиска успокоения в игровой активности. Даже если мать была рядом, уровень активности менялся несильно. Девочка по-прежнему была активной только в отношениях один на один и никогда — во время игры с другими детьми или самостоятельных занятиях с игрушками.
Венди очень хорошо провела лето. Когда она вернулась в Центр в возрасте приблизительно 28 месяцев, она продемонстрировала огромный прогресс в расширении словарного запаса и фразовой речи. Она также начала более активно и эффективно протестовать против расставаний. Она следовала за матерью, когда бы та ни вышла из комнаты, и начинала громко плакать, просто отказываясь принять то, что ее оставили. Как результат, ее часто отводили к матери или позволяли сопровождать ту в комнату для интервью. Нередко она настаивала на том, чтобы ей разрешили провести все утро в детской комнате с матерью. В качестве последнего средства
Венди начинала упорно настаивать на том, чтобы пойти домой.
К концу 30-го месяца Венди все еще продолжала протестовать против кратковременных расставаний, однако начала лучше с ними справляться. Например, однажды она провела большую часть утра в комнате тоддлеров, занимаясь рисованием, и когда мать вошла в комнату, не особо обратила на нее внимание. Либо она была настолько глубоко погружена в свою деятельность, что не до конца осознала присутствие матери, либо, возможно, пыталась отгородиться от такого осознания, как будто предчувствуя, что это резко прервет ее автономную игровую активность. Теперь она энергично искала отношений один на один, по-прежнему предпочитая наблюдателей мужского пола, и старалась вовлечь их в игру. Она все так же не терпела вторжения со стороны других детей и использовала всю свою настойчивость и шарм, чтобы обратить внимание взрослого исключительно на себя. Один наблюдатель очень ярко описал, как Венди использовала все более изощренные способы, если простые уловки не срабатывали.
Несмотря на то, что теперь Венди временами получала удовольствие от более активных игр, большую часть времени она по-прежнему проводила за занятиями, свойственными маленьким детям. Например, когда она находилась в детской комнате со своей матерью, она с удовольствием разыгрывала из себя младенца, залезая в манеж и подолгу там оставаясь.
Во второй половине третьего года жизни игровая активность Венди расширилась. В добавление к играм, характерным для маленьких детей, и катанию на лошадке-качалке она начала получать удовольствие от раскрашивания и рисования. Дома, как рассказывала ее мать, она с удовольствием играла со своей старшей сестрой и не любила, когда в это взаимодействие вторгался какой-либо еще ребенок, который мог находиться у них дома в гостях. Теперь Венди также получала удовольствие от активных игр со взрослыми наблюдателями в мяч и с обручами, катая их вперед и назад. Как только появлялся хотя бы намек на вторжение другого ребенка, ее спонтанное удовольствие исчезало. Коротко говоря, Венди как будто нуждалась в постоянной нарциссической подпитке для поддержания самоуважения или, если выразиться более точно, иллюзии всемогущества.
Когда Венди было около 30 месяцев, миссис М. сообщила, что у девочки развилась особая любовь к ходьбе. даже когда можно было поехать в коляске или отец предлагал ее понести, она предпочитала идти сама и проходила большие расстояния. Мать Венди предполагала, что сам по себе процесс ходьбы привлекал ее больше, чем идея куда-нибудь попасть. Такое удовольствие от ходьбы вызывало удивление ввиду общей пассивности и слабой подвижности девочки в возрасте
периодов практикования и воссоединения, описанных ранее и придававших ее поведению атипичность.
Получение удовольствия от ходьбы, казалось, было одним из способов, при помощи которых Венди избавлялась от своей прежней пассивности и временами раздраженного настроения. Оно тонизировало ее тело так, как будто ей стала доступна нейтрализованная либидинальная и агрессивная энергия и, как результат, укреплялось ее чувство Я, ее чувство идентичности. Ее первый шаг к этому прогрессу в развитии заключался в ее способности протестовать более активно и энергично, когда мать покидала ее. Такое активное сопротивление затем как будто распространилось вовне и сделало ее в целом более активной и энергичной.
В то же время настроение Венди было по-прежнему подвержено колебаниям в зависимости от присутствия или отсутствия матери. Когда той не было рядом, девочка часто бывала печальной и раздраженной. У нее усиливался негативизм, и она была особенно склонна отвергать все, что могло бы привести ее к контакту с наблюдателем женского пола. Например, она принимала мороженое от мужчины, но не желала брать его у женщины. Она проявляла интерес к кулону женщинынаблюдательницы, но когда та предложила его ей, Венди отказалась его взять[41] . Она любила рисовать, но однажды, когда ее мать сказала, уходя: «Порисуй со своей воспитательницей, пока меня нет», — девочка не пожелала даже близко подойти к краскам.
Во второй половине третьего года жизни, несмотря на все внешние благоприятные признаки, у Венди в полной мере расцвел типичный конфликт, связанный с ее амбивалентными чувствами к «уходящей матери». В ее символической игре можно было безошибочно распознать запоздалый кризис воссоединения, а таюке ее осознание анатомической разницы между полами.
Негативизм Венди по отношению к окружающему миру продолжался до тех пор, пока постепенно у нее не развилось что-то похожее на фобическую реакцию на комнату тоддлеров и людей оттуда. доходило до того, что она отказывалась даже снимать пальто и ботинки, когда приезжала в Центр. Воспитательница, занимающаяся комнатой тоддлеров, рассказывала, что девочка начинала плакать и цепляться за мать, как только видела воспитательницу в холле. Мы предполагали, что эта фобическая реакция на комнату тоддлеров, где временами царили шум и неразбериха, возможно, также была связана с тем фактом, что дома в отсутствие матери Венди становилась объектом агрессивных игр брата и возбуждающих экспериментов, о чем мы узнали из внешних источников.
Некоторое время спустя, с помощью воспитательницы из игровой Венди приобрела способность дистанцироваться от матери и играть с другими детьми. Однако через некоторое время она, должно быть, почувствовала, что такое взаимодействие может оказаться слишком большой угрозой тесным, симбиозоподобным отношениям с матерью, и в результате вынуждена была отгородиться от всех отношений с «отличным-от-матери» миром.
В возрасте 32 месяцев для Венди были организованы регулярные индивидуальные игровые сессии с одним специальным наблюдателем. Она настороженно отнеслась к своему «игровому наблюдателю», когда та впервые была ей представлена, и приняла ее только после того, как мать демонстрировала большую симпатию и даже восхищение в адрес наблюдателя. Но даже после такой уступки Венди необходимо было по возможности контролировать отношения, и она не всегда воспринимала предложения наблюдателя. Наблюдатель отмечала, что позитивное настроение Венди могло быть легко испорчено незначительным поводом и что иногда было даже невозможно определить, в чем заключался источник дискомфорта.
На первой игровой сессии, когда мать Венди ушла в детскую комнату, Венди последовала за ней. В конце концов, она согласилась покинуть детскую вместе с наблюдателем, после чего отправилась в гардеробную, чтобы потрогать висящую
там верхнюю одежду, свою и матери. Как уже описывалось выше, гардеробная в нашем сеттинге располагалась между детской и комнатой тоддлеров. Она служила чем-то вроде переходного пространства между домом и Центром, между комнатой тоддлеров, где предполагалось, что дети находятся без матерей, и детской комнатой, где оставались матери [42] . Прикосновение к одежде выполняло для Венди функцию символической «подзарядки». После такого «подзаряжающего» момента Венди в течение некоторого времени была готова играть относительно независимо от своей матери. Она была даже способна присоединяться к другим детям, которые играли с пластилином в комнате тоддлеров. Но в соответствии со своим привычным паттерном после непродолжительного периода игры с другими детьми Венди опять переставала реагировать на наблюдателя и энергично говорила «нет», когда та хотела ей в чем-то помочь.
Во время одной игры она взяла куклу и пластилином залепила ей все отверстия: нос, рот, уши и пупок, приклеила пластилин между ног куклы и ей на спину. Это могло быть символическим выражением желания Венди закрыть себя от внешнего мира. Это также отражало сильную обеспокоенность по поводу анатомии: таким образом она как бы аннулировала тот факт, что у нее были только отверстия, а не пенис, как у ее старшего брата и отца.
Во время игровой сессии, состоявшейся ближе к концу того же месяца, Венди позволила своей матери пробыть на интервью почти час и все это время играла со своей наблюдательницей. Некоторые игры были регрессивными: Венди разыгрывала из себя младенца. Она залезала в манеж и колыбельку, а затем даже начала пить из детской бутылочки. Когда мать возвратилась, ей не понравилось, что ее дочь притворяется младенцем. Чтобы убедить себя и наблюдательницу в том, что регрессивная игра ничего не значит, мать подчеркнула, что дома Венди нравится изображать Бэтмена или папу. Затем миссис М. стала играть с Венди сама, изображая, что Венди — птенчик, а сама она — Северный Ветер. Наблюдатель отметила, что такая последовательность прекрасно отражает отношение этой матери к своим детям. С самого раннего возраста миссис М. поощряла в детях привязанность к отцу. Такая поддержка обращения к отцу, а также игры в Бэтмана, вовлекли Венди к возрасту трех лет в очень раннюю триангуляцию и, возможно, даже в иллюзорную эдипальную ситуацию.
Во время одной из игровых сессий была замечена интересная последовательность событий в гардеробной. Венди взяла куклу-младенца и спрятала ее в один из отсеков гардероба. Когда наблюдатель разыграла для Венди чувство одиночества у ребенка и томительного ожидания в гардеробном отсеке и притворилась в игре, что она — мама куклы, Венди вытащила куклу и вполне намеренно швырнула ее на пол. Сделав это, она посмотрела на наблюдателя с улыбкой. Казалось, что в этой последовательности она отреагировала нечто, что, как она опасалась, могло произойти с ней. Отыграв это вовне, она приобрела способность овладевать своей тревогой по поводу настойчивых поисков матери и страха, что та от нее избавится.
Постепенно Венди начала использовать игровые сессии, чтобы изобретать игровые последовательности, в которых она являлась активным инициатором разлук и воссоединений. В разнообразных играх в дочки-матери-папы, которые ей нравились, она принимала на себя роль отца, который отправлялся зарабатывать деньги для семьи. В другие моменты она посылала наблюдателя что-нибудь принести, а когда та возвращалась, Венди закрывала руками глаза, контролируя момент, когда она посмотрит на наблюдателя.
Из ее еженедельных игровых сессий нам также стало понятно, что Венди была весьма обеспокоена анатомической разницей между полами и озабочена своим телом. Однажды она придумала игру, в которой она была доктором для кукол, которые, как она сказала, были ранены. Когда ее спросили, куда были ранены куклы, она сказала, что они не могли сделать пи-пи. Она тщательно осмотрела маленького плюшевого мишку, который, как она сказала, был ранен и болел, на его «повреждения» она наложила пластыри. Она также сказала, что ее ужалила пчела, и вскоре после этого постаралась аннулировать угрозу кастрации, играя в игру, в которой она изображала своего папу или своего друга Гарри из детского сада. Играя с куклами в кукольном домике, Венди уделяла особенное внимание тому, чтобы они делали пи-пи и принимали ванну. Когда куклы делали пи-пи, Венди, казалось, сглаживала сексуальные различия тем, что все ее куклы садились на туалет.
Во время игровых сессий Венди также рассказала о некоторых своих снах о жуках и пчелах. Мать говорила, что Венди видела эти сны в ту ночь, когда их с мужем не было дома. Мы не можем не предположить, что Венди отгораживалась от искушений, связанных с давлением телесных ощущений и, возможно, также с некоторыми беспокоящими эротическими фантазиями.
Теперь игра Венди во время игровых сессий стала более насыщенной и постоянно требовала воображения. Она стала использовать игру как для того, чтобы помочь себе справиться со своими тревогами, так и для того, чтобы вовлекать в контакт других людей. Она продолжала общаться в основном со взрослыми, особенно с мужчинами. Однако Венди все еще не могла в достаточной мере использовать игру в социальных целях, в условиях взаимодействия с другими детьми в Центре, когда приходила на свои еженедельные игровые сессии.
Что касается формирования идентичности, то в ходе третьего года жизни всем детям показывались фотографии — как их самих и других детей, так и их матерей и наблюдателей. У Венди были интересные реакции на эти фотографии. Она называла по имени свою мать и сестру, но всех других детей, включая себя, звала просто «мальчик» или «девочка». Со временем она стала говорить, что на фото, где была изображена она, была «я», но не использовала своего имени. Когда наблюдатель показал ей свою фотографию, она выглядела растерянной и не смогла опознать ее. Играя с куклами, она давала каждой кукле имя соответствующего члена своей семьи, за исключением маленького ребенка, которого она
продолжала называть «Крошка», а не «Венди». (Она была, как мы говорили ранее, самым младшим ребенком в семье.) Она как будто боялась позволить «крошке» вырасти в человека со своими правами, в человека с именем. Возможно, она опасалась, что в таком случае потеряется симбиотическая близость к матери. Ни имея ни малейшего признака психоза (этот ребенок полностью осознавал свою отдельность!), Венди, казалось, активно отказывалась воспринимать и признавать первый уровень идентичности, который состоит в том, чтобы быть отдельной и индивидуальной целостностью и укреплять собственную индивидуальность. Она как будто идентифицировала себя только как младенца своей матери в «воображаемом двойственном единстве».
Как мы отмечали раннее, языковое развитие Венди сильно запаздывало. Она, казалось, никогда не получала особого удовольствия от разговора и общения при помощи слов и, очевидно, предпочитала язык телодвижений, который использовала с большой экспрессией. Только к концу третьего года жизни Венди смогла свободно пользоваться преимуществами вербального общения. В это время она впервые начала использовать местоимение «я» и тогда же преодолела самую острую сепарационную тревогу и стала способна лучше справляться без постоянного присутствия матери.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что у Венди были ббльшие, чем у других детей, трудности в процессе становления в качестве отдельного человека, который может взаимодействовать с другими как подрастающий тоддлер. Она, очевидно, дольше других цеплялась за иллюзию возможности быть частью своей матери и в связи с этим постоянно нуждалась в ее присутствии. Приобретение местоимения «я» поэтому имело особое значение в развитии Венди; оно появилось в ее речи одновременно со сменой сепарационной тревоги (страх потерять любовь или не быть любимой) на страх быть поврежденной (кастрационная тревога).
ГЛАВА 11
случае с Тедди мы наблюдали, как ребенок, перенесший раннюю травму (он был лишен общения с матерью в связи с неблагоприятными семейными обстоятельствами), пытался справиться с этой ситуацией. Сначала он дольше, чем среднестатистический ребенок, задержался внутри квазииллюзорного смутного состояния симбиотической обриты. У него развилась тонкая инстинктивная (сенестетическая) чувствительность, позволявшая ему улавливать, когда и как получить каждую каплю эмоциональной подпитки от своей матери. В конце концов, мальчик сумел найти активные способы привлечения ее внимания — стал инициировать игры, кривляться и тому подобное. Таким образом, определенные виды поведения, такие как относительно позднее развитие специфической привязанности к матери (компенсация затянувшегося симбиоза) или его склонность паясничать, которые при поверхностном рассмотрении могли бы интерпретироваться как не очень удачная адаптация, в его ситуации и с учетом его потребностей были вполне адаптивными.
МАТЬ ТЕДДИ
Мать Тедди казалась человеком застенчивым, особо за собой не следила и всегда выглядела немного небрежно, при этом она была довольно вдумчивой и склонной к интроспекции. Когда ее переполняла тревога, она могла не уделить достаточно внимания потребностям своих детей (в то время, пока они еще не умели разговаривать). Она была необыкновенно преданным посетителем нашего Центра в течение многих лет. Группа была для нее особенно важна в период, когда ее муж был вынужден уехать. Участие в нашем проекте обеспечивало этой интеллигентной матери интеллектуальную стимуляцию и эмоциональную поддержку.
Миссис Т. относилась к тому типу матерей, которые не получали особого удовольствия от периода, когда ее маленькие дети еще не умели передвигаться самостоятельно. Ей больше нравились более поздние периоды их развития. Она была весьма толерантна к их <<взлетам и падениям» в ходе субфаз сепарации-индивидуации и обладала особой, явно выраженной эмпатией к миру детей второго и третьего года жизни.
РАЗВИТИЕ ТЕДДИ ПО СУБФАЗАМ
Тедди, третий ребенок в семье, родился в непростой для миссис Т. период, когда на нее одновременно обрушилось немало трудностей. Вскоре после рождения мальчика в семье произошли два очень травматических события. Умер отец миссис Т., с которым у нее были очень близкие отношения и к которому она привыкла обращаться за поддержкой. Менее чем месяц спустя с Чарли, братом Тедди, который был старше его на 14,5 месяцев, произошел несчастный случай, и его госпитализировали. Миссис Т. практически неотлучно находилась в больнице, ухаживая за Чарли, и вынуждена была оставить Тедди на попечение своей матери, которая вызвалась ей помочь несмотря на то, что была в подавленном состоянии по причине недавней потери мужа.
Когда Чарли выписали и миссис Т. смогла возвратиться к своим материнским обязанностям по отношению к Тедди, она была истощена и подавлена. Она могла уделять мальчику лишь минимальное внимание и заботу. Например, кормя его, она держала его бутылочку таким образом, что он лежал плашмя у нее на коленях, повернувшись лицом в сторону так, что никакой глазной контакт не был возможен.
Вероятно, скорее по причине дефицита материнской заботы, чем из-за конституциональных факторов, Тедди был сонным ребенком и совсем не исследовал окружающий мир. Его внимание, по-видимому, было устремлено вовнутрь. (Он больше прислушивался к себе, по выражению Спока.) У него рано развилась неспецифическая социальная улыбка, однако особая привязанность к матери, выражающаяся в реакции улыбки именно для нее (Spitz, 1946), и другие признаки окончания полноценного симбиоза и начала дифференциации появлялись медленно.
Судя по всем показателям, дифференциация у Тедди не началась в обычное время, т. е. в пять-шесть месяцев. Пока ему не исполнилось приблизительно семь—восемь месяцев, не было заметно, что он испытывает особенную привязанность к матери и сколько-нибудь интересуется окружающим миром. Приобретение в ходе созревания нескольких частичных моторных навыков, таких как принятие вертикальной позиции, сидение, ползание и т. п., не вызвали в Тедди побуждения к индивидуации. Он вкладывал в тренировку этих функций очень мало энергии.
Но мать Тедди реагировала на приобретение им нового навыка с гордостью и восхищением, так что на субфазе раннего практикования (с седьмого по восьмой месяцы) в отношениях мать-ребенок наметилось некоторое улучшение. Мальчик стал более энергичным, чаще бывал в хорошем настроении. Тедди, по сравнению с другими детьми его возраста, тем не менее был все еще весьма умеренно бодр и не очень охотно реагировал на стимулы; но даже этот уровень бодрствования он мог поддерживать, только когда его стимулировала мать. Настроение миссис Т. в это время менялось день ото дня, и настроение Тедди варьировало соответственно; он квази-<<заражался» (см.: Freud А., 1971) ее настроением. Большая часть взаимодействия с матерью вращалась вокруг имитирования, т. е. отзеркаливания ее. Он отзеркаливал ее жесты, а она использовала эту склонность сына, чтобы научить его играм типа <<ладушек», такой большой» и т. д.
Когда Тедди начал использовать голос, его мать подражала звукам, которые он издавал, и между ними, к их обоюдному
удовольствию, начинался звуковой обмен. Теперь миссис Т. держала Тедди к себе лицом, и это однозначно сделало Тедди визуально более активным. Он стал фокусировать взгляд и постепенно заинтересовался рассматриванием предметов вокруг. Он начал активно вступать в контакт со своей матерью, инициируя небольшие игры, которым она его научила ранее.
Тедди было около восьми месяцев, когда он, наконец, стал демонстрировать обязательную избирательную реакцию улыбки на свою мать, хотя мы знали, что другие признаки специфической привязанности к ней проявились ранее. Он реагировал на мать в возрасте шести-семи месяцев, даже когда она смотрела на него с пустым выражением лица, и жадно ловил хоть каплю ее внимания. Одновременно со специфической реакцией улыбки он проявлял признаки боязни незнакомцев. Интересно, что это случилось, когда он намеренно разглядывал мальчика немного старше себя: он неожиданно начал плакать. Тедди все это время демонстрировал особую близость со своим старшим братом, близость, которая имела практически симбиотический оттенок. В связи с этим можно было предположить, что эта первичная реакция на незнакомого старшего мальчика была связана с его тесными отношениями со старшим братом Чарли; тревожная реакция на незнакомого человека и следующий за этим плач имели место, когда Тедди замечал, что этот незнакомый старший мальчик — не его брат.
На протяжении нескольких следующих месяцев (от восьмого до одиннадцатого) на субфазе раннего практикования Тедди продемонстрировал хороший прогресс в моторных навыках, таких как ползание, умение садиться из позиции стоя и ходьба с помощью взрослого. Он был весьма активен и бодр, мог играть вдали от матери на протяжении долгого времени и возвращаться к ней, чтобы прислониться к ее колену для эмоциональной подзарядки. Он, казалось, черпал удовлетворение в этих контактах, даже несмотря на то, что его мать была печальной, и он получал от нее слабый отклик. Тедди был вполне дружелюбным и общительным со знакомыми людьми, хотя в присутствии посторонних держался поближе к матери и изучал незнакомца с безопасного расстояния. В этот период в его поведении появились кивание и покачивание головой, которые затем стали его характерным паттерном. Это казалось частичной имитацией того, как с ним общался Чарли. Чарли был близок Тедди по возрасту, а кроме того, мать очень поощряла между братьями отношения, подобные отношениям близнецов. Она часто выражала желание, чтобы мальчики все делали вместе. Качание и кивание головой, казалось, служило функции разрядки напряжения и в преувеличенном виде превращалось порой в подобие паясничания. Впоследствии Тедди использовал клоунское выражение лица, чтобы развлечь мать и других взрослых.
В 11 месяцев хорошее настроение Тедди, характерное для субфазы раннего практикования, было прервано госпитализацией на несколько дней по причине сильного жара неизвестного происхождения. Если до этого он проявлял умеренные реакции на расставания, то госпитализация их усилила. Он впадал в сильный дистресс, когда мать покидала комнату. Значительно возросла потребность в тесном физическом контакте с матерью; иногда это принимало негативные формы и выражалось в том, что он пытался ее ударить или агрессивно схватить[43] . В то же время, когда Тедди возвратился из больницы, он казался более активным, более бодрым, а также более «бдительным», чем он был до болезни. В целом он стал более уверенно требовать материнского внимания.
Впоследствии, на стадии практикования (в этот период мы ожидали более или менее значительного повышения настроения мальчика), настроение Тедди все еще было весьма неустойчивым. даже когда мать была вполне весела, настроение ребенка колебалось в соответствии с его собственными внутренними ощущениями и побуждениями. Прямохождение как будто заставило его болезненно осознать свою отделенность, которую он четко увидел в свете сепарационной травмы и провоцирующих тревогу медицинских процедур во время госпитализации.
Стоит, тем не менее, заметить, что Тедди все еще можно было привести в хорошее настроение особым вниманием и стимуляцией не только со стороны матери, но и других взрослых (таким образом, становилось ясно, каким важным для него было внимание, направленное лично на него). В то время как он получал удовольствие от частых и насыщенных игровых взаимодействий со взрослыми в Центре, он однозначно предпочитал Чарли, несмотря на частую агрессию со стороны брата. Будучи расстроен из-за разлуки с матерью, Тедди мог быть удовлетворен, если ему позволяли пойти в комнату тоддлеров, где находился Чарли. Начиная с 12 месяцев и практически постоянно впоследствии Тедди, как было замечено, выказывал сильный интерес к своему пенису, гордость в связи с его наличием и с тем, что у его брата он также имелся. Их мать говорила, что дома он часто мастурбировал. У Тедди это наблюдалось чаще, чем у других мальчиков этого возраста, участвовавших в нашем исследовании (это заставляет вспомнить о других детях, которые компенсировали недостаток адекватной стимуляции со стороны заботящихся о них взрослых, обращаясь к собственному телу, к аутоэротической активности).
Интересно было то, как Тедди учился ходить. Создавалось впечатление, что он готов начать ходить уже в течение нескольких месяцев, однако по факту он не овладел независимой свободной ходьбой практически до 15-го месяца. Его мать была явно обеспокоена, разочарована и проявляла нетерпение. Она часто говорила «Почему он не отпускает руку, ведь очевидно, что он может ходить сам?» Мы можем предполагать, что слишком внезапное осознание отделенности, спровоцированное госпитализацией, вызвало несбалансированность распределения либидо в том, что касалось такого важного достижения, как свободная ходьба. Он мог ходить,
![]()
1 В то время как у нескольких других маленьких детей компенсаторная самостимуляция носила более или менее защитный характер, иногда с оттенком аутоагрессии, в ранней мастурбаторной активности Тедди ни мы, ни его мать, которая была весьма наблюдательна, не смогли уловить признаки негативной, неудачной адаптации.
но не мог себе этого позволить. Ему нужно было за что-то цепляться. В том, что касалось ее детей, миссис Т. была весьма честолюбива. Как мы уже говорили, способность ребенка ходить без посторонней помощи имеет важную сигнальную функцию для матерей. Это убеждает их в том, что их ребенок на настоящий момент развивается успешно, что «он не пропадет в этом большом мире». Запаздывание Тедди в самостоятельной ходьбе сильно огорчало его мать. Это, в свою очередь, как будто лишало Тедди удовольствия от моторной активности и исследований. Важная автономная функция свободной ходьбы стала <<поводом» для конфликта, лишая и мать, и ребенка того неомраченного удовольствия и подъема настроения, которые обычно сопровождают процесс овладения ходьбой. Настроение Тедди в это время было снижено, в Центре он был сонным, и нам рассказали, что дома у него начали случаться вспышки гнева.
Однако, как только Тедди начал свободно ходить (в возрасте 15 месяцев), он стал проявлять все признаки подлинного «любовного романа с миром». Он стал более стабильно энергичен, активен, общителен и уверен в себе. Его деятельность сделалась более целеориентированной, и вспышки гнева прекратились. Он легче переносил расставания. Его привязанность к Чарли по-прежнему была очень крепкой, и он, казалось, не только отзеркаливал и подражал Чарли, но по-настоящему с ним идентифицировался. В это время у Тедди также наблюдалась сильная привязанность к некоторым взрослым, особенно женщинам, и его отношения с ними во многом отражали отношения с матерью. Казалось, что ему была необходима дополнительная подпитка, чтобы компенсировать дефицит материнского внимания в первые месяцы жизни.
К 16-му месяцу Тедди вступил на субфазу воссоединения, на что указывало осознание им местонахождения матери. Казалось, ему нужно было знать, где она находится, чтобы он мог пойти к ней, если ему захочется. Он чутко воспринимал степень ее доступности и подстраивал под это свои запросы. Иногда у него по-прежнему наблюдалась тенденция выпадать из контакта с миром, направляя внимание внутрь себя.
В полтора года поведенческие проявления, характерные для субфазы воссоединения, сильно участились. Он все чаще ходил к матери. Иногда он хотел поделиться с ней своими радостями и переживаниями, иногда просто хотел побыть рядом с ней или посидеть у нее на коленях. даже играя на расстоянии от нее, он частенько на нее поглядывал. Теперь он избегал контакта с теми взрослыми, которые недавно были его лучшими друзьями, как будто ему нужно было укрепить специфичность его отношений с матерью. Реакции на расставания стали более интенсивными, особенно в случае нестандартного опыта сепарации, который мы наблюдали в Центре, когда ушла не только его мать, но и Чарли. Тедди отреагировал на эту двойную сепарацию сильной необоснованной агрессией по отношению к другим детям. Мы предположили, что это была идентификация с агрессором, т. е. с его братом, проявившаяся уже в этом нежном возрасте (ср. Freud А., 1936). В кризис воссоединения у Тедди, казалось, также была вовлечена не только его мать, но и Чарли. В возрасте двух лет мальчик как будто все еще находился в середине переживания этого кризиса и сопутствующей ему борьбы.
Он устанавливал более комфортные отношения со взрослыми, нежели с детьми своего возраста. Он гордился тем, что он мальчик, любил привлекать к себе внимание множеством способов, например, паясничал, демонстрировал свои моторные навыки, а также обнажал свое тело, включая пенис. (Он любил бегать повсюду без штанишек или подгузника.) В то же время он был довольно негативистичен и противостоял усилиям его матери приучить его к туалету. Казалось, он разрывался между желанием сохранить с ней близкие отношения и побуждением функционировать более независимо, идентифицируясь со своими старшими сиблингами, которые уже ходили в школу. После краткого периода «застенчивости» он обрел поразительную способность использовать заменителей матери, чтобы удовлетворить свои потребности близкого контакта или стимуляции. В возрасте двух лет он все еще имел склонность становиться сонным или отчужденным, если ему не удавалось привлечь внимание людей или вовлечь их в свои занятия. Надо отметить, что неудачи у него случалось редко, поскольку он стал весьма искусен в привлечении внимания к себе при помощи вполне умных и трогательных выходок. Его агрессия часто была направлена на получение реакции от другого человека. В последние месяцы своего второго года жизни Тедди часто перевозбуждался от сверхстимуляции во время игр[44] , но его можно было склонить к более структурированной деятельности, если взрослые хоть немного тому способствовали.
Итоги развития Тедди по субфазам
В случае этого мальчика симбиоз был сильно затянут, а дифференциация запоздала, поэтому первая субфаза сепарации-индивидуации больше обычного перекрывалась с периодом раннего практикования.
Субфаза практикования в своей начальной части была прервана госпитализацией Тедди: это привело к преждевременному осознанию им своей отдельности, в результате чего у него были более сильные, чем обычно, реакции на расставания.
Период практикования как такового запоздал, поскольку Тедди (в связи с недавней травмой от госпитализации) с неохотой переходил к самостоятельной ходьбе. Эта фаза была окрашена продолжительной потребностью Тедди в материнской стимуляции и сокращена по времени в связи с тем фактом, что она поздно началась, и вскоре на нее наложился период воссоединения.
В период воссоединения мать Тедди была ему полностью эмоционально доступна, однако она всегда вовлекала во взаимодействие и его брата Чарли. Миссис Т., как мы уже упоминали, поощряла тесные отношения двух братьев, обращаясь с ними, практически как если бы они были близнецами. Таким образом, субфаза воссоединения не имела определенного начала или конца, и ей недоставало субфазной специфичности.
В то же время Тедди вступил в третий год жизни, приобретя ожидаемую степень константности объекта и развитую индивидуальность. В целом он вполне дружески относился к окружающим, хотя и проявлял немалую степень агрессии, направленной по большей части на детей его возраста. Мальчик получал удовольствие от сенсорной стимуляции оральной, тактильной и аудиальной модальностей, любил жевать, сосать, выпускать воздух и совершать другие действия ртом, также ему нравилось трогать необычную текстуру. Тедди возбуждала музыка, на которую он реагировал руками, ногами, головой и всем телом. Его потребность в стимуляции была явно выше среднего и, предположительно, имела корни в дефиците общения с матерью, пережитом им в раннем детстве.
ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ ТЕДДИ
В начале третьего года жизни выражению лица Тедди все еще не хватало сосредоточенности, и он с трудом сохранял целенаправленность. Часто он мог прервать свои занятия и замереть, уставившись в пространство. Особенно часто это случалось, когда матери не было в комнате. (Это напоминало погружение в фантазии у маленьких детей со сниженной тональностью настроения.) Когда Тедди находился в этом расфокусированном и, на первый взгляд, беспричинном состоянии, он иногда мог наброситься на другого ребенка без всякого повода или провокации со стороны того. Взрыв неспровоцированной агрессии такого рода, казалось, помогал ему вырваться из состояния дневных грез и явной апатии, и он затем становился весьма бодрым и проказливым, что так нравилось в нем наблюдателям.
В возрасте от 21 до 22 месяцев на Тедди сильно повлиял тот факт, что его старший брат теперь посещал детский сад и уже не являлся каждый день в Центр вместе с ним. Без Чарли Тедди казался потерянным. Зато в те дни, когда Чарли приходил в Центр, чтобы навестить его, Тедди делался гораздо более активным и бодрым.
Тедди был энергичным мальчиком, который любил разнообразные эксперименты с использованием своего тела. Он также любил играть с материалами, которые обеспечивали его сенсорной стимуляцией, такими как вода, краски и глина; он предпочитал их игрушкам.
В начале четвертой субфазы (консолидация индивидуальности ребенка), когда Чарли уже не находился вместе с Тедди в комнате тодцлеров, к нашему удивлению, у него возобновился паттерн, преобладавший в то время, когда мать кормила его держа лицом от себя. Тедди в целом все еще оставался дружелюбным и интересовался людьми, но ему не нравилось, когда к нему подходили слишком близко, и он избегал глазного контакта.
Пертурбации субфазного развития Тедди во время дифференциации и практикования, помноженные на вышеописанный необычный дефицит глазного контакта между ним и его матерью на симбиотической фазе, по всей видимости, были главными факторами, отвечавшими за особенную неровность в интеграции образа тела у Тедди.
Мы уже отмечали преждевременное осознание Тедди определенных частей тела, особенно своих гениталий. Это было связано с его близостью к Чарли, что позволило ему продолжительно наблюдать пенис брата, сходный по размеру и другим параметрам с его собственным и в связи с этим легко ассимилированный в его собственную схему тела (ср. также: Greenacre, 1959, 1968). Возможность разглядывать брата привела в движение его собственные телесные ощущения (он обнаружил у себя пенис в 12 месяцев) и усилила раннюю генитальную аутоэротическую активность (спокойную и направленную на самоутешение мастурбацию).
В то же время запаздывание в интеграции образа тела вынуждало Тедди как-то компенсировать этот дефицит. Той же самой компенсаторной защитной функции служили его частые игры в «ку-ку» и зрительные упражнения визуальной модальности.
Следующие наблюдения за поведением Тедди и интерпретация лежащей в его основе динамики подтверждают эти предположения.
Однажды, когда на третьем году своей жизни Тедди опознал свое отражение в зеркале и свою фотографию как «я», у него появился необычный способ указывать на себя. Когда его спрашивали: «А где Тедди?» — он указывал на свои глаза, нос, рот, а не на свое тело целиком, не на себя. Это свидетельствовало о запаздывании адекватной возрасту интеграции образа тела. В то же время удовольствие, получаемое Тедди от сенсорной и физической активности, должно быть, компенсировало до некоторой степени эту задержку. Можно было бы склониться к гипотезе, что сенсорное восприятие своего тела в движении помогало Тедди чувствовать себя комфортно, поскольку, перемещаясь в пространстве, он ощущал себя более целостным, как бы собираясь в «нечто единое».
Поведение Тедди в начале третьего года должно рассматриваться во взаимосвязи с двумя важными фактами его жизни. Первая особенность, которую мы уже отмечали ранее, состояла в том, что Тедди в хронологическом возрасте воссоединения казался всегда как будто потерянным в отсутствие своего брата Чарли. Первые три субфазы процесса сепарации-индивидуации он прошел с помощью своего рода эмоциональной либидинальной и агрессивной доступности своего старшего брата, компенсируя таким образом ограниченную доступность своей матери. Мать мальчиков, на которую в момент рождения Тедди одновременно обрушилось столько проблем, часто говорила о том, как это удачно, что мальчики так близки по возрасту, поскольку они могут все делать вместе. Когда Тедди впервые пришлось столкнуться с чувством собственной отдельности, он прошел через это, определенным образом используя личность Чарли. В хронологическом возрасте четвертой субфазы ему пришлось пройти процесс сепарации-индивидуации с самого начала, отделяя свое телесное Я и свою индивидуальность от симбиозоподобной вовлеченности в отношения с Чарли. Наблюдение за его играми позволило увидеть сильные зеркальные идентификации Тедди, возможно, даже серьезную спутанность с образом Чарли. На одной игровой сессии Тедди называл большую куклу-мальчика то «Тедди», то «Чарли». Когда наблюдатель за играми спросил у него «Как тебя
зовут?», Тедди ответил: «Чарли». Когда его мать задала тот же вопрос, ответ был таким же. Мы склонялись к тому, что это была не просто игровая фантазия-желание, но что в этом случае имелась по-настоящему сильная квазииллюзорная спутанность идентичности. В любом случае мы предполагали, что, по крайней мере, в воображении Тедди они с братом были взаимозаменяемы. (У Тедди был период, когда он хотел носить одежду Чарли и отказывался носить свою.)
Второй факт из ранней жизни Тедди, который, по-видимому, влиял на его поведение в начале и на протяжении всего третьего года жизни, состоял в дефиците материнского внимания, который он испытывал в первые месяцы своей жизни. Тедди был чрезвычайно чувствителен не только к физическому присутствию или отсутствию матери, но и к степени ее доступности и к ее настроению в целом. Это заставляло его прилагать всевозможные усилия, чтобы вовлечь мать в контакт. В его репертуаре было кривляние, ангелоподобное поведение и другие весьма разнообразные выходки, а порой и непредсказуемые взрывы агрессии.
Ко второй четверти третьего года жизни появились признаки того, что Тедди достиг более высокого уровня осознания себя как целостного человека, контролирующего свое тело и телесные ощущения. Это проявлялось, в частности, в его отношении к своему стулу. Мальчик демонстрировал, что он расценивает свой стул как нечто принадлежащее именно ему, что он может его удержать или отдать. Такое восприятие продуктов своего тела совпало по времени с появлением у Тедди словесных обозначений для его собственности. Когда другой мальчик старался отобрать у него книжку, Тедди — вместо того, чтобы наброситься на него, как он сделал бы несколькими неделями ранее, — вцеплялся в книгу и говорил «Мне книга». Когда другой ребенок залезал на колени его матери, он сталкивал его, говоря: «Нет. Мамочка — моя». Он называл Центр «мой садик», показывая, что у него, как и у Чарли, тоже есть свой детский сад. Эта способность не отдавать свое и обозначать словами «мое» и «твое» принадлежность предметов возникла у Тедди позже, чем у других детей, и указывала на укрепившееся чувство собственной индивидуальности (идентичности). Вместе с тем деятельность Тедди стала более целенаправленной, и он также начал делать более активные попытки контролировать процесс расставаний. Он постоянно изобретал множество вариантов игры в «ку-ку» и в прятки. Он предвосхищал уходы матери и говорил ей, чтобы она уходила, если знал, что ей пора.
После того, как Тедди развил сильное чувство индивидуальности и обладания, у него стала наблюдаться озабоченность кастрацией и интерес к половым различиям. Дома Тедди и его брат, по рассказам матери, много разговаривали об отсоединении пениса и других частей тела и прикреплении их обратно. В Центре Тедди интересовался отсутствующими частями сломанных вещей; ему нужно было, чтобы все оказывалось на своих местах. Он неожиданно заметил, что на двери отсутствует ручка (хотя ее не было на месте уже несколько месяцев), и постоянно указывал на это. Он также настаивал, чтобы молнии на пальто были полностью застегнуты и чтобы его мать надевала на голову капюшон. Кастрационная тревога, таким образом, находила себе косвенные проявления в форме стремления Тедди, чтобы все было завершено, находилось на месте и было в порядке.
Поведение, связанное со страхом кастрации, было замечено у него в возрасте двух с половиной лет. С Тедди было трудно справиться в обувном магазине; когда продавец пытался снять с него обувь, он активно протестовал. Стрижка волос была для него особенно травматическим испытанием: он громко кричал и сопротивлялся так, что его матери приходилось держать его за руки и за ноги. На следующий день после стрижки Тедди тяжело переживал расставание с матерью. Он однозначно демонстрировал свой гнев на нее за то, что она подвергла его этому испытанию, и в то же время 60ялся потерять ее любовь.
Страх кастрации проявлялся также в его игре, пополняясь за счет его выраженных агрессивных фантазий. Играя с куклами и игрушечными животными, он постоянно хотел отрезать части их тела. Это было высшей точкой сверхозабоченности
Тедди по поводу того, сломаны ли вещи или целы. Теперь он стал более открыто говорить о том, у кого был пенис, а у кого — нет. Однажды, глядя между ног куклы, он начал мастурбировать и затем убежал в туалет, чтобы помочиться. Было интересно наблюдать, как Тедди в игре прорабатывал свой ранний острый страх телесного повреждения. Он всегда мог получать удовольствие от своих телесных проявлений. Однажды, раздеваясь, чтобы сходить в туалет, он направил свой пенис на мать с озорным выражением в глазах, а затем устроил игру в <<ку-ку», открывая и прикрывая свой пенис трусиками. Многие виды деятельности Тедди казались связанными с восприятием своего тела и способами, которыми он мог его использовать. Он кривлялся или экспериментировал в игровой форме с различными предметами, которые применял не по назначению. Например, притворившись, что бреет лицо, затем он «побрил» голову и рот. После разговора по телефону он прижимал трубку к глазам или животу, а затем вешал ее неправильным образом. Он засовывал кусочки пластилина себе в уши; таким образом он придавал себе уверенности, привлекая к себе внимание и показывая, какой он большой и сильный. Особенно часто он этим занимался, когда матери не было в комнате. Он важно расхаживал, выпятив живот и печатая шаг. Он находился в бесконечном движении, извиваясь, пожимая плечами или гримасничая.
Все это поведение Тедди демонстрировало связь страха кастрации, страха сепарации и агрессии как защиты. Например, однажды, неохотно позволив матери покинуть комнату, он расстроился из-за того, что крекер упал на пол и раскололся. Он начал хныкать, а затем тут же принялся раскалывать другие крекеры, швыряя их на пол. Сделав это, он заулыбался. Нам показалось, что он пытался справиться со своей озабоченностью по поводу расколовшегося крекера, расколов еще несколько штук, делая это намеренно и победоносно. После этой поведенческой последовательности Тедди пошел в детскую комнату, где была его мать, поиграл несколько минут на расстоянии от нее, затем подошел к ней, протянул ей свой палец и жалобно сказал: «Кусать меня». Она взяла его на руки и спросила: «Кто укусил тебя?» — и Тедди назвал разных людей. (Мать не осознавала, что Тедди хотел наказания и просил укусить его, поскольку только что был плохим мальчиком!) Позже, вернувшись в комнату тоддлеров без матери, он снова расстроился, когда сломалась игрушка. Он начал крушить ее, разбрасывая куски по полу. Когда он швырнул ложку, которая тоже сломалась, он сказал: «Папа ее сломал». В конце концов, он запустил через комнату куклу-маму и куклу-папу. Все это указывало на то, что Тедди пришлось бороться с большим количеством не очень успешно нейтрализованной агрессивной инстинктивной энергии внутри себя.
У Тедди постоянно происходил конфликт чувств, жажда близости и агрессия одновременно переполняли его. Он провоцировал ссору со своей воспитательницей, а затем разражался слезами, но когда воспитательница брала его на руки, чтобы успокоить, он брыкался, бил ее и хватал за волосы, в то же время пытаясь нежно прильнуть к ней всем телом. Когда она опускала его на пол, он опять подходил к ней, зарывался лицом ей в колени и обхватывал руками ее за пояс жестом, который указывал на желание слиться, но одновременно с этим ему необходимо было отгородиться от своего желания слияния. Это было примечательным примером производных базового (необязательно несущего в себе угрозу) механизма расщепления.
На третьем году жизни для Тедди стало очень важно, чтобы его считали хорошим мальчиком, он стремился получить одобрение матери. В результате это привело к тенденции использовать проекцию как защитный механизм. Тедди начинал винить любого, кто бы ни оказался поблизости, в любой неприятности, причиной которой он стал, или в любом причинении ущерба, который он переживал; это также привело к тенденции раннего формирования предшественников Супер-Эго, которые проявлялись в его озабоченности тем, кто был «хороший», а кто «плохой».
Миссис Т. рассказывала, что Тедди подходил к ней и говорил: «Чарли плохой мальчик, я хороший мальчик». Однажды Тедди услышал, что мать сообщила воспитателю, что он оцарапал ей нос, когда она пыталась уложить его спать. Когда его спросили, обидел ли он маму, Тедди сказал: «да, не слушаться». Воспитательница проинтерпретировала его заявление как означающее, что он был непослушным и оцарапал маму, но Тедди поправил ее: «Нет, мама была непослушной», возмущенно глядя на мать. Он также искал, кого назначить виноватым, если ему случалось пораниться. Однажды, когда воспитательница помогала ему нести стол, он упал, так как шел спиной вперед. Он резко ударил воспитательницу несколько раз и сказал: «Ты сделала мне больно», и топнул ногой, кривляясь и смеясь; все это указывало на то, что его чувство реальности функционировало правильно. Воспитательница понимала, что Тедди знал, что не она была причиной его падения, но что он получил удовлетворение, обвиняя ее и в то же время превращая это в игру. Сходным образом, когда он чувствовал себя обиженным или раздраженным в отсутствие матери, он обвинял в своих обидах окружающих и, в свою очередь, старался причинить им боль. В это время, когда Тедди казался таким озабоченным тем, кто был хорошим и кто был плохим, кого надо было винить и кто был обижен, он добавил два важных новых слова в свой словарный запас — «да» и «я».
Этими видами поведения, которые, как мы полагали, являлись предшественниками развития Супер-Эго, ознаменовались очень сильные реакции на сепарацию, которые были у него в то время. В определенные моменты расставания становились для него практически невыносимы. Он начинал плакать и умолять мать не уходить. В другое время он мог ее отпустить, но в его поведении отчетливо ощущалось напряжение, и рано или поздно он шел ее искать. Он стал более упрямым, жадным и агрессивным в отсутствие матери и стремился полностью завладеть вниманием наблюдателей, и особенно воспитательницы. Временами он выглядел грустным и удрученным и сидел, уставившись в пространство, как будто ему необходимо было вызвать внутренний образ хорошей «симбиотической матери». Он продолжал интенсивно трудиться над овладением своими чувствами и инициировал множество игр в прятки, «привет-пока» с наблюдателями. Он любил
принимать на себя роль того, кто уходит, закрывая за собой дверь и говоря «Я вернусь».
Однажды мы наблюдали, как Тедди, злясь на мать за то, что та ушла, уравнял «плохую уходящую мать» с фекалиями. Он отгородился от своего страха и желания, чтобы мать была спущена в туалет, в игровой последовательности, в которой он отыгрывал следующее: в то время как он играл с семьей в кукольном домике, в котором имелся игрушечный туалет и ванна, он неожиданно расстроился, потому что решил, что наблюдатель был невнимателен к нему и его игре. Он полил водой куклу-мать и швырнул ее наблюдателю на колени; затем он вышел из комнаты и заявил, что хочет к мамочке. Вместо того, чтобы пойти в комнату для интервью или в детскую, Тедди пошел в туалет, заглянул в один из детских унитазов, затем посмотрел на наблюдателя и спросил, где же мама. Наблюдатель отвел его в комнату для интервью, где она и находилась. Некоторое время спустя, когда они вышли оттуда, Тедди подбежал и сказал матери: «Ты смываешься».
Когда мать возвращалась, Тедди часто не бежал прямо к ней, и его счастье проявлялось только в улучшении настроения. Когда же он к ней подходил, он клал голову ей на колени или старался втиснуться в небольшое пространство у нее на стуле и выглядел очень довольным.
Другой интересной чертой развития личности Тедди было то, что он острее, чем среднестатистический ребенок трех лет, воспринимал чувства других. Возможно, это было связано с трудностями, которые он переживал в процессе индивидуации. Иногда он использовал свою чуткость, чтобы приобрести власть над окружающими. Так, например, он обвинял своего брата или сестру в том, что они были «плохими», в то время как он, Тедди, был «хорошим». Он прекрасно знал, что им было неприятно это слышать. В другие моменты, однако, он мог быть удивительно деликатным и добрым. Когда одна маленькая девочка в Центре выглядела особенно обеспокоенной, Тедди поделился с ней своей любимой игрушкой; он весьма любезно показал ей, как пользоваться этой вещью. Другой случай проявления подобной эмпатии имел место в тот же
день. Тедди пытался спихнуть другого ребенка с лошадки-качалки, пока тот на ней катался, но после того, как покачался сам, он очень мило предложил тому же ребенку снова занять освободившуюся качалку.
После того, как он множество раз по разным поводам говорил матери или воспитателю: «Ты мне не нравишься», — Тедди запоминал самые незначительные моменты и не упускал возможности немногим позже внести поправку, заверяя их: «А теперь ты мне нравишься».
Во второй половине третьего года жизни весьма успешно происходило его психосексуальное и эго-развитие. Он приучился к туалету. Он гордился тем, что мог делать разные вещи сам, например, расстегивать молнию на куртке или наливать сок в стакан.
Мать рассказала, что дома Чарли и Тедди часто дрались, но теперь их драки уже не возникали по поводу претензий на обладание или конкуренции за внимание. По ее мнению, теперь стычки между ними случались, если один из них просто оказывался на пути у другого как у индивида, утверждающегося в своих собственных правах. Они дрались, пока один не начинал бить другого настолько сильно, что тот бежал к матери, и она чувствовала, что не может оставить их наедине с какими-либо потенциально опасными предметами в зоне достижимости. В связи с возросшим чувством своей отдельности у Тедди в сочетании с его желанием безраздельно обладать матерью эти битвы часто приобретали оттенок борьбы за «выживание».
В Центре Тедди выражал свои страхи более косвенно. Он говорил, что боится таракана, которого он увидел, потому что тот мог укусить и съесть его и Чарли заодно. Однако его устойчивое чувство реальности помогло ему собраться и в следующую минуту подобрать таракана, кинуть в туалет и спустить воду.
Тедди интересовало сравнение размеров вещей, с этим было связано его недавно возникшее уважение к отцу как к самому большому в семье. Он рисовал маленькую и большую линии, маленький и большой круги. Если раньше ему
не нравилось, когда его называли самым маленьким, теперь же он не возражал, коль скоро остальные тоже были «малюсенькими». Он называл «малюсенькими» всех, кроме своего отца.
Во время визита наблюдателя к ним домой Тедди несколько раз указал ему на то, что папа в семье был самым большим. Разглядывая книжку о семьях животных, он каждый раз расстраивался, когда одна из девочек называла самое большое животное мамой. Он вскрикивал: «Нет, это папа». Очень важным достижением являлось то, что сейчас, на фаллической фазе, Тедди был способен достигнуть подлинной эго-идентификации со своим отцом. Он приобретал свое собственное право на индивидуальность, отделяясь от Чарли.
Склонность Тедди становиться депрессивным, грустить, глядя в пространство, при этом механически наливать воду, что-нибудь жевать или просто ничего не делать, все еще часто проявлялась во второй половине его третьего года жизни. Это грустное настроение возникало у него, когда матери не было в комнате и другие дети напоминали ему о ней своими рассуждениями о том, где находились их матери. Казалось, он практически постоянно думал о ней. Он также выказывал озабоченность своим телом. Эти две тревоги — как было замечено ранее — казались тесно связанными в голове Тедди.
К концу третьего года жизни, несмотря на эти периодические моменты грусти, Тедди реагировал на расставания довольно спокойно. Он позволял матери уходить, не протестуя; хотя он и мог выглядеть грустным или с тоской смотреть, как она уходит, он очень хорошо играл в течение ее непродолжительного отсутствия. Только по прошествии длительного периода, когда ему напоминали о ней другие дети, говорящие о своих матерях, он делался грустным или выражал потребность пойти к ней. Когда его к ней отводили, он удовлетворялся тем, что просто видел, где она была; он быстро играл в свою обычную игру «привет-пока» и возвращался к конструктивной и соответствующей его возрасту деятельности в комнате тоддлеров. Можно сказать, что к концу третьего года жизни Тедди достиг ожидаемого уровня константности объекта и Я, а также консолидировал свою индивидуальность.
ГЛАВА 12
эм был одаренным ребенком, который боролся за независимое функционирование в отношении как сепарации, так и индивидуации. Нас поражало то, сколько ресурсов он задействовал, чтобы противостоять поглощению и защищать свою автономию. В случае Сэма процесс индивидуации начался рано, сильно опережая сепарацию. Это расхождение было обусловлено задержкой моторного развития, вызванной отчасти внутренними, отчасти внешними факторами. Достаточно рано мы увидели телесные признаки его дистанцирования от матери. Отсутствие баланса между сепарацией и индивидуацией оказывало несколько дезорганизующий эффект на игру и раннее языковое развитие Сэма.
МАТЬ СЭМА
Миссис Р. предалась материнской роли с неудержимой энергией. Ее энтузиазм достигал высших точек, когда ей удавалось спроецировать и, таким образом, подкрепить свой эго-идеал — образ вседающей матери, которая старается удовлетворить ребенка, не дожидаясь от него сигнала о какой-либо потребности. Такая концепция активно поддерживалась ее мужем.
РАЗВИТИЕ СЭМА ПО СУБФАЗАМ
Сэм был податливым, мягким, приятным малышом, о котором легко было заботиться. Его мать получала большое удовольствие от его младенчества и особенно наслаждалась, кормя его грудью, что она продолжала делать до 18-го месяца Сэма. Он не был «моторно-ориентированным» ребенком и с самого начала, казалось, предпочитал полной мышечной активности всего тела незначительную мускульную активность и манипулирование объектами. Ранние месяцы жизни Сэма казались очень приятными как для матери, так и для ребенка.
Как бы то ни было, даже в этом раннем, наиболее блаженном симбиотическом периоде миссис Р. излишне стимулировала ребенка. Ей было необходимо, чтобы Сэм был постоянно вовлечен в симбиотические отношения с ней. Ей требовалось продолжительное взаимодействие с ребенком.
История развития Сэма, начиная с субфазы дифференциации (с четвертого по пятый месяц), является сагой его попыток вырваться из сверхстимулирующей окружающей среды. Начиная с четвертого по пятый месяц, как мы заметили, Сэм вырывался из обволакивающих объятий своей матери, упираясь руками в ее грудь и отклоняя корпус назад движением, которое казалось почти судорожным.
Очень характерный, специфичный стиль сепарации-индивидуации Сэма был результатом, с одной стороны, его медленного локомоторного развития (предположительно, предопределенного генетически) и, с другой стороны, его потребности вырваться из ограничивающего симбиоза. По причине замедленного развития двигательной сферы процесс сепарации не протекал так естественно и гармонично, как у других детей, которые к возрасту восьми или девяти месяцев начинали постепенно и активно дистанцироваться в пространстве от своих матерей.
В возрасте восьми—девяти месяцев, когда у среднестатистического ребенка специфическая связь с матерью крепче всего, Сэм уже начал в некоторых ситуациях предпочитать матери незнакомых людей. У него полностью отсутствовал страх сепарации. Однако даже в этом очень раннем возрасте он реагировал на неодобрение со стороны матери снижением настроения.
В возрасте 10 месяцев Сэм продолжал отворачиваться от матери и лишь пассивно принимал ее приглашения
к шумным играм. Когда приблизительно в год он начал ползать, он использовал этот навык, чтобы дистанцироваться и иногда избегать своей матери. Сепарационные реакции все еще отсутствовали, и Сэм продолжал предпочитать своей матери знакомых наблюдателей. Она же по-прежнему обращалась с ним как с не умеющим самостоятельно передвигаться младенцем.
С 11-го по 12-й месяц Сэм часто не слушал мать, даже когда она с ним разговаривала. Чтобы добиться его внимания, миссис Р. играла с ним в грубоватые игры и начала побуждать его играть в догонялки, в которых она бежала за ним, а Сэм уползал. В таких случаях миссис Р. хватала его на руки, меняя направление, в котором он полз.
Период практикования у Сэма был атипичным. Начался он поздно. Мальчик еще не овладел вертикальной локомоцией в хронологическом возрасте периода практикования. Его склонность забывать о матери усилилась. Налицо было тотальное отсутствие реакций на сепарацию и феномена подзарядки. Кроме того, казалось, что его не коснулось явление улучшения настроения; «любовного романа» с миром в полном объеме также не наблюдалось.
Чуть позже, в возрасте 17—18 месяцев, Сэм удивил свою мать (которая к тому времени была уже весьма обеспокоена тем, что с ним происходило) и других людей на игровой площадке свободным прямохожДением, направленным прочь от матери; в это же время Сэм активно отказался от груди. Вскоре после того, как он овладел вертикальным передвижением, появились первые признаки субфазы воссоединения. Мальчик уже не игнорировал мать и находил удовольствие во взаимодействии с ней. На самом деле, теперь он стал демонстрировать, что скучает по ней; когда она покидала его, он шел к пустому стулу, на котором она сидела. Он становился гиперактивным в ее отсутствие, как будто нуждался в аутостимуляции для воссоздания волнующей атмосферы их взаимодействия. Временами Сэм пытался выбежать из комнаты за матерью и волновался, если не мог ее немедленно обнаружить. (Все эти типы поведения указывали на запоздалые сепарационные реакции, вперемежку с феноменами воссоединения.)
Сэму было 19 месяцев, когда он стал демонстрировать поведение, более типичное для раннего периода воссоединения. Он проявлял те признаки воссоединения, которые у большинства детей предшествовали этой субфазе. Он начал приносить матери игрушки и получать удовольствие от совместных занятий с нею. У Сэма на стадии воссоединения проявлялся очень интересный, весьма характерный для него паттерн: временами он забирался на колени матери и тихо сидел, прижавшись к ней, но если она сама начинала двигаться в его сторону, он останавливался на середине пути к ней и не шел дальше. В такие моменты, если она ловила его против его желания, он толкался, брыкался и пытался ее ударить.
Что касается переживаний пассивной сепарации, реакции на расставания стали довольно интенсивными: Сэм безутешно плакал, когда его мать выходила из комнаты. Недавнее овладение им свободным прямохождением, казалось, усилило его потребность быть ближе к ней и как будто неожиданно заставило почувствовать свою отдельность. Лишившись той поддержки, которую давал ему пол, пока он ползал на четвереньках, он внезапно почувствовал себя очень уязвимым. После появления этого страха потери поддержки у Сэма на некоторое время снова начался период радостных исследований на расстоянии от матери, и появились некоторые признаки энергетического подъема запоздалой субфазы практикования. Когда борьба, характерная для стадии воссоединения, возобновилась, у Сэма начался период чередования прилипания к матери и попыток ее избегать.
Сэм завершил период борьбы и кризиса воссоединения, будучи отстраненным маленьким мальчиком, который не находил особого удовольствия в отношениях с окружающим миром. В его взаимодействии с другими тоддлерами обращало на себя внимание то, что он потерял интерес к сверстникам и вместо этого устанавливал активный контакт с более старшими мальчиками или с младенцами и их матерями. Это наводит на мысли о характерной черте, которая часто наблюдается у людей в более старшем возрасте и проявляется в том, что они не могут устанавливать отношения с равными себе, и привлекательны для них лишь те, кто стоит ниже или выше их по положению.
Другой характерной особенностью поведения Сэма была тенденция разыгрывать определенное действо, притворяясь беспомощным младенцем. Интересно, что это происходило в то время, когда его мать сообщила о своем желании снова забеременеть. Сэм, таким образом, проявил некоторые тенденции оставаться вовлеченным в симбиотические отношения — возможно, чтобы сделать приятное матери или возобновить прежние, более счастливые времена, когда он был ее пассивным младенцем.
В психосексуальной сфере Сэм демонстрировал признаки перевозбуждения и сильно выраженный страх кастрации. К концу второго года жизни он так боялся туалета, что его мать оставила попытки его к нему приучить. В то же время он был озабочен пенисами, называл банан «пи-пи», а пенис своего друга «милым».
ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ СЭМА
Во время игр Сэм был шумным, часто неуправляемым и возбужденным. Неравномерное внимание матери к нему не соответствовало его потребностям: иногда она физически нависала над ним, иногда доминировала над ним вербально. Сэм, в свою очередь, часто игнорировал указания матери и просил ее сесть, когда она становилась слишком навязчивой.
Сэм с готовностью ходил в комнату тоддлеров и оставался там без матери, такое поведение было не характерно для детей его возраста, которые, как мы описывали, первоначально нуждались в поддержке, чтобы находиться в этой комнате одним. Будучи в игровой, Сэм редко спрашивал про свою мать, а если и спрашивал, то легко удовлетворялся тем, что ему сообщали, где она.
В начале третьего года жизни, после летних каникул, мать Сэма рассказала, что недавно мальчик решил обходиться без подгузников; он оставался сухим и, за исключением того времени, что он был в кроватке в подгузнике, использовал горшок для опорожнения кишечника. Она сообщила, что Сэм был горд своими достижениями и хвалился перед друзьями. Но затем, через несколько дней, он решил вернуться к подгузникам. С этого момента приучение к туалету превратилось в конфликтную ситуацию, подобную той, что сложилась на втором году жизни Сэма вокруг автономных функций, ползания и ходьбы.
Как только миссис Р. окончательно утратила свою иллюзию, что Сэм был с ней одним целым, ее симбиотической половиной, она стала воспринимать его как своевольного маленького мальчика, которого она не могла контролировать. Она говорила, что, как только Сэм поймет, чего хочет, ничто его «не сдвинет с этой точки».
Уровень сексуального возбуждения у Сэма в этом возрасте был достаточно высоким. Мы наблюдали, что, когда с него снимали штанишки в туалете, он с откровенным удовольствием мастурбировал, надавливая на кончик своего пениса. Однажды он сказал: «Хороший пенис», — и затем посмотрел на наблюдателя и сказал: «Вы хорошие люди».
Удовольствие, которое получал Сэм от своего тела, особенно удовольствие от пениса, казалось, распространялось на весь мир в целом. Но определенные признаки указывали на значительно большее, чем обычно, количество страхов по поводу тела и возможной кастрации. Однажды наблюдатель заметил такую последовательность: Сэм весьма возбужденно раскачивался в лодке-качалке, настойчиво отталкивая другого мальчика, когда бы тот ни попытался залезть в лодку. После качания он соединил вместе большие поезда и затем положил в них игрушечных животных, говоря, что у каждого животного было «бо-бо». Таким образом, казалось, что его мастурбаторная активность — по крайней мере, частично — была попыткой успокоить себя, защитив от страхов кастрации.
В ходе третьего года жизни кастрационная тревога усилилась. Сэм демонстрировал большую озабоченность даже по поводу незначительных повреждений. Когда другой мальчик показал ему пораненную коленку, Сэма это очень обеспокоило, и он затем сказал, что учитель поранился и у него самого также имелась рана. На протяжении этой беседы, которая проходила в туалете, Сэм, на котором не было штанишек, мастурбировал. В свои 28 месяцев он все еще не пользовался туалетом; вместо этого он играл в туалете, испытывая унитазы и дергая за цепочки для спуска воды.
К этому времени Сэм, казалось, вполне осознавал беременность матери, хотя ему об этом и не говорили. Он проявлял свою осведомленность, играя с куклами и нянча их. Он отметил, что его мать выглядела пополневшей, и миссис Р. сообщила, что он сказал, что у него самого был ребеночек внутри.
На 30-м месяце жизни Сэма, казалось, начали происходить некоторые значительные перемены. Возможно, самой важной переменой стала его возросшая потребность в матери. Это особенно проявилось в тот день, когда мать постоянно уходила из комнаты. Он не отреагировал на ее первый уход, но вскоре после ее возвращения захотел на руки. Когда миссис Р. заговорила о том, чтобы уйти из комнаты снова, Сэм несколько раз взволнованно просил ее остаться. Когда она, тем не менее, собралась уходить, он задержал ее. Он спросил про нее вскоре после того, как она ускользнула, и прошло немало времени, прежде чем он снова смог заинтересоваться игрой. В ее отсутствие в его игровом поведении проскальзывало бешенство; он бегал от одной вещи к другой. Баланс взаимоотношений, казалось, сместился: теперь Сэму требовалось больше внимания от матери, а мать была относительно менее внимательна к нему. Необходимо также не упускать из виду, что этому, возможно, в немалой степени способствовала беременность матери — миссис Р. становилась все более поглощенной собой, как это часто происходит у беременных женщин, и Сэм реагировал на ее отдаление все более яростным прилипчивым поведением.
Тревоги Сэма по поводу кастрации или повреждений продолжались. Отец Сэма любил брать его в музеи. В музее Сэм захотел посмотреть на статую «сломанной леди». О другой статуе он сказал, что у нее «сломанное пи-пи». В его поведении наблюдались признаки попыток справиться с этой тревогой при помощи игры. Миссис Р. разыгрывала отрывание у Сэма носа, а затем он отрывал ее нос, говоря «Я его ем». Играя с наблюдателем, Сэм притворялся, что отрезает у нее волосы. Таким образом, он принимал на себя активную роль, идентифицируясь с агрессором. Играя с пластилином, Сэм скатывал его в длинные колбаски, называя их пальцами, а затем говорил: «Пораненный палец, порезался, у него бо-бо».
Сэм продолжал бороться с тревогой при помощи всевозможных предшественников защитных механизмов. Однажды старший брат одного из детей пришел одетый Супермэном, и несмотря на то, что Сэм его испугался и прижался к воспитателю, впоследствии он смог в игровой форме отзеркаливать и идентифицироваться с мальчиком. Он объявлял: «Я — Супермэн». Сэм также пытался облечь чувство злости в слова. Однажды, когда ему не позволили забрать что-то у другого ребенка, он сказал: «Я зол».
В день, когда родилась маленькая сестра Сэма, его привел в Центр воспитатель. Сначала, несмотря на то что он нуждался в некоторой поддержке, он держался относительно хорошо. он подошел к зеркалу и стал кривляться, как будто возбуждаясь от своих действий, а затем произнес: «У Сэма все в порядке». Воспитатель сказал: «Сэм — мальчик, у которого все в порядке», а он ответил: «Сэм — мальчик». Позднее, когда к нему присоединился другой мальчик, Сэм сказал: «Только мальчики». В тот день Сэма постоянно спрашивали о его матери и маленькой сестре. Сначала он справлялся с этими вопросами достаточно хорошо. Он был увлечен игрой с водой и говорил, что маленький ребенок принимает ванну; затем он сказал, что это был маленький зайчик. Но по мере повторения вопросов они стали вызывать у Сэма негативные чувства. Сначала он пытался избегать вопросов, отходя от человека, который их задавал; затем его злость начала нарастать. Он стал более импульсивен и сконцентрировался на своей неистовой игре, ударяя и разрезая животных из глины, отламывая им конечности и хвосты. При этом он убеждал себя в собственной телесной целостности, говоря: «Нож мне не опасно». Он стал чрезмерно чувствителен к агрессии, направленной на него. Когда другой мальчик дотронулся до одного из его животных, Сэм сказал: «Чарли меня обидел». У него был кусочек глины, на который он наступил и который он называл «зайчик», — это слово он ранее использовал для обозначения своей маленькой сестры. Он положил этот кусочек глины к себе в штанишки, говоря, что он засунул его в свой «пи-пи» (возможно, желая отослать ребенка обратно в матку?), и настаивал на том, что он должен взять его домой; он расстроился, когда глина вывалилась из его штанишек. В конце концов, он согласился отнести раздавленного «зайчика-младенца» домой в пластиковом мешке.
После рождения сестры Сэм находился в неистовом, паническом состоянии большую часть месяца: он был гиперактивен, импульсивен и постоянно невнятно бормотал что-то, что, по-видимому, представляло собой первично-процессуальный фантазийный материал. Когда он говорил, он не обращался к людям прямо. Когда он чего-то хотел, он просто называл это снова и снова, как будто ожидая, что это появится магическим образом. Агрессия ощущалась как в стиле, так и в содержании его деятельности, однако она редко была направлена вовне на людей. Он делал из пластилина монстров, объявляя их Мамой Монстром, Папой Монстром и Крошкой Монстром. Он говорил, что гладит Крошку Монстра, но на самом деле его избивал. Когда Сэм взял Папу и Маму Монстров, вылепленных из пластилина, и скатал их вместе, было высказано предположение, что он был озабочен наблюдениями за первичной сценой.
Озабоченность кастрацией продолжалась. Немного поранившись, Сэм сказал: «Учитель весь разбит». Он хотел вылечить шрам, который имелся у его матери, наклеивая на него пластыри. Непосредственная ассоциация, демонстрирующая, как защиты — в данном случае от рассматривания и вуайеризма — формируются in statu nascendi [45], выражалась в его страхе, что солнце может повредить его глазам: он защищал глаза, прикрывая их игрушечными животными. Глядя на картинку с ярким солнцем и облаками, он радовался облакам и хотел добавить их еще, чтобы закрыть солнце. Казалось, что страх солнца и его способности ослеплять был связан с возможностью видеть свою маленькую сестру, а также мать и отца обнаженными.
Поразительно, но ничто в поведении Сэма не указывало на то, что, как можно было бы предположить, было одной из главных причин его беспокойства, а именно на отсутствие в Центре его матери и нового ребенка. О степени выраженности у него избегания и отрицания можно было судить по его реакциям на ведущего исследователя. Она многократно пыталась поговорить с ним о его матери и младенце. Сэм либо убегал, либо вел себя так, будто ничего не слышал. Дошло до того, что, лишь завидя ее, он начал убегать или пытаться прогнать ее. Он реагировал на «навязчивость>> исследователя во многом так же, как в раннем детстве реагировал на навязчивость матери. В то же время это поведение выражало его потребность отгородиться от воспоминания о своей матери, по которой он скучал и на которую, вероятно, был обижен за ее уход и предательство. В его игре периодически встречались упоминания младенцев. Помимо игр с Крошкой Монстром, он играл в купание младенца и топил его в воде.
то, что психическая репрезентация матери у Сэма была полностью отделена от «матери во плоти» посредством диссоциации, подтверждалось следующим его поведением: когда миссис Р. была в больнице, она звонила Сэму каждое утро. По рассказам миссис Р., в начале этих телефонных бесед Сэм настаивал на том, что это была не она, его мать, с которой он разговаривал по телефону, а просто «приятная леди»; с другой стороны, он не мог оторваться от этой «приятной леди» и продолжал разговаривать с ней иногда по сорок пять минут, не позволяя матери повесить трубку. Мы можем только гадать о значении поведения Сэма, которое, казалось, отражало разные уровни эмоциональной константности объекта, если не откровенное защитное расщепление. Ему, возможно, необходимо было защищать образ хорошей матери от своего гнева, отделить его от образа плохой матери, которая оставила его из-за <<другого ребенка»; он вынужден был отрицать существование образа плохой матери ценой временной дедифференциации восприятия.
О том, насколько нестабильной и спутанной стала его внутренняя репрезентация и внешнее восприятие либидинального объекта в этой сложной ситуации, можно было судить по вышеописанному поведению во время разговоров по телефону, а также по очень показательному эпизоду в Центре. В один из первых дней, когда его мать и младенец приехали домой из больницы, Сэм отказывался уходить из Центра, настаивая на том, что его мать находилась в Центре и Должна была забрать его домой. Он не мог понять, что его мать была дома и что он должен был пойти домой к ней.
Его мать сказала, что Сэм гордился своей маленькой сестрой и опекал ее. Она описала, как он вел себя, когда она вывозила младенца на прогулку. Сэм постоянно просил людей не смотреть в коляску, потому что из-за этого малышка могла заплакать (страх дурного глаза? См.: Pet6, 1969). Мы полагали, что Сэм не хотел, чтобы люди увидели ребенка, тем самым отыгрывая свое желание, чтобы ребенок стал невидимым, т. е. несуществующим, а также, возможно, стараясь отгородиться от собственного желания, чтобы ребенку причинили вред посредством «дурного глаза».
С 30-го по 36-й месяц жизни Сэма мы наблюдали здоровую тенденцию к константности либидинального объекта и интернализации репрезентаций Я и объекта.
Все чаще можно было наблюдать, что Сэм хорошо реагировал на любую ситуацию, в которой кто-нибудь из взрослых мог предоставить его Эго спокойную поддержку и внимание. даже в состоянии ярости он быстро успокаивался и функционировал более конструктивно, как только наблюдатель мог уделить ему личное внимание и, соответственно, с ним поработать.
Это стало особенно заметно в день, когда Сэму случилось оказаться единственным ребенком в комнате тоддлеров. Он не только был гораздо более уравновешенным, чем обычно, и получал больше удовольствия от игры, но и оставался относительно спокойным и более конструктивным в своей игровой деятельности на протяжении месяца. Он стал больше фокусироваться на предметах внешнего мира и не так часто, как раньше, погружаться в себя. Вместо постоянного бессвязного переключения с одного вида деятельности на другой он мог заинтересоваться деятельностью других детей. Когда ему сказали, что он должен подождать своей очереди играть в специальный набор кубиков, которым пользовался другой ребенок, он смог присоединиться к тому и играть вместе с ним. Однако отмечалось, что если он подолгу не бывал в Центре, его настроение регрессировало; он становился менее спокойным, и его игра снова казалась не так хорошо организованной.
В свой третий день рождения Сэм наслаждался играми в комнате, был спокоен и увлечен структурированной деятельностью. Он построил высокую башню из кубиков. Он тихо сидел за праздничным столом и чаще говорил по делу. Мы снова убедились, насколько хорошо он реагировал на любого человека или ситуацию, которая способствовали функционированию, адекватному его возрасту.
Мать Сэма теперь считала его не просто хорошим и компетентным, но почти неуязвимым маленьким мальчиком, который мог спокойно преодолеть практически любые трудности. Она утверждала, что на него не влияет тот факт, что она уделяет столько внимания новому ребенку. Она сообщила, что Сэм в тот момент был больше привязан к отцу. Когда она выразила желание присоединиться к ним в их совместном походе куда-то, он попросил ее оставаться дома с малышкой.
Кратко говоря, мы увидели, что Сэм довольно рано научился активно искать и использовать «отличных-от-матери» людей как убежище от исходивших от нее симбиотических требований и сверхстимуляции. С раннего возраста он часто предпочитал, чтобы его держала на руках не мать, а кто-нибудь еще; позднее он мог использовать воспитателя
из комнаты тоддлеров, чтобы помочь себе превозмочь чувства, беспокоившие его после рождения его маленькой сестры. даже несмотря на то, что его субфазное развитие было столь атипичным (отложенное моторное развитие и пролонгированное вскармливание), Сэм все-таки испытал энергетический подъем в период практикования. Возможно, в его случае удачным обстоятельством стало то, что мать полностью посвятила себя новому ребенку. Такие переживания, как физическая сепарация во время ее пребывания в больнице, повлияли на усиление осознания им своей отделенности и вызвали тоску и страстное стремление к прежней симбиотической матери.
Мы видели очень раннее поведение избегания
(отталкивание матери и попытки отвернуться от нее), которое позднее переросло в
защиты отрицания и отказа в начале их образования. Несмотря на то, что на
третьем году жизни Сэм прибегал к регрессии и расщеплению в стрессовых
ситуациях, он также был способен оптимально использовать ресурсы своего
автономного Эго.
ГЛАВА 13
ВАРИАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СУБФАЗ
В ИХ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ
заключительной части книги М. С. Малер подводит итоги данного исследования, осуществленного совместно с ее сотрудниками, бывшими и нынешними, в течение более чем десяти с половиной лет. Цель исследования состояла в том, чтобы познакомиться с основами психической жизни, содержание и природу которых невозможно передать вербальными средствами, — это «невспоминаемое и незабываемое» (А. Frank, 1969).
М. С. Малер в 1963 г. писала следующее:
Некоторые психоаналитики, далеко продвинувшиеся на своем профессиональном пути, стараются подойти ближе к актуальному первоисточнику их усилий по реконструкции. Некоторые, как и я, ищут вербальные и довербальные данные наблюдения — in statu nascendi (в начале формирования) — данные, которые позволят подтвердить, опровергнуть, модифицировать или развить психоаналитические гипотезы. Изучая нормальных маленьких детей и их матерей, я пыталась не только дополнить свою психоаналитическую работу с невротическими взрослыми и детьми, но также добавить перспективу и валидизировать предыдущие исследования в области инфантильных психозов. У меня сохранялся личный интерес к одному специфическому аспекту богатого наследия, которое нам оставил Фрейд, а именно к подчеркиваемому им факту, что на протяжении всей жизни, несмотря на постепенное убывание, эмоциональная зависимость от матери является универсальной правдой человеческого существования.
Биологическая неподготовленность ребенка к независимому поддержанию своей жизни обусловливает ту видоспецифичную пролонгированную фазу, которая была описана как «симбиоз мать—дитя». Я полагаю, что именно на симбиотической фазе материнско-детского двойственного единства зарождаются предшественники ранних проявлений индивидуальности, которые совместно с врожденными конституциональными факторами определяют каждую уникальную соматическую и психологическую черту человека (Mahler, 1963, р. 307).
Она продолжает:
Я полагаю, что наше исследование достаточно ясно доказало, что в условиях эмоциональной зависимости младенца либидинальная доступность матери способствует оптимальному развертыванию внутренних возможностей ребенка... Я пыталась продемонстрировать специфические примеры того, как этот фактор способствует или препятствует гармоничному синтезу автономных функций на службе у Эго, нейтрализации влечений и сублимации, активируя или временно блокируя энергетический поток развития, процесс, который так прекрасно описал Эрнст Крис (Е. kris, 1955) [курсив наш. — Авт.]. Избыток энергии развития в период индивидуации рассчитан на регенерацию потенциалов развития до степени, больше не встречающейся в другие периоды жизни за исключением, возможно, подросткового возраста. Это иллюстрирует особую силу и потенциальную адаптивную способность человеческого рода и демонстрирует важность катализирующего влияния объекта любви.
Я хотела бы особенно подчеркнуть, сколь сильно нормальный ребенок стремится и обычно также способен получать для себя и инициировать участие и подпитку со стороны матери, иногда вопреки значительным препятствиям; как он старается инкорпорировать каждую каплю такой подпитки в либидинальные каналы для прогрессивной организации личности. С другой стороны, я также хочу сделать акцент на том, в каких трудных условиях оказываются матери; несмотря на собственные бессознательные конфликты по поводу своей материнской роли и фантазии по поводу растущего ребенка, они должны реагировать на быстро меняющиеся, связанные с доминированием первичных процессов сигналы от своих младенцев, вылупляющихся из симбиотической мембраны для того, чтобы стать самостоятельными существами (Mahler, 1963, р. 322).
В этой книге предлагается обзор того, как много мы узнали с момента, когда были написаны приведенные выше строки. Множество вопросов мы были вынуждены оставить без ответа, а на некоторые смогли ответить лишь частично.
Гипотеза о симбиотических истоках состояния взрослого человека послужила основанием для начала нашего первого неформального пилотного исследования, в ходе которого мы поставили перед собой ограниченную задачу — попытаться выяснить, каким образом ребенок со среднестатистической нормальной или невротической структурой успешно приобретает свою индивидуальную целостность и идентичность, т. е. то, чего симбиотический психотичный ребенок не способен достичь[46] . Первая часть этого проекта породила гораздо более узкую гипотезу, дополняющую нашу ранее сформулированную теорию о симбиотической основе человеческих состояний, — гипотезу о субфазах процесса сепарации-индивидуации.
Эта вторая гипотеза возникла вследствие того, что в ходе нашего пилотного исследования, проходившего в естественных условиях, мы не могли не обратить внимание на определенные виды переменных, группирующихся вокруг поворотных моментов процесса индивидуации и имеющих тенденцию повторяться. Имелись веские доводы в пользу того, что будет полезно обобщить данные, которые мы собрали по процессам внутрипсихической сепарации и индивидуации, в соответствии с постоянно наблюдающимися поведенческими и другими внешними показателями данных процессов. Мы подразделили процесс на четыре субфазы: дифференциации, практикования, воссоединения и <<движения к константности объекта» и консолидации индивидуальности. Временные рамки этих субфаз не могут быть точно определены: они перекрываются друг с другом так же, как и зональные либидинальные фазы.
Как подробно описано д-ром Пайном в приложении В, то, что начиналось как несистематическое натуралистическое исследование, переросло в систематизированный, во многом кросс-секционный исследовательских проект — вид нормативного исследования, в котором мы совершали открытия и делали выводы на основе сравнения и сопоставления младенцев и тоддлеров одного и того же возраста с точки зрения их стадии отделенности от своих матерей (репрезентации объекта) и интеграции их репрезентаций Я в процессе индивидуации.
Как можно видеть в части III, это исследование в дальнейшем переросло в лонгитюд, хотя и с известными ограничениями. Интенсивно и непрерывно следя за индивидуальным развитием детей, мы наблюдали, как в естественной обстановке у них разворачиваются симбиотические процессы и происходит сепарация-индивидуация.
Перевод в психологические термины тех феноменов, которые мы наблюдали на самых ранних стадиях развития, когда Эго еще совсем не сформировано (в наших терминах это «аутистический» и «ранний симбиотический» периоды), оказался чрезвычайно трудным делом. Экстраполяции на основе поведенческих данных превербальной фазы даже более шатки, чем те, что относятся к более поздним периодам жизни. Чтобы понять превербальные феномены, как заметила Августа Боннард (Bonnard, 1958), «мы в основном вынуждены искать их коннотаты через их продолжающееся влияние на более поздних этапах или через оценку регрессивных манифестаций». Этот второй подход (искать понимание развития через оценку регрессивных манифестаций) использовался М. С. Малер совместно с д-ром Фюрером начиная 1950-х годов вплоть до 1963 г. Это нашло отражение в нескольких статьях начала 1960-х годов и, в особенности в книге человеческом симбиозе и превратностях индивидуации: Ранние детские психозы» (Mahler, 1968b).
Однако в исследовании, представленном в данной книге, мы пытались валидизировать нашу концепцию о повсеместной распространенности симбиоза у человека, прослеживая его продолжающееся влияние на более поздних стадиях развития, а именно во второй половине первого года жизни и на втором и третьем годах. Изучение второй половины третьего года также служило платформой, с которой мы как психоаналитики пытались ретроспективно рассматривать индивидуально протекающие процессы сепарации-индивидуации у детей и выдвигать прогнозы о ходе личностного развития в будущем [47][48] .
Таким образом, наш скромный пилотный проект перерос в нормативное исследование, которое потенциально могло обогатить психоаналитическую теорию развития рядом согласованных, поддающихся проверке предположений.
Отправной точкой для нас служили, конечно же, общие психоаналитические догматы, предположения и допущения об индивидуальном квази-«доисторическом» прошлом. Мы старались осмыслить результаты наших изысканий, исходя из важных и до сих пор принимаемых большинством психоаналитиков предположений о довербальной фазе.
Ниже мы постараемся показать, как наши данные не только подтвердили истинность, но и, что более важно, до некоторой степени модифицировали эти общепринятые идеи, касающиеся ранней постнатальной жизни. Были случаи, что наши данные опровергали некоторые общепринятые постулаты относительно начал индивидуального развития. Нам пришлось специально вычленить эти правила с целью их дальнейшего прояснения.
Как показало исследование пар мать—младенец и как демонстрирует последующий раздел примеров, в процессе се-
парации-индивидуации существуют как универсальные тенденции, так и бесконечная комбинация индивидуальных факторов и ранних влияний окружения. Эта огромная совокупность индивидуальных различий создает калейдоскопическое
![]()
ловеческое развитие не является линейным; оно характеризуется скачками в области переживаний; мы постоянно акцентировали внимание на массивных сдвигах катексиса. Характеристики ребенка, которые являются врожденными и практически биологическими (в общем виде обозначенные нами как «врожденные задатки»), кажутся устойчивыми, т.е. они остаются относительно стабильными и неизменными на протяжении продолжающегося развития. Однако другие характеристики, возникающие в результате взаимодействия с объектным миром (например, ранние защитные паттерны, ранние идентификации), необычно изменчивы, так же как и их последствия; имеются постоянно продолжающиеся изменения, которые проводят к массивному сдвигу катексиса в поворотные моменты развития (ср.: Е. kris, 1950, 1962; М. kris, 1957; А. Freud, 1958; Ritvo, Solnit, 1958).
переплетение переменных, усиливаемых быстро прогрессирующим психосексуальным развитием и развитием агрессивных влечений, так же как и развитием Эго в ходе процесса сепарации-индивидуации во взаимодействии со «среднестатистической окружающей средой» (Hartmann, 1939, 1939). Именно комбинация этих переменных объясняет уникальность индивидуального стиля жизни и личности каждого ребенка (Mahler, 1963; Mahler, 1967b, Pine, 1971).
Как психоаналитики-клиницисты, мы хотели понять, что такое «нормальный» процесс сепарации-индивидуации. Но мы также рассчитывали выяснить, какие вариации и мельчайшие девиации будут проявляться в раннем развитии этих нормальных маленьких детей, родившихся у среднестатистических «нормально любящих матерей». Мы полагали, что наблюдение этих девиаций продвинет наше понимание вариаций нормальности или, возможно, глубины и широты незначительной патологии или патологии среднего диапазона [49] .
По нашим представлениям, психическое здоровье, так же как и патология, определяется: (1) индивидуальными задатками ребенка, (2) ранними взаимодействиями и отношениями мать — дитя и (З) ключевыми событиями в процессе взросления ребенка — другими словами, позитивными и негативными факторами опыта, которые воздействуют на относительно податливую структуру формирующейся психики ребенка (Mahler, 1963; Weil, 1956, 1970). Мы уделили особенное внимание тем данным, которые могут указывать на фазоспецифичные точки уязвимости внутрипсихического процесса сепарации-индивидуации. Мы не можем определить эти точки однозначно; в то же время в этом исследовании мы ближе, чем когда-либо, подошли к выявлению их места в процессе развития. В определенных констелляциях переменных мы с уверенностью распознаем сигналы об опасности (ср.: Settlage, 1974).
В дополнение к обнаружению точек уязвимости необходимо было попытаться определить главнейшие адаптивные или дезадаптивные механизмы, которые способствуют или препятствуют процессам развития в ходе ранних фаз, а также определяют субфазную специфичность потенциально возможной стрессовой травматизации (см. Е. kris, 1956). (Важные вопросы о сроках и механизмах потребуют дополнительного систематического изучения наших данных.)
Для участия в нашем исследовании были отобраны дети с нормальным уровнем врожденных способностей, поскольку таково было первое предварительное условие психического здоровья. Мы учитывали индивидуальные различия и стремились исключить детей с задатками ниже среднего[50] .
Проявив особый интерес ко второй детерминанте дальнейшего здоровья или патологии (ранние взаимодействия между матерью и ребенком), мы убедились, что понятие Винникотта «нормально любящая мать» (Winnicott, 1957а) необходимо значительно расширить и дополнить. Мы также узнали опытным путем, насколько неспецифично в терминах причины и следствия влияние незначительных отклонений «нормального любящего материнского отношения» в создании незначительной патологии у ребенка [51] . Другими словами, понятие «достаточно хорошего» материнского отношения (Winnicott, 1962) подверглось тщательному изучению.
С матерью связаны три переменные, представляющие исключительную важность в формировании, укреплении или, наоборот, ослаблении индивидуальной адаптивности ребенка,
развития его влечений, Эго и начала структурализации предшественников его Супер-Эго:
1) структура личности матери;
2) процесс развития ее родительской функции (Benedek, 1959);
З) осознанные и особенно бессознательные фантазии матери по поводу ее ребенка.
Эти три переменные, наряду с задатками ребенка, определяют, насколько он будет соответствовать ожиданиям и фантазиям матери. Переменные, конечно, взаимозависимы.
Что касается третьей базовой компоненты индивидуального роста и формирования личности ребенка, мы особенно стремились выявить факторы опыта, которые могут повредить его личность в те моменты развития, когда она уязвима, или оказать влияние по причине индивидуальной специфической чувствительности ребенка.
У пятерых детей, взятых нами в качестве примера, мы достаточно часто обнаруживали точки, в которых наша психоаналитическая метапсихология должна была сместить акценты, а порой наши данные заставляли переосмысливать некоторые доселе принимаемые допущения[52] .
Психологи и психиатры, как психоаналитически ориентированные, так и придерживающиеся других направлений, склонны полагать, что чем раньше произошла травматизация и чем более неблагоприятны были условия самых ранних фаз внеутробного существования — симбиотической фазы, фазы дифференциации и практикования, т. е. первые 14—15 месяцев жизни, тем больше вероятность возникновения позднее тяжелых личностных расстройств, пограничной патологии или даже психозов. Очевидно, это действительно так, только если: (1) врожденные особенности ребенка весьма аномальны и/или (2) обстоятельства опыта являются стрессовыми и постоянно препятствуют субфазоспецифичному прогрессу в степени, выходящей за пределы «статистически ожидаемой». Иначе говоря, если условия развития с самого начала настолько девиантны, что приводят к накоплению травматического эффекта, тогда тот уровень структурализации, который должен быть достигнут начиная приблизительно с 15 месяцев, окажется нарушен. Такие экстремальные обстоятельства имели место только в двух или трех случаях из нашей выборки, состоявшей из 38 детей[53] .
Из пяти детей, описанных в части III, нас серьезно беспокоило развитие Сэма и Тедди. Дифференциация Сэма в терминах формирования границ Я, казалось, серьезно отставала от его индивидуации, а у Тедди до хронологического возраста периода раннего практикования не происходило направление вовне из симбиотической орбиты катексиса внимания. В то же время, насколько нам стало известно после тестирования в конце третьего года жизни детей, развитие когнитивных функций Сэма прошло успешно. Более того, несмотря на его гиперактивность и сверхвозбужденность, в условиях структурированной окружающей среды утерянный контроль его Эго за влечениями легко восстанавливался. Достаточно неожиданным было то, что Тедди как будто остался на среднем уровне адаптации и «психического здоровья>>.
Среди до сих пор повсеместно принятых психоаналитических «правил» оценки среднестатистического развития имеется теория, что предсказуемое чередование опыта удовлетворения-фрустрации является необходимым для структурализации Эго и содействует замещению принципа удовольствия принципом реальности. даже несмотря на то, что это допущение подтверждается в самом широком смысле, мы нашли, что в том, что касается многочисленных деталей развития, эта правило далеко не однозначно.
Мы приняли идею о том, что для нормального развития чередование удовлетворения-фрустрации должно происходить таким образом, что чем младше ребенок, тем более явными должны быть элементы удовлетворения по сравнению с составляющими фрустрации. В таком случае мы ожидаем, что если на самых ранних фазах внеутробной жизни, а именно на фазе нормального аутизма, имел место ненарушенный гомеостаз и если на симбиотической фазе была достигнута оптимальная настроенность друг на друга младенца и матери и превалировало продолжительное блаженное состояние благополучия, такие дети будут склонны оставаться в своем состоянии симбиоза; их примитивному Эго не будет необходимости дифференцироваться до того, как будет достигнута оптимальная длительность симбиоза. Это, как мы полагаем, даст им наилучший старт для будущего развития и большую устойчивость к ударам судьбы.
Поскольку мы не смогли просто проверить общепринятые к тому моменту правила, мы считали себя обязанными детально проверить наши данные с целью выяснить, какие врожденные особенности и/или факторы воспитания отвечают за запаздывающую или позднюю дифференциацию, а какие — за дифференциацию преждевременную.
РАННЕЕ ИЛИ ПОЗДНЕЕ ВЫЛУПЛЕНИЕ: ПЕРЕСМОТР ВОПРОСА
Как бы ни были ограничены наши данные по самым ранним фазам (см. главы З и 4), они подтверждают необходимость пересмотра понятий «преждевременного развития Эго» и дифференциации. Эти изменения становятся необходимыми по той причине, что индивидуальная эволюция Эго проявляется в самых разнообразных процессах, особенно на первых стадиях. Мы обнаружили, что в литературе нет четкого разграничения бесчисленных интегральных и в то же время не сливающихся друг с другом элементов развивающегося Эго. Мы хотели бы подчеркнуть, что процесс дифференциации у многих
младенцев предвосхищается ранней активацией фрагментов пре-Эго, или ядра Эго[54] , начиная с симбиотической фазы.
Такое преждевременное созревание ядра пре-Эго может проявиться в гиперсензитивности в определенной ограниченной области сенсорно-перцептивной модальности. Оно может вызвать повышенную чувствительность к звукам, вздрагивание на шумы или визуальную гиперреактивность, так же как и очень раннюю вкусовую гиперсензитивность или сверхчувствительность к прикосновениям.
Эта асинхронность развития, эта преждевременная фрагментарная дифференциация создает несбалансированность, которая скорее препятствует, чем способствует структурализации и интеграции Эго как связной структуры. Это может быть неблагоприятным для гладкой эволюции на самых ранних субфазах процесса сепарации-индивидуации.
Чем более внезапно, неожиданно и преждевременно маленький ребенок осознает внешний мир за пределами симбиотической орбиты посредством такого фрагмента скороспелого пре-Эго, тем труднее для него отгородиться от страха ранней потери симбиотического объекта. В таких случаях может очень рано проявиться специфическая реакция улыбки, указывая на раннее формирование специфической связи. Так же рано может появиться и страх незнакомого.
В таких случаях для того, чтобы осознание своей отдельности не было слишком травматичным для ребенка, матери необходимо проявлять «сенестетическую эмпатию». Важно, чтобы она предоставила ему хорошо настроенное внешнее или вспомогательное Эго, чувствительный «защитный панцирь». (Также важно, чтобы функционирование матери в качестве защитного панциря постепенно сводилось на нет, как было до этого, чтобы не препятствовать постепенному автономному развитию Эго.)
В ходе симбиотической фазы материнский уход либидинизирует тело младенца (Hoffer, 1950а). На субфазе дифференциации можно наблюдать поведенческие индикаторы активного процесса телесной либидинизации Я. Такое поведение становится особенно выраженным под восхищающимся взглядом взрослого (особенно матери), отзеркаливающим ребенка, и ребенок, в свою очередь, реагирует и отзеркаливает смотрящего на него. Кажется, что такая либидинизация посредством взглядов и разговоров усиливает активность младенца способом, который предполагает нечто вроде аффектомоторной либидинизации Я; некоторые младенцы ведут себя так, будто желают достичь верхней точки переживания своих телесных ощущений.
Краткие выводы: в том, что касается сепарации-индивидуации отдельно взятого ребенка, вопросы соотношения удовлетворительных и неудовлетворительных симбиотических состояний, преждевременной или запаздывающей дифференциации (относящейся к структурализации Эго), видимо, являются достаточно сложносоставными, и не существует никаких однозначных пропорциональных связей между различными факторами, которые можно вычленить в среднем диапазоне нормальности при помощи наших нынешних инструментов исследования.
У Брюса симбиотическая фаза протекала неблагополучно по сравнению с обстоятельствами развития Донны и Венди, у которых, казалось, все было идеально. В то же время все три этих маленьких ребенка рано дифференцировались в плане способности воспринимать мир за пределами симбиотической орбиты. Ранняя дифференциация Брюса и ранняя специфическая привязанность были запущены его гиперреактивностью на звуки [вздрагивание]. Раннюю дифференциацию Венди можно приписать в основном визуальной и гештальтперцептивной гиперчувствительности.
Тедди, который переживал сильную депривацию на ранней симбиотической фазе, напротив, дифференцировался очень поздно. Сэм, чье раннее развитие протекало во всеохватывающей симбиотически-паразитической атмосфере, простирающейся далеко за пределы хронологической симбиотической фазы, также начал процесс дифференциации с задержкой. К нашему удивлению, однако, он прибегнул к преждевременно развившимся предшественникам защитного механизма отрицания, а именно к поведению избегания и телесного дистанцирования. Случай Сэма в особенности привлек наше внимание к огромной разнице между двумя путями процесса сепарации-индивидуации (см. главу 12).
Нужно особо отметить в этом заключительном разделе, что наше исследование убедило нас в том, что давление процессов созревания, влечение к индивидуации у нормального человеческого ребенка является некой врожденной, мощной Данностью, которая, хотя и с возможными осложнениями и помехами, проявляется на протяжении всего процесса сепарации-индивидуации.
Если две эти линии развития существенно расходятся во времени, то перекрытие между субфазами становится проблемой, как мы описали это в предыдущих главах, сравнивая раннее развитие Сэма и другого мальчика, очень рано начавшего ходить (см. главу 4). Мы были поражены тем, как рано и как активно Сэм начал отстаивать свое право на индивидуацию. Сильное впечатление также производила та бдительность, с которой он, находясь в манеже, наблюдал происходящее в детской. В этом проявлялся когнитивно-аффективный аспект его развития. Он был подобен стратегу, размышляющему над своим следующим «движением». Мы видели, что индивидуация у него началась рано, а сепарация сильно запаздывала.
Сэм вел нечто вроде двойной жизни с 10-го по 17-й месяц, присасываясь к груди матери ночью и даже в дневное время, но дистанцировался и препятствовал вторжению и вмешательству в его индивидуацию во всех остальных случаях. Длительное время мы не могли определить, смог ли Сэм преодолеть длительное «присваивание личности» (Sperling,1944), от которого он долго страдал после завершения симбиотической фазы и в большей степени уже после окончания второго года жизни. Мы сомневались, сможет ли он удовлетворительно продвигаться в своей автономной индивидуации[55] , особенно в том, что касается формирования границ Я.
В случае Венди ее мать наслаждалась любым взаимодействием с дочерью, и в связи с этим не имелось никаких ранних факторов опыта (по крайней мере, из того, что мы наблюдали), которые могли бы вызвать раннюю дифференциацию сенсорно-перцептивной природы — вздрагивание на резкие движения людей и чрезмерные реакции или возрастание тревоги на незнакомое уже на четвертом месяце ее жизни. Венди стала квазизависимой от контактно-чувственной стимуляции со стороны матери и уже к третьему году жизни искала самостимуляции, катаясь на лошадке-качалке так много и часто, как только ей удавалось. «Расширяющийся мир» долго оставлял ее совершенно равнодушной (см.: Murphy, 1962).
Из вышесказанного следует, что наши наблюдения не подтверждают разногласия, существующие в английской школе. Согласно последней, преждевременная дифференциация Эго (как структуры) имеет место, если непосильная задача адаптации к внешней реальности ложится на ребенка слишком рано и слишком интенсивно. Как иллюстрирует случай Венди, ранняя дифференциация может быть вызвана врожденной скороспелостью сенсорно-перцептивного эго-ядра, а не посредством какой-либо неадекватности взаимной настройки мать—дитя. В ее случае это было связано с врожденной, хоть и умеренной степенью сверхчувствительности.
Наши данные не подтвердили также и наши ожидания, согласно которым существенно запаздывающая дифференциация непременно является сигналом опасности, т. е. неблагоприятна для дальнейшего развития. Этому допущению противоречил в том числе и случай Тедди. Как мы уже указывали, из пяти детей выборки только Тедди и Сэм, находившиеся на противоположных полюсах в том, что касалось преобладания в их жизни удовлетворения или фрустрации,
![]()
на актуальном этапе субфазы воссоединения, что в случае Сэма произошло очень поздно. В том, что касается разницы между интроекцией и идентификацией, мы отсылаем читателя к Хайманну (Heimann, 1966) и Левальду (Loewald, 1962).
дифференцировались поздно. (Тедди переживал в основном фрустрацию. Сэм получал чрезмерное удовлетворение только в самом примитивном смысле; в дальнейшем оно также превратилось в подобие фрустрации, поскольку подрывало его субфазоспецифичные потребности.)
В то же время Венди и Донна, получавшие достаточно удовлетворения в ходе симбиотической фазы, а также Брюс, переживавший непредсказуемую фрустрацию, проявили признаки дифференциации очень рано.
Из тех детей, которые дифференцировались рано, у некоторых были очень ранние реакции на незнакомцев. Другие, например Венди, у которой имелась очень ранняя привязанность к матери по причине ее ранее упомянутой перцептивной гиперчувствительности, достаточно рано воспринимала все «незнакомое», что появлялось в ее окружении, и чрезмерно реагировала на это. Венди не могла поставить свою рано появившуюся в ходе созревания дифференциацию на службу нормальному любопытству по отношению к незнакомому человеку. У нее не развивался тот тип реакции на незнакомых, который мы наблюдали у других детей. Она как будто отклоняла все, что окружало ее в Центре. Это мы называли реакцией на незнакомое. Ранняя привязанность Венди, ее страстное стремление к эксклюзивному симбиозу казались очень глубоко укорененными и распространялись буквально на все области жизни. Она демонстрировала все признаки отчаянного желания его сохранить, до определенной степени даже пренебрегая и пытаясь сбросить со счетов свое преждевременное сенсорно-перцептивное созревание. Вызванное им слишком раннее побуждение к индивидуации, которое, как показывали тесты, вовсе не гармонировало с врожденными склонностями и задатками девочки, сделало ее предрасположенной к сильным реакциям на расставания и требовательному поведению, что практически свело на нет поведение дистанцирования. Она последовательно и упрямо реагировала протестом на любые попытки в этом направлении, которые предпринимала ее мать.
У поздно дифференцировавшихся Тедди и Сэма имелась существенная задержка реакций на незнакомых, а также реакций на расставания. Ни один из детей не продемонстрировал ожидаемых субфазоспецифичных реакций на незнакомцев или сепарацию в хронологическом возрасте либо субфазы дифференциации, либо раннего периода практикования.
Из всех сложностей вышеописанных процессов структурализации в их адаптивных и защитных аспектах больше всего мы были поражены той силой, с какой действует на ребенка побуждение к индивидуации начиная с субфазы дифФеренциации. Это открытие заставило нас расценивать индивидуацию как внутренне заданное стремление, которое проявляет себя с особенной мощью в начале жизни и которое, похоже, продолжается на протяжении всего жизненного цикла (Erickson, 1959). Сэм уже в три-четыре месяца посреди убаюкивающее-обволакивающего симбиоза развил квазифизические предшественники защитных механизмов. даже несмотря на то, что этот ребенок обычно казался жизнерадостным и всем своим телом выражал удовольствие от симбиотического благополучия еще долго после окончания хронологического возраста симбиоза, его поведение, направленное на дистанцирование, показалось нам потенциальным предшественником отрицания или даже изоляции. Оно чередовалось с обязательным поведением привязанности так же, как и с реакциями на сепарацию в возрасте, когда эти реакции субфазоспецифичны. Сепарационные реакции более высокого уровня появились у Сэма довольно поздно (на пике его запоздалого периода практикования как такового в возрасте 17 месяцев). Его ранние реакции на незнакомцев достаточно быстро сошли на нет и также проявились в его жизни гораздо позже.
У Тедди дифференциация также произошла поздно. Симбиоз у него длился долго. Вылупление (а именно инвестиция катексиса во внешний мир) произошло с большим опозданием, не ранее его восьмого месяца жизни, и даже в этом позднем возрасте характеризовалось неустойчивостью.
РЕАКЦИИ НА НЕЗНАКОМЦЕВ
И СЕПАРАЦИОННАЯ ТРЕВОГА
Позитивное открытие нашего исследования заключалось в том, что реакции на незнакомцев при восприятии «отличных-от-матери» людей зависят от широкого спектра сенсомоторных, квазикогнитивных функций Эго, которые выходят далеко за пределы аффекта тревоги. Помимо тревоги, незнакомец вызывает умеренное или даже весьма сильное любопытство. Вот почему в этой книге мы столько раз подчеркивали, что любопытство и интерес к новому и незнакомому являются во многом такой же частью реакции на незнакомцев, как и тревога и беспокойство. даже у детей с сильными реакциями на незнакомцев, таких как Брюс, любопытство и интерес к новым людям и новый сенсорный опыт конкурировали с беспокойством, сдержанностью и реакциями тревоги. Другим важным открытием нашего исследования, мы полагаем, является то, что в ходе нормального развития реакции на незнакомцев возобновляются в начале субфазы воссоединения, т, е. в 15 месяцев или позже, однако они отличаются по структуре от тех, что относятся к возрасту семи—девяти месяцев.
Мы обсудили тот факт, что на субфазе воссоединения нормальный ребенок постепенно полностью осознает свою отдельность. Поскольку его сенсомоторный интеллект замещается репрезентативным интеллектом, он все более и более четко осознает свою крошечность и относительную беспомощность. Это переживание приводит к тому, что ребенок становится гораздо более уязвимым перед событиями внешнего мира, например, отсутствием родителей, болезнями, рождением сиблинга и т.д. Тяжелые сепарационные реакции могут быть последствиями даже менее значительных травматизаций, и результатом этого может явиться большая, чем ожидается в норме, степень амбивалентности. В менее благоприятных случаях может произойти регрессия к этапу, на котором симбиотическая матрица была впервые дифференцирована на полностью «хорошее» или полностью «плохое».
296
Такое расщепление объектного мира может
стать тенденцией, препятствующей нормальному вытеснению (kernberg, 1974).
Насколько интенсивно будет такое расщепление объектных репрезентаций и повлияет
ли оно на репрезентацию Я, также будет зависеть от того, насколько далеко зашла
Я-объектная дифференциация.
ГЛАВА 14
ЭПИГЕНЕЗ СЕПАРАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ,
ОБЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА
И ПРИМИТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ам удалось уточнить и дополнить наши представления о сепарационных реакциях в том, что касается их структуры и эпигенеза. Мы узнали, что реакции на сепарацию изменяются в ходе субфаз; они являются субфазно-специфичными, как мы отмечали в части II. При этом они могут различаться от индивида к индивиду, как это подробно показано в части III нашей книги.
Ребенок в процессе дифференциации (в возрасте пяти— десяти месяцев) обычно реагирует на отсутствие матери не столько дистрессом или плачем, сколько тем, что мы решили называть «сниженной тональностью настроения». Из пяти детей нашей выборки сниженная тональность настроения была наиболее выраженной у Венди, умеренной — у Донны, вариативной и непредсказуемой — у Брюса, отсутствовала у Сэма и очень поздно появилась у Тедди.
На субфазе практикования побуждение к автономному развитию Эго, наряду с интересом и удовольствием от самостоятельности и исследований, помогает ребенку преодолеть пониженное настроение в отсутствие матери. Другими словами, восторг от движения и открытий делает снижение настроения эпизодическим явлением, которое нивелируется удовольствием от практикования и легко преодолевается возможностью кратковременных «подзарядок». Так было у всех наших детей, за исключением Венди, которая постоянно противилась использованию своих прогрессирующих в ходе созревания навыков. В норме все эти функции автоматически ставятся Эго на службу сепарации от матери и исследования
298
более широкого сегмента реальности. Ранняя опора на себя, хотя и последовательно не прогрессирующая, однозначно была наиболее выражена у Брюса. Его великолепные природные задатки помогли ему адаптироваться, пусть и защитным образом, без тотального вовлечения в конфликт с матерью. Успешная дезидентификация Брюса со своей матерью, его обращение к своим автономным функциям и к своему отцу спасли его, как мы полагаем, от серьезных нарушений развития и от краха гендерной идентичности.
Во время борьбы за воссоединение у всех детей случались сепарационные реакции различной интенсивности. Эти реакции на расставание с матерью имели иное качество и назначение в отличие от более ранних; они должны быть описаны для каждого ребенка отдельно, поскольку в каждом конкретном случае были особенными. Фактически, они были самыми важными показателями конфликтов, переживаемых ребенком на пути к интернализации. Эти сепарационные реакции зависели от ряда переменных в отношениях мать—дитя, а также от изменений более ранних субфазных характеристик.
Из пяти детей нашей выборки наиболее тяжелые сепарационные реакции в ходе субфазы воссоединения наблюдались у Брюса, Венди и донны. Реакции Брюса стали более острыми и осложненными в возрасте 16 месяцев, когда родилась его сестра. В то же время его реакции, хотя и были очень интенсивными, казались «самоограничивающими», каковыми и являлись на самом деле — по крайней мере, в том, что касалось его демонстративного поведения. Ряд данных указывает на вероятность того, что у Брюса вытеснение очень рано стало способствовать адаптации. Это сочеталось с рано сформировавшимся реактивным образованием (см.: Mahler, McDevitt, 1968) [56] . Реакции на расставания резко прекратились,
299
когда Брюс обратился к отцу и другим замещающим взрослым и стал в полной мере использовать собственные автономные ресурсы. Донна и Венди, напротив, не столь успешно преодолели свои кризисы сепарации. Венди не могла по-настоящему заниматься чем-либо, если ее матери не было рядом или если с ней не взаимодействовал другой взрослый. Это казалось результатом вышеупомянутых характеристик ее развития до субфазы воссоединения, усиленных склонностью ее матери охладевать к своим детям, как только они становились немного самостоятельнее. Донна, наоборот, не могла заняться чем-то, когда ее мать присутствовала рядом 1 . У Тедди реакции на сепарацию начались, с одной стороны, с опозданием; при этом они были отягощены его сильнейшей «идентификацией с агрессором» (Freud А., 1936) — его старшим братом, его близнецовоподобным альтер эго, близость с которым очень поддерживалась матерью. Тедди очень рано обнаружил свой пенис и использовал его для получения удовольствия в течение довольно длительного и бесконфликтного периода. Фактически, он демонстрировал чувственное, тактильное удовольствие и интерес к своему собственному пенису и пенису
![]()
следствия более благоприятные, чем пограничная патология (см.: kernberg, 1974).
1 Оценивая природные задатки и факторы раннего опыта детей в нашем исследовании, мы сочли, что Донна обладает самым большим потенциалом развития Эго. Поэтому одной из самых больших неожиданностей в ходе нашего исследования стали появившиеся у нее на субфазе воссоединения нарушения развития. Они были связаны с частично нераспознанными факторами сепарационноиндивидуационного процесса донны на первых двух субфазах. Ее продолжительные трудности на субфазе воссоединения и за ее пределами можно было предугадать уже на субфазе раннего практикования, в ходе которой ее подозрительная осторожность не была учтена в должной мере наблюдателями. Мы недостаточно серьезно восприняли избирательность донны в еде и ее выраженные страхи. Нетолерантность ее матери к агрессии и еле заметное сопротивление индивидуации своего ребенка мы также учли лишь ретроспективно. При этом мы, возможно, придали слишком большое значение патогенности «шоковой травматизации», которая выпала на долю донны с 19-го по 28-й месяц жизни.
зоо
своего брата. Его мать поощряла такую активность и, казалось, ее поддерживала, что, возможно, помогло ему развить маскулинную гендерную идентичность и уверенность в себе. Это сочеталось с немотивированными проявлениями агрессии, являющимися, вероятно, отсроченной реакцией на более ранние тяжелые фрустрации. В ходе периода воссоединения он реагировал на расставания скорее со злостью, чем с тревогой. Он также развил достаточно заметную раннюю «эмпатию>> к матери и сверстникам — весьма интересную черту, которую трудно объяснить. Мы полагаем, что это могло быть связано с его частичной идентификацией на достаточно высоком уровне Эго со своей матерью и со старшим братом. Обе идентификации были сначала отзеркаливающего типа, но постепенно, очевидно, стали настоящими эго-идентификациями.
У Сэма сепарационная тревога находилась в латентном состоянии вплоть до второй половины второго года жизни. Она достигла своего пика на третьем году, усиленная рождением его сестры, и явно смешивалась с его страхами по поводу ущерба телу и кастрации.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО поводу ОБЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА И ЕГО СВЯЗИ С ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ
Другой вопрос, на который, как мы полагаем, наше исследование пролило свет, — развитие общего эмоционального фона [57] . Мы обнаружили, что на субфазе практикования приподнятое настроение, похоже, является субфазоспецифичным, обязательным и доминантным (Mahler, 1966а, Ь). К тому же это
301
настроение часто проявляется в квазииллюзорном, но адекватном возрасту чувстве грандиозности и всемогущества. Такое настроение тоддлера на пике овладения многими автономными функциями, связанными с движением, с необходимостью уступает путь более реалистичному осознанию своей крошечности по сравнению с внешним миром. Постепенное осознание иллюзорности своего величия и препятствий на пути успешной адаптации к неизбежностям реальности должно происходить начиная с 15-го по 18-й месяц жизни.
Как у мальчиков, так и у девочек повторяющееся переживание относительной беспомощности сводит на нет преувеличенное чувство всемогущества. Ребенок впервые осознает свою отделенность от матери. Это достижение репрезентативного интеллекта делает возможным приобретение внутренней способности дифференцировать репрезентации Я от репрезентаций объектов. Последствиями этого (в ходе нормального развития) является постепенное осознание со стороны ребенка, что он сравнительно мал и беспомощен и должен в одиночку справляться с несметными трудностями. В связи с этим на субфазе воссоединения нормальным субфазоспецифичным настроением становится трезвый реализм или даже временная депрессия.
Наши данные указывают, что активные агрессивные устремления мальчика, его гендерно-детерминированная ориентированность на большую подвижность помогают ему поддерживать (со многими перепадами, конечно же) позитивный настрой его телесных эго-чувствований, веру в силу своего тела и удовольствие от функционирования. Другими словами, развитие моторной функции у мальчика противостоит слишком резкой дефляции «грандиозности практикования» и всемогущества. Несмотря на то, что мальчик на субфазе воссоединения также демонстрирует ранимость и повышенную гиперсензитивность к своей отделенности от матери и к ударам по своей автономии, и даже несмотря на то, что в начале восоединения он проявляет повышенную зависимость от степени участия матери, в целом он занимается своей собственной моторной и перцептивно-когнитивной деятельностью с более или менее устойчивой уверенностью. В благоприятных условиях мальчик активно практикует сепарацию и воссоединение с матерью. Одним из примеров этого является активное поведение, выражающееся в уже описанных ранее неожиданных побегах, которое у мальчиков встречается чаще, чем у девочек.
Наши данные указывают на то, что девочки более склонны к депрессивному настроению, чем мальчики (см.: Gero, 1936). Осознавание своей отделенности у девочки осложняется менее выраженной ориентацией на развитие двигательных функций и восприятием ею (которое происходит гораздо ранее, чем мы полагали до этого — Greenacre,1948; Mahler, 1963) своей анатомической «неполноценности» (см.: Roiphe, Galenson, 1971).
Несмотря на гендерные различия, и мальчики, и девочки рано или поздно, постепенно или внезапно приходят к осознанию ограниченности своего магического всемогущества, однако иллюзия всемогущества родителей продолжает существовать (см.: Jacobson, 1964).
По мере развития субфазы воссоединения наиболее интересно наблюдать, как происходит повторное вовлечение в отношения с матерью у девочек и чем оно отличается от паттерна мальчиков. Девочки нередко выражают символически в своей игре и в речи неудовлетворение тем, что пострадали от раны (т. е. были кастрированы), и во всем винят всемогущую мать.
Часто результатом этого становится интенсивная борьба с матерью, в которой, как правило, проявляется амбитендентное прилипчиво-зависимое и требовательное поведение [58] . Описания поведения девочек на третьем году жизни указывают на то, что зависть к пенису может быть вытеснена и притязания на пенис могут быть смещены на мать как на человека.
Амбитендентная борьба на субфазе воссоединения, которая представляет собой внешне отыгрываемый кризис воссоединения, впоследствии интернализируется. Как бы то ни было, весьма часто он сохраняется навсегда в симптоматических и символических трудностях расставаний с матерью.
В благоприятных случаях в последней части третьего года жизни происходят успешное вытеснение и временное разрешение этой ранней зависти к пенису. В это время могут происходить подлинные эго-идентификации с матерью, особенно с ее материнской функцией в терминах видоизменяющейся интернализации (Tolpin, 1972). Такая идентификация с матерью формирует базис для женской гендерной идентичности; но часто раннее поведение девочки по типу сорванца или анальная и фаллическая жадность выдают сохранившееся желание пениса и реактивное образование против женских желаний зависимости[59] .
У мальчиков борьба воссоединения кажется в целом менее бурной. Ее гендерная специфичность выражена не так явно. Присвоение гендерных характеристик происходит, как мы полагаем, с меньшим конфликтом, если мать относится к фалличности мальчика с радостью и уважением все это время, особенно во второй половине третьего года жизни. Кроме того, у нас сложилось впечатление, что идентификация с отцом или старшим братом способствует достаточно раннему началу формирования гендерной идентичности мальчика. В некоторых случаях, когда мать препятствовала автономии мальчика, установление его ранней гендерной идентичности
оказывалось под угрозой или нарушалось — в особенности если она была не способна передать сыну право распоряжаться его телом и его пенисом. Некоторые матери поощряют — фактически вынуждают — сына занять пассивную позицию. В этом случае борьба воссоединения может принять характер более или менее отчаянных попыток мальчика отгородиться от опасной «матери после сепарации». Возможно, страх поглощения опасной «матерью после сепарации», страх слияния, который мы иногда наблюдаем в качестве центрального сопротивления у наших взрослых пациентов-мужчин, имеет корни в этом раннем периоде жизни.
В условиях благоприятного материнства мальчик, похоже, более способен справиться с тревогой, которую Столлер (Stoller, 1973) определил как «симбиотическую тревогу», и дезидентифицироваться от матери (Greenson, 1968), избегать ее или, по крайней мере, противостоять ей более косвенным образом. Более того, мы обнаружили, что в игре нормального двух-трехлетнего мальчика имеется много признаков его обращения к отцу, которого он возвеличивает, идеализирует. Мы обнаружили, что материал, репрезентирующий мать как кастратора, в игре и в речи мальчиков проявляется гораздо меньше, чем у девочки. Зато у них чаще наблюдается страх матери как поглощающего, инфантилизирующего объекта. Если мать является слишком вторгающейся и постоянно прямо или косвенно препятствует фаллическим устремлениям мальчика, амбитендентная борьба, описанная в случае девочек, может развиться и у мальчиков и даже открыть путь для пассивного подчинения. Последнее является особенно разрушительным, если образ отца нельзя использовать для идеализации и подлинной эго-идентификации.
Кратко говоря, в то время как зависть к пенису у девочек появляется очень рано, на стадии воссоединения, и за отсутствие пениса она возлагает вину на мать, у мальчиков конфликтная установка по отношению к своему пенису появляется позже — на фаллической фазе. То, что соответствует зависти к пенису у девочки, в случае мальчика этого же возраста является смутным страхом поглощения матерью (см.: 1. Harrison,
в печати). В связи с этим мальчик в основном озабочен тем, чтобы найти «отличные-от-матери» эго-идеалы, с которыми можно было бы идентифицироваться. В ходе нормального развития в случае мальчика кастратором, по-видимому, должен выступать отец, а не мать. (В связи с форматом нашего исследования мы, к сожалению, можем только строить догадки по поводу последней гипотезы, не подтверждая ее непосредственными материалами нашего исследования.)
По причине описанных гендерно-специфичных различий в протекании процесса сепарации-индивидуации кажется вполне правдоподобным, что склонность к общему депрессивному эмоциональному фону у девочек выше, чем у мальчиков. Но и у тех, и у других движущая сила общей уверенности в себе, характерной для периода практикования, возрождение самоуважения и доверия к миру будет в целом зависеть от ритма и сроков замещения чувства всемогущества здоровым вторичным нарциссизмом. Построение в ходе субфазы воссоединения реалистичного самоуважения во многом возможно благодаря активному агрессивному моменту импульса к индивидуации, который, однако, должен быть нейтрализован.
Как мы подробно обсуждали в главе 6, на субфазе воссоединения дополнительную важность приобретает вспомогательная роль окружения. Важными являются механизмы, которыми приводятся в действие идентификационные и дезидентификационные процессы и процессы интернализации и экстернализации. Чтобы быть наиболее оптимальными, они должны быть адекватными полу, т. е. различаться у мальчиков и девочек.
Среди детей, которых мы подробно обсуждали, Брюс был наиболее способен подходить к новым ситуациям с энтузиазмом вопреки значительным проблемам с окружением. У него был благоприятный период раннего практикования, временно омраченный депрессией его матери. Как бы то ни было, он активизировал свои усилия и после многих неудач научился ходить в возрасте одного года. Он использовал новообретенный навык, чтобы исследовать мир с большим энергетическим подъемом и уверенностью. Этот энтузиазм к исследованиям и открытиям сохранился у Брюса и в дальнейшем. Казалось, это помогло ему дезидентифицироваться с матерью, обратиться к отцу и найти комфорт в мире вокруг себя. В то же время его общий эмоциональный фон на протяжении и после фазы воссоединения колебался между энтузиазмом и задумчивой сдержанностью. Помимо Брюса и Тедди, у нас имелось много других примеров, когда общий предэдипальный эмоциональный фон у мальчиков к концу субфазы воссоединения имел тенденцию к позитивности и оптимистичности.
С другой стороны, Донна — ребенок, наиболее щедро одаренный природой, — уже в период раннего практикования была слегка подавленной. Она была счастлива, только если мать находилась в поле зрения. Она не могла инвестировать доверие ни в «отличный-от-матери» мир, ни в собственное Я. Временами она казалась сверхосторожной в движениях. Несмотря на то, что Донна начала ползать и пошла в том же возрасте, что и Брюс, и впоследствии, в период практикования, демонстрировала типичный «любовный роман с миром», сепарация от матери была для нее болезненной и конфликтной. Ее общий эмоциональный фон на третьем году жизни был окрашен тревожной нерешительностью. К нашему большому удивлению, вопреки ее превосходной индивидуации, обусловленной прекрасными природными данными и явно оптимальным «материнским отношением», ее приподнятое настроение периода практикования привело (на ее 20-м и 21-м месяце жизни) к сильно выраженным скачкам настроения.
Основным фактором, повлиявшим на нарушения развития у донны, стала, вероятно, аккумуляция шоковой травматизации в конце второго и на третьем году жизни. С учетом ее выраженных агрессивных задатков это усилило в дальнейшем ее предрасположенность к неврозу. Проявления ее повышенной агрессивности были заметны на самых ранних субфазах (в особенности в ее поведении дома). Позже они исчезли и в ходе субфазы воссоединения казались вытесненными. Они замещались ранними страхами, тревожной сверхосторожностью и амбивалентностью выше среднего. В этой связи стоит заметить, что мать Донны была особенно нетерпима к собственным агрессивным побуждениям и в связи с этим также и к агрессивности других.
Сэм, чья симбиотическая фаза была искусственно затянута, перешел на субфазу практикования поздно. Он начал ползать с опозданием, не стремился овладеть вертикальной локомоцией и не упражнялся в этом умении до возраста 17— 18 месяцев — хронологического пика субфазы воссоединения. В это время его настроение улучшилось, но только на краткий период, и вскоре уступило место крайней встревоженности и перевозбужденности.
Судя по нашей маленькой выборке из 38 детей, у нас сложилось впечатление, что уверенность в себе и полное энтузиазма настроение периода практикования легче распространялось и на субфазу воссоединения у тех детей, у кого раннее практикование — первые движения в сторону от матери — было связано с удовольствием. Так было в случае Брюса и Тедди. Кажется, что удовольствие от ранних вылазок в «отличныйот-матери» мир больше, чем какая-либо другая переменная, помогало ребенку преодолевать последующие трудности и подходить к новым ситуациям с позитивным настроением и уверенностью в себе.
Тедди адаптивно и отчасти, как мы полагаем, в защитных целях (см.: Mahler, McDevitt, 1968) задержал процесс своего вылупления. Однако после вылупления он использовал все возможные средства, чтобы заинтересовать свою мать и привлечь ее внимание, а также отвлечь ее от остальных (при помощи кривляния, выставления напоказ своего пениса, отзеркаливания старшего брата, шутливо-дразнящих угроз матери с направлением на нее пениса и т. п.). Его ранняя агрессия, выходящая за пределы периода влияния повышенной локомоторной активности, возможно, являлась запоздалой реакцией на фрустрацию, с одной стороны, и, с другой — отзеркаливанием «идентификации с агрессором» — его братом, который был старше на 14,5 месяцев (Freud А., 1936). Его ранняя фаллическая удаль вначале казалась спровоцированной защитной реактивностью. Только позже, на пике фаллической фазы
и в начале фаллически-эдипального периода, Тедди, казалось, справился с кастрационной тревогой. У него, как и у некоторых других мальчиков, все это, по-видимому, перешло в скрытые формы и стало интернализированным. По отношению к матери в его поведении имели место неявные попытки соблазнения и одновременно некоторая защитная позиция, периодическое раздражение, но никогда — открытая враждебность. (Исследовать вероятную борьбу с отцом не было возможности в рамках нашего подхода.)
Случай Тедди и его брата (который здесь детально не обсуждается), так же как и истории многих других наших мальчиков, указывает на то, что агрессивная, активная, подъемная сила моторной функции у мальчиков помогает им не поддаваться общему депрессивному эмоциональному фону в предэдипальный период, в этом состоит их преимущество перед девочками. Но, как мы указывали выше, имеются некоторые исключения из этого правила: это случаи тех мальчиков, у которых стрессовая травматизация, вызванная серьезными препятствиями со стороны матери, создавала помехи развитию и у которых отец являлся неадекватным объектом для идентификации.
Венди отличалась от всех остальных детей тем, что как будто никогда не защищалась от симбиотического поглощения. Казалось, что она прикладывает усилия, чтобы противостоять процессу роста в ходе созревания, который с нарастающей силой побуждает тоддлера сепарироваться, «оградить» репрезентацию Я от репрезентации объекта. Как мы уже описывали, Венди очень долго — практически до хронологического возраста четвертой субфазы — была склонна к поддержанию отношений один на один с матерью или замещающими ее взрослыми — как мужчинами, так и женщинами. Она настаивала именно на таких отношениях, чередуя соблазнительное, завлекающее поведение и угрюмость и капризы. Мы полагаем, что она была самой нарциссичной из пяти детей нашей выборки и еще долгое время оставалась фиксированной на стадии отзеркаливающих идентификаций со своей матерью. Ее главным защитным механизмом была регрессия. Она
также была наименее социализирована из этих
пяти детей. Ее общий эмоциональный фон — практически до третьего года жизни —
почти полностью зависел от настроения матери или от материнского отношения к
дочери и к людям, с которыми Венди вступала в контакт. Ее развитие в целом
существенно запаздывало, хотя и не было серьезно нарушено.
ГЛАВА 15
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ЯДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ГРАНИЦ Я
![]() тапы формирования
Я-репрезентации из Я-объектных репрезентаций симбиотической фазы отследить
нелегко.
тапы формирования
Я-репрезентации из Я-объектных репрезентаций симбиотической фазы отследить
нелегко.
Мы наблюдали за детьми, начиная от смутного состояния симбиоза до момента, когда они становились отдельными индивидуумами с четко очерченным чувством Я, «мне>> и «мое», сознающими, кто они и где находятся, даже если это ощущение все еще до некоторой степени зависело от синкретичного контекста и подвергалось многим искажениям. Мы вскоре осознали трудности, сопровождающие попытки проследить постепенное формирование образа тела и дифференциацию телесной и психической репрезентации Я в ходе исследованиянаблюдения. Мы с самого начала предчувствовали, что поиск поведенческих коррелятов, имеющих отношение к этим чисто внутренним процессам, будет очень непростым процессом.
То, что младенец ощущает внутри своего тела, особенно в начале внеутробной жизни, ускользает от глаза наблюдателя, т. е. поведенческие индикаторы этих ощущений едва ли существуют. Тем не менее можно предположить, что самые ранние случаи самовосприятия связаны с телесными ощущениями, как было изложено в главе 4. С этим согласуется то, что Фрейд (Freud S., 1923) описал Эго как изначально и прежде всего «телесное эго».
даже если оставить в стороне трудности с определением того, какие поведенческие и аффектомоторные проявления могут расцениваться как интегральные шаги в формировании телесных ощущений, образа тела и, наконец, Я-репрезентаций,
мы испытывали дополнительные затруднения в связи с характером и методом нашего исследования. Наш специфический сеттинг не был приспособлен для наблюдения за интимными и особенно показательными сценами домашней жизни: ребенок в кроватке, предоставленный себе, тихонько агукающий, трогающий свое тело, играющий со ступнями, глядящий на движения своих рук так, что у наблюдателя возникают сомнения, понимает ли младенец, что созерцаемый им спектакль происходит по его собственной воле и с его собственными частями тела, или он «полагает>>, что они движутся сами по себе.
Формат нашего исследования лишил нас возможности наблюдать, как ребенок обнаруживает части своего тела — большие пальцы, ступни, важную «кнопочку на животике>> и в особенности свой пенис. Некоторые ситуации в Центре, тем не менее, частично заполнили серьезный пробел в нашей методологии, заключавшийся в отсутствии возможности быть свидетелями постоянных и продолжительных домашних событий. Тщательно наблюдая за поведением детей и просматривая наши фильмы, мы могли иногда увидеть in statu nascendi[60]аффекто-моторную либидинизацию Я, которая могла являться предвестником интеграции переживаний телесного Я.
Мы заметили in viv02 (и это подтвердилось анализом эпизодов фильмов, в которых ребенок пяти — восьми месяцев отроду окружен восхищающимися и либидинально отзеркаливающими его дружелюбными взрослыми), как младенца стимулирует и как бы электризует это отзеркаливающее восхищение. Это было видно по тому, как возбужденно он извивался всем телом, выгибая спину, чтобы достать до своей ступни или ноги, интенсивно брыкаясь и толкаясь и вытягиваясь в экзальтированном аффекте удовольствия. Эта очевидная тактильно-кинестетическая стимуляция его телесного Я, как мы полагаем, может способствовать дифференциации и интеграции его образа тела.
312
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ГРАНИЦ Я
С семи месяцев дети начинают играть со своими матерями в игры, которые, как мы полагаем (с тех пор, как Анна Фрейд открыла нам, что вовсе не альтруизм диктует подобное поведение), служат отграничиванию образа тела младенца от объекта. Ребенок берет кусочки еды и кладет их попеременно то в рот матери, то в свой; он хватает кулон матери и засовывает его себе в рот и т.д. Матери, в свою очередь, реагируют на возникающие игровые эксперименты с телесными ощущениями, устраивая игры по сравнению частей тела ребенка со своими собственными (<<Это мой носик, а где твой носик?>>, <<Ладушки», такой большой» и т. д.). Ребенок постоянно осуществляет сравнительное сканирование, сверку с матерью, особенно с ее лицом. Пассивная, а позже активная игра в <<ку-ку» является игрой с двойной целью — обнаружить мать, а также быть обнаруженным ею. Быть обнаруженным матерью, быть ею увиденным (т. е. отразиться в ней, как в зеркале) способствует построению телесного самосознания, о чем мы можем догадываться, наблюдая за нескончаемым удовольствием от этих повторяющихся игр. Таковы некоторые наблюдения за возникновением телесной Я-репрезентации на субфазе дифференциации.
В начале субфазы практикования наша задача стала проще. В этот период младенец начинает двигаться самостоятельно; он перемещает себя в пространстве и в конце концов понимает не только то, что руки и ноги принадлежат ему, но и то, что он может управлять ими. Мы не раз упоминали, что ребенок на стадии практикования относительно легко забывает о незначительных ушибах и повреждениях. По мере того как малыш начинает ползать, а затем самостоятельно ходить, частые падения и ушибы о жесткие предметы как бы подкрепляют его чувство (катексис) границ своего телесного Я. Столкновения с твердыми неживыми поверхностями служат укреплению и обозначению границ его телесного Я. эти обязательные переживания помогают ему интегрировать образ своего тела вкупе с укрепляющим эффектом кинестетических ощущений, которые передаются благодаря <<выполнению моторных функций» его мускулатурой. Таким образом, относительная нечувствительность к незначительной боли в период практикования позволяет ребенку получать повторяющийся опыт переживания поочередно то удовольствия, то неприятных чувств по мере того, как идет активное соприкосновение с окружающим миром, его прочувствование и исследование. Одновременно формируются телесные Я-репрезентации. Это составляет контраст с либидинизацией телесных границ через материнский уход за телом ребенка и тактильный контакт с мягким, податливым и успокаивающим <<переходным объектом».
К концу периода практикования и на субфазе воссоединения мы видим, как ребенок начинает приобретать власть над своим телом и противится обращению с собой как с пассивным объектом — например, сопротивляется тому, чтобы его клали горизонтально.
Здесь возникает конфликт: с одной стороны, осознавший свою отдельность ребенок чувствует себя беспомощным, а с другой — изо всех сил защищает то, что он лелеет как растущую автономию своего тела. В этой борьбе за индивидуацию, сопровождающуюся гневом на свою беспомощность, тоддлер старается заново раздуть чувство своего Я, приблизиться к навсегда утерянной иллюзии всемогущества, характерной для периода практикования. Это время борьбы воссоединения, начиная с которого тоддлер может формироваться посредством видоизменяющей интернализации (Tolpin, 1972) и других идентификационных механизмов, достигая определенной степени интеграции своей Я-репрезентации, или попасть в ловушку неуверенности в своей собственной идентичности как жизнеспособного отдельного существа. Такая неуверенность может быть результатом неудовлетворительной сепарации его Я-репрезентации, особенно в терминах дифференциации границ Я. В результате сохраняется угроза слияния
![]()
1 для отслеживания процесса построения Я-репрезентаций и их дифференциации от репрезентаций объектов больше всего подходят реакции на зеркало. Помещенный на матрас перед зеркалом на уровне пола, ребенок, проявивший первичный интерес к своему образу, становится возбужденным и сучит ручками, чтобы разря314
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ГРАНИЦ Я
или поглощения, от которой ребенок вынужден защищаться и на четвертом году жизни. Последствия данного конфликта не могут быть разрешены даже преобразованиями эдипального и постэдипального развития. Что касается формирования <<ядерной идентичности», то даже если бы у нас была возможность наблюдать интимные моменты жизни ребенка, то и в этом случае, по всей вероятности, мы не смогли бы увидеть построение маленьким ребенком ядра его Я-репрезентации. Здесь можно вспомнить Винникотта (Winnicott, 1963), который сказал:
В норме имеется ядро личности, которое соответствует подлинному Я. Я предполагаю, что это ядро никогда не вступает в связь с миром воспринимаемых объектов и что каждый индивид знает, что оно никогда не должно находиться в контакте или под влиянием внешней реальности. Несмотря на то, что здоровые люди общаются и наслаждаются общением, настолько же правдивым является факт, что каждый индивид остается изолированной сущностью, постоянно не общающейся, постоянно неизвестной и фактически закрытой (Winnicott, 1963, р. 187).
Винникотт продолжает:
Травматический опыт, который ведет к организации примитивных защит, является частью угрозы изолированному ядру, угрозы быть обнаруженным, видоизмененным, соединенным с чем-то. Защита состоит в дальнейшем
![]()
дить напряжение. Позднее, в шесть-восемь месяцев, его движения замедляются, он, кажется, соотносит движения своего собственного тела с движениями образа в зеркале и глядит на это более задумчиво. (Дети, которые в этом возрасте не реагируют моторно, смотрят на образ с некоторой озадаченностью.) В еще более позднем возрасте — в 9 или 10 месяцев — ребенок делает произвольные движения, наблюдая за своим отражением, явно экспериментируя, рассортировывая и проясняя для себя отношения между собой и «образом». (Поведение младенца и тоддлера один на один со своим отражением в зеркале рассматривается в специальном исследовательском проекте, выполненным д-ром Джоном Б. Макдевиттом. Оно ожидает публикации.)
сокрытии потайной самости... Следует задаться вопросом: как быть обособленным без необходимости защищаться? (Winnicott, 1963, р. 187)
Задача, которая должна быть достигнута в ходе нормального процесса сепарации-индивидуации, заключается в достижении определенной степени константности объекта и константности Я, т. е. более-менее стабильной индивидуальности как таковой. Второе включает в себя приобретение двух уровней чувства идентичности: (1) осознания себя как отдельного целостного существа и (2) зачатков осознания гендерной самоидентичности.
К концу второго года жизни мы обнаружили поразительную консолидацию конституционально предопределенных гендерно-специфичных различий в поведении мальчиков и девочек. Гордость мальчиков своим пенисом и телесный нарциссизм девочек, похоже, берут свое начало в анальной фазе. Однако полное обретение второго уровня идентичности должно прийтись на фаллическую фазу психосексуального развития. Другими словами, для того чтобы тоддлер получил сильный импульс, побуждающий к интеграции гендерно-определенного телесного образа Я, он должен достичь фаллической фазы. Это развитие зависит от дифференциации и интеграции связной гендерно-детерминированной структуры Эго, которая, в свою очередь, зависит от разделения на уровни и иерархической организации либидинального зонального катексиса и объединения репрезентаций частей психических образов телесного Я (см. также: Loewenstein, 1950).
Мы должны вновь подчеркнуть, что чувство Я является прототипом высшей степени личного, внутреннего опыта, который трудно, если не невозможно, проследить в исследовании-наблюдении, так же как и в случае реконструктивной психоаналитической ситуации. Оно проявляется скорее в случаях, когда присутствуют какие-либо нарушения, чем в нормальных ситуациях, которым посвящена эта книга.
ГЛАВА 16
НЕКОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ О ЗНАЧЕНИИ КРИЗИСА
ВОССОЕДИНЕНИЯ
ринимая во внимание нашу специальную задачу, особый сеттинг и метод, мы выбрали именно третий год жизни ребенка, особенно вторую его половину, как эмпирическую платформу для ретроспективного оценивания степени структурализации Эго и для выдвижения прогнозов об относительной нормальности или о возможности незначительной или средневыраженной патологии у наших испытуемых. На фаллической фазе (а в нескольких случаях — посредством материала игровых сессий на четвертом году жизни) мы попытались определить последствия первых трех субфаз процесса сепарации-индивидуации.
Мы осознали, что должны быть чрезвычайно осторожными и сдержанными в построении даже краткосрочных предсказаний, поскольку и они могут быть весьма неточными. Тем не менее наше исследование однозначно указало (по крайней мере, на нашей выборке, которую ни в коей мере нельзя считать репрезентативной), что имеются определенные поворотные моменты процесса сепарации-индивидуации, узловые точки в созревании и развитии, в которых некоторые события становятся особенно травматичными. Таковыми являются, к примеру, преждевременная дифференциация эгоядра, нехватка поддержки окружающей среды, повышенная и не нейтрализуемая агрессия в период раннего практикования, неспособность матери отпустить тело ребенка в начале кризиса воссоединения и т. п. Мы также обнаружили констелляции, при которых травматическая ситуация остается в дремлющем состоянии, пока в процессе развития не будут
достигнуты эти узловые точки или поворотные моменты, в которые стрессовая травматизация выходит на поверхность и вызывает расстройства (наблюдение первичной сцены усиливает кастрационные тревоги, хирургические вмешательства в семье в раннем возрасте способствуют росту амбивалентности и т. д.).
На протяжении всего процесса сепарации-индивидуации одна из наиболее важных задач развития формирующегося Эго заключается в совладании с агрессивными импульсами при столкновении с постепенно повышающимся осознанием отдельности. Успешность этого зависит от силы примитивного Эго, а именно сбалансированности его структуры (см.: Weil, 1973). Это позволяет ребенку поставить нейтральную или нейтрализированную агрессию на службу Эго и помогает ему принять свою отдельность, не поддаваясь характерным для этого возраста страхам: страху потери объекта, страху потери любви, сепарационной тревоге и/или страху кастрации.
Мы узнали, что постепенность замещения принципа удовольствия принципом реальности — постепенность осознания внутрипсихического процесса отделения Я-репрезентации от репрезентаций объекта посредством идентификационных процессов является тернистым путем. два основных направления — индивидуация и сепарация, структурализация Эго и осознание отдельности — разворачиваются параллельно. Первичный нарциссизм маленького ребенка, его вера в собственное и родительское всемогущество должны постепенно сойти на нет и уступить место здоровому вторичному нарциссизму, позволить эго-аппарату приобрести вторичную автономию и, наконец, что не менее важно, предоставить катексису объектного мира определенную степень нейтрализованного либидо, тем самым обеспечивая сублимацию (Е. kris, 1955).
Наше ограниченное исследование не позволило нам полностью понять, почему даже начальное развитие до эдипова комплекса и ранние детские неврозы настолько непредсказуемы. Но это также дало нам возможность с неослабевающим, хоть и сдержанным оптимизмом создать усовершенствованные инструменты, более изощренные психоаналитические теории развития, позволяющие понять «невспоминаемую» и «незабываемую» часть психики, в которой, как мы полагаем, также содержится ключ к профилактике психических нарушений.
Вплоть до сего момента в развитии психоанализа мы пытались понять эту сферу психики при помощи сенестетической эмпатии. В недалеком будущем мы должны прийти к более всеобъемлющему эмпатически-интеллектуальному пониманию скрытых ощущений и других производных превербальной фазы (ср.: Anthony, 1961).
Из нашего исследования мы многое узнали о том, почему даже в относительно благоприятных и вполне обычных обстоятельствах столь редко встречается гладкое и равномерно прогрессирующее личностное развитие. Мы полагаем, что это связано с тем фактом, что сепарация и индивидуация являются производными и зависят от симбиотических истоков человеческого состояния, а именно от симбиоза с другим человеческим существом — матерью. Это создает постоянное страстное стремление к реальному или созданному в фантазиях абсолютно защищенному состоянию первичной идентификации, связанному с исполнением желаний (абсолютное первичное всемогущество, по: Ferenczi, 1913). К этому состоянию глубоко в нижних пластах изначального первичного бессознательного стремится каждое человеческое существо.
К тому же гладкое и равномерно прогрессирующее личностное развитие оказывается столь затруднено по причине крайней сложности задачи, стоящей перед человеческим существом, которое должно приспособиться к опасностям и научиться жить отдельно в непростом и в основе своей враждебном мире.
Кажется вполне естественным то, что даже самый нормальный в плане природных задатков ребенок с самой оптимально доступной матерью может оказаться неспособным пройти через сепарацию-индивидуацию без кризисов, выйти невредимым из борьбы воссоединения и вступить на эдипальную фазу, не испытав трудностей в своем развитии (Mahler, 1971). Фактически, как мы обсуждали в главе 7, четвертая субфаза процесса сепарации-индивидуации не имеет четко определенной точки окончания.
Одним из главных достижений нашего исследования явилось открытие, что у ранних детских неврозов обязательно имеется предшественник в период кризиса воссоединения. В некоторых случаях именно тогда происходит первое проявление невроза. Мы неоднократно подчеркивали это в нашей книге. Это часто захватывает и третий год жизни и может наслаиваться на фаллически-эдипальную фазу, что препятствует вытеснению и успешному преодолению эдипова комплекса (см.: Freud А., 1965b; Nagera, 1966).
Как мы видим, многое в нашем представлении о здоровье и патологии может зависеть от особенностей развития, поэтому столь важно квалифицированно оценивать остаточные последствия симбиоза и стадий сепарации-индивидуации.
Благодаря тому, что структурные и усовершенствованные психоаналитические теории развития обогащают друг друга, мы уже получаем инструменты, которые, будучи использованы для развития теории либидо, должны приблизить нас к пониманию расширяющегося спектра невротических симптомов в детстве и на протяжении всей жизни индивида.
Мы легко забываем тот факт, что высшая точка теории либидо, которая является ключевой для понимания невроза, — это не только теория влечений, но и не менее важная теория объектных отношений. Имеется тенденция недооценивать потенциал Эго и предшественников Супер-Эго в развитии внутрипсихического конфликта на ранних уровнях развития.
Мы полагаем, что наше понимание ранних детских неврозов должно выиграть от интеграции данных наблюдений и реконструирования самых первых фаз детского внеутробного существования. Мы верим, что все это может быть весьма обогащено наблюдениями за дифференциацией маленького ребенка и отсоединения от симбиотической матрицы и отслеживания начальных этапов интернализированных конфликтов.
В нашей клинической работе, так же как и в наших наблюдениях за парами мать — дитя, мы последовательно подо-
шли — к нашему собственному удивлению — к фазоспецифичным конфликтам развития, даже несмотря на их индивидуальную вариабельность. Таковые происходили с поражающей частотой начиная со второй половины второго года.
Как Малер написала в работе для сборника статей, посвященного юбилею Хайнца Хартманна (Mahler, 1966b), именно в тот момент, когда иллюзия всемогущества ребенка находится на пике, т. е. в расцвете периода практикования, его нарциссизм особенно уязвим перед дефляцией.
В это время, т. е. примерно с 15—16-го месяца, у тоддлера развивается определенное осознание своей собственной отделенности. Благодаря достигнутому Эго прогрессу, пиком которого является овладение прямохождением и когнитивное развитие, тоддлер сталкивается с новой тревожащей его реальностью, перед которой он уже более не способен поддерживать иллюзию своего всемогущего величия.
На третьей субфазе процесса сепарации-индивидуации, в период воссоединения, в то время как индивидуация быстро прогрессирует и ребенок практикуется в самостоятельности, он все больше и больше осознает свою отделенность и начинает применять все виды частично интернализированных и частично все еще отыгрываемых механизмов совладания с целью ее отрицания. Одним из часто наблюдаемых видов адаптивного поведения является настойчивое требование тоддлером материнского внимания и участия. Но, как мы сказали ранее, процессы интернализации продолжаются в этот момент с большой скоростью, выстраивая структуры, которые способствуют автономии Эго, не зависящего от внешнего мира.
Младший тоддлер постепенно осознает, что объекты его любви, его родители, являются отдельными индивидами со своими собственными интересами. Он должен постепенно отказаться как от иллюзии своей грандиозности, так и от веры во всемогущество родителей. Такое осознание сопровождается болезненными переживаниями, и результатом этого становится рост сепарационной тревоги и дезидентификация и повторяющиеся схватки с матерью (в меньшей степени, как нам кажется, с отцом). Поворотным моментом этого процесса является то, что мы определили как кризис воссоединения.
Борьба, происходящая на пике кризиса воссоединения, имеет свои истоки в видоспецифичной человеческой дилемме, заключающейся в том, что, с одной стороны, в связи с быстрым созреванием Эго ребенка ему приходится осознать свою отделенность, в то время как, с другой стороны, он все еще не способен существовать сам по себе и продолжает нуждаться в родителях. И так будет еще много лет.
Три главнейших продуцирующих тревогу состояния в детстве, которые могут значительно выходить за пределы второго года жизни, берут свое начало в периоде воссоединения: (1) страх потери объекта, частично облегченный интернализацией, но также отягощенный интроекцией родительских требований; это не только указывает на начало формирования Супер-Эго, но также выражается в страхе потери любви объекта; этот страх, в свою очередь, заявляет о себе в реакциях высокой чувствительности к одобрению и неодобрению родителя; (2) имеется большее осознавание телесных ощущений и давлений, усиливаемое осознанием позывов к дефекации и мочеиспусканию в период приучения к туалету; (З) в большинстве случаев имеется реакция на открытие анатомической разницы между полами, которое происходит значительно раньше, чем мы предполагали ранее, и преждевременно предвосхищает страх кастрации или зависть к пенису.
Динамические силы развития позволяют многим детям разрешить конфликт воссоединения и продвинуться на 60лее высокие уровни объектных отношений и эго-функционирования даже несмотря на то, что у некоторых развиваются кратковременные нарушения развития. В 1963 г. Малер сделала наблюдение, подтвержденное нашим исследованием. Это наблюдение состояло в том, что нормальный тоддлер обычно способен получать эмоциональную подпитку и участие со стороны матери, иногда вопреки даже значительным сложностям. Мы узнали более подробно об адаптивных и защитных механизмах (предшественниках более поздних защит), при помощи которых ребенок преуспевает в отгораживании от тех влияний, которые стоят на пути устанавливающейся вторичной автономии его все более связной эго-структуры.
Однако у некоторых детей кризис воссоединения приводит к большей амбивалентности и даже к расщеплению объектного мира на «хорошее» и «плохое», последствия чего могут в дальнейшем превратиться в невротические симптомы нарциссического круга. У других детей островки нарушений в развитии могут вызвать пограничную симптоматику в латентный период и в подростковом возрасте[61] .
Фиксация на этапе воссоединения нередко обнаруживается среди постоянно пополняюшегося контингента пациентов, детей и взрослых, которые в настоящий момент ищут у нас помощи. Для них очень характерна сепарационная тревога; в их аффектах могут преобладать нарциссическая ярость и вспышки гнева, которые могут сходить на нет и уступать место альтруистическому смирению (Freud А., 1936). Их базовый конфликт следует искать в примитивной нарциссической борьбе, которая отыгрывалась в период кризиса воссоединения, но, возможно, стала центральным внутренним конфликтом, имеющим отношение в основном к их шаткому чувству идентичности (Erickson, 1959).
В заключение мы хотели бы указать на связь между кризисом воссоединения и ранним детским неврозом в том виде, в каком его обычно понимают. Понимание фиксации на кризисе воссоединения проливает немного света на происхождение невроза, в особенности у тех пациентов, чья главная проблема состоит в том, что в своих поздних работах Морис Бюве (Bouvet, 1958) описал как нахождение «оптимальной дистанции» между Я и объектным миром. У них происходят колебания между страстным стремлением к блаженному слиянию с репрезентацией хорошего объекта, с прежней (в фантазии, по крайней мере) «во всем хорошей» симбиотической матерью и защитой против поглощения ею, которое может вызвать потерю автономной идентичности Я.
Эти механизмы вытекают из базового конфликта, который разворачивается в фундаментальной и примитивной форме на субфазе воссоединения. Сложные процессы развития, характерные для данной субфазы, и ее успешное или неуспешное разрешение, без сомнения, влияют на то, каким образом ребенок будет впоследствии подходить к эдипальному кризису.
Тенденция к расщеплению объектного мира, которая может возникнуть как средство, применяемое ребенком против боли ожиданий и потерь кризиса воссоединения, должна представлять еще большую трудность для разрешения сложных конфликтов вокруг объектных отношений в эдипальный период, усиливая амбивалентность и бросая зловещую тень на эдипальное и постэдипальное личностное развитие.
Мы полагаем, что ранний детский невроз становится ясно виден
в эдипальный период; но форма его также может зависеть от исхода кризиса
воссоединения, который ему предшествует.
И ЕГО НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ:
В СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ
КЛИНИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ
ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ
МАТЕРИ И ДЕТИ
Во время пилотного исследования (1959—1962) и на протяжении более формального изучения (1962—1968) мы наблюдали 38 детей и их 22 матери. С годами мы все больше фокусировались на более тщательном исследовании детей, с которыми мы работали после 1962 г. Наша интенсивная работа с ними дополнительно выиграла от кумулятивного обогащения концепции формальными исследованиями дополнительных пар мать—дитя, начиная с наших первых пилотных наблюдений и заканчивая более поздними. Периодические контакты со многими детьми из второй группы продолжались на протяжении основных периодов интенсивного изучения. Краткие характеристики этих детей и их родителей даны в таблице 1.
НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ
Мы ориентировались на двухфокусное исследование, субъектом которого всегда была диада мать—дитя. Самыми ценными источниками данных были наблюдения за парами мать—дитя, проводимые включенными и внешними наблюдателями (последние — за экраном односторонней видимости). К тому же мы снимали детей на камеру — индивидуально и во взаимодействии с их матерями. Впоследствии, особенно на третьем году жизни, добавлялись наблюдения за группой тоддлеров. Мы также обнаружили, что для понимания старших тодллеров (третий год жизни) большое значение имели
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА
ТАБЛИЦА 1
КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗБРАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СУБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа 1: сент. 1959—янв. 1962. N = 17 детей у 16 матерей
Группа II: янв. 1962—июнь 1968. N = 21 ребенок у 13 матерей
|
Характеристика |
Группа I |
Группа II |
|
А. Возраст |
|
|
|
1. Средний возраст подключения к проекту |
13 месяцев |
2,5 месяца |
|
2. Разброс возрастных показателей при подключении |
1-27 месяцев |
1 нед.— 10 месяцев |
|
З. Средний возраст при окончании регулярных посещений |
31 месяц |
31 месяц |
|
4. Разброс возрастных показателей при окончании [62] |
20-40 месяцев |
7—48 месяцев |
|
5. Средняя длительность участия |
18 месяцев |
28,5 месяцев |
|
в. пол |
|
|
|
6. Количество мальчиков |
8 |
12 |
|
7. Количество девочек |
9 |
9 |
|
С. Очередность рождения[63] |
|
|
|
8. Рожденный первым |
11 |
з |
|
9. Рожденный вторым |
з |
12 |
|
10. Рожденный после второго |
1 |
6 |
|
D. Число сиблингов в исследованииз |
|
|
|
11. Количество семей с одним ребенком в проекте |
|
12 |
|
12. Количество семей с двумя детьми в проекте |
|
8 |
|
13. Количество семей с тремя детьми в проекте |
|
2 |
328
ПРИЛОЖЕНИЯ
|
Характеристика |
Группа I |
Группа II |
|
14. Количество детей с четырьмя детьми в проекте |
|
1 |
|
Е. Возраст родителей4 |
|
|
|
15. Средний возраст матерей при подключении к проекту |
Неполные данные |
31 год |
|
16. Разброс возрастных показателей у матерей при подключении |
Неполные данные |
13-25 лет |
|
17. Средний возраст отцов при подключении к проекту |
Неполные данные |
36 лет |
|
18. Разброс возрастных показателей у отцов при подключении |
Неполные данные |
26—65 лет |
|
F. Образование родителей4 |
|
|
|
19. Средняя продолжительность образования у матерей (в годах) |
Неполные данные |
15,3 года |
|
20. Разброс показателей по образованию у матерей (в годах) |
Неполные данные |
12—18 лет (от старшей школы до степени магистра) |
|
21. Средняя продолжительность образования у отцов (в годах) |
Неполные данные |
16,7 года |
|
22. Разброс показателей по образованию у отцов (в годах) |
Неполные данные |
12—20 лет (от старшей школы до д-ра философии) |
|
G. Религиозная принадлежность семей (и детей) 5 |
|
|
|
23. Протестанты |
|
5 (10) |
|
24. Иудеи |
|
|
|
25. Католики |
|
|
|
26. Смешанная |
|
|
![]()
1 Эти данные неполные для группы родителей 1. В целом, тем не менее, они во многом похожи на данные группы II.
2 Данные указываются на количество семей каждой религии и (в скобках) на количество детей в исследовании.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА
индивидуальные игровые сессии. Также были введены тестирование, интервью с отцами, визиты домой[64] . Полный обзор видов собранных нами данных приведен в таблице 2. В последующем обсуждении мы прокомментируем каждую часть процесса сбора данных. Нумерация следующего раздела соответствует номерам пунктов таблицы 2.
1. Устанавливая сеттинг и расписание для наших включенных наблюдателей, мы преследовали две цели: (1) получить последовательное, хотя бы краткое описание каждого посещения мать—дитя (срез дня) и (2) получить избранные детализированные наблюдения в тех областях, которые, как мы считали, представляли для нас особую важность. Последние наблюдения за один и тот же период времени координировались как можно чаще с текущими записями внешнего наблюдателя (см. ниже). (Мы смирились с тем фактом, что гибкая посещаемость ради удобства матерей будет часто создавать проблемы с расписанием.)
Включенные наблюдатели находились в комнате с матерями и их детьми. Постепенно мы осознали тот факт, что определенная доля времени и внимания наблюдателя вынужденно поглощается «участием», а не наблюдением. Поддерживать атмосферу, «за всем присматривать», взаимодействовать с матерями, чтобы шло своим чередом», требовало усилий и времени, и все это нужно было держать в голове постоянно, помня о необходимости сбора данных наблюдения. Мы подошли к выполнению этих двойственных задач, наделив одного включенного наблюдателя обязанностями отвечать за текущие дела: она встречала матерей, помогала им снять верхнюю одежду с детей, если это было необходимо, обеспечивала напитками и закусками, следила за ребенком, когда его мать была на интервью, старалась поддержать беседу, если повисшая пауза становилась дискомфортной. Коротко говоря, она занималась сиюминутными потребностями участников нашего исследования. Она также готовила дневной срез
330
ПРИЛОЖЕНИЯ
посещения каждой пары мать—дитя, в котором освещалось только: время прибытия и ухода, особенные события, превалирующее настроение. К тому же впоследствии она делала обширные записи наблюдений относительно тех пар мать—дитя, с которыми у нее был особый контакт и которых она могла более или менее детально наблюдать.
Другой включенный наблюдатель или наблюдатели (обычно один, но временами два и более) могли полностью посвятить свое внимание конкретной паре «мать—дитя». Они могли осуществлять координированные, детальные наблюдения с указанием времени (одновременно с внешним наблюдателем из кабины) и выходить из комнаты с целью надиктовать свои впечатления с минимальной отсрочкой.
Мы разработали ориентиры для наблюдателей, напоминавшие им, что внимание должно быть всегда бифокальным, то есть сосредоточенным скорее на диаде <<мать—дитя», нежели на ком-то из них по отдельности; что они свободны полагаться на свое эмпатическое понимание того, что происходит с ребенком, матерью или между ними и что они должны наблюдать и обдумывать поведенческие и мотивационные последовательности. Таким образом, мы хотели, чтобы наблюдатели размышляли в терминах обширных и значимых единиц поведения и использовали свои мысли и опыт в целом, чтобы категоризировать замечаемые ими явления; в то же время мы просили их подтвердить свои высказывания детальными доказательствами отдельно наблюдаемого вида поведения. Эти требования казались непростыми, и вначале так оно и было; однако мы обнаружили, что по мере приобретения опыта наблюдательность и способность запоминать у наших сотрудников значительно возросли. То, что им становилось известно о наблюдаемой паре «мать—дитя» и о других диадах, с которыми проводилось контрастное сравнение, значительно им помогло.
Очевидно, что наблюдатели выступали больше в роли чувствующих клиницистов, нежели запоминающих камер: мы полагались на их опыт понимания, несмотря на потенциальную субъективность. Мы пытались уменьшить эффект
ТАБЛИЦА 2
СБОР ДАННЫХ
|
Тип данных |
Частота |
Время выполнения |
Метод |
Регистратор |
|
1) Наблюдения участников |
Один или два раза в неделю для каждой пары мать— дитя; приблизительно 40 надиктованных наблюдений в месяц |
Постоянно |
2—4-с. надиктованного отчета, описывающего поведение ребенка, взаимодействия мать—дитя, поведение матери в группе и ее коммен тарии относительно ребен ка и самой себя, а также личность матери, 30—50-минутные наблюдения за парами мать—дитя. 2—5 с. текущего отчета. Формулирование предположений и суждений (с примерами), записи по восьми областям, выбранным для наблюдения за процессом сепарации-индивидуации. 2—3 с. |
Психиатры проекта, старшие включенные наблюдатели, отвечающие за детскую и комнату тоддлеров |
|
2) Координированные наблюдения включенных и внешних наблюдателей |
Еженедельно до 9 месяца, дважды в нед. с 9 по 18 месяцы, ежемесячно после 18 месяца. Приблизительно 15 надиктованных наблюдений в месяц |
Последние пять лет сбора данных |
З включенных наблюдателя и внешние наблюдатели |
|
|
З) Наблюдения по областям |
Приблизительно 20 в месяц |
Последние четыре года сбора данных |
Внешние наблюдатели |
|
|
4) Интервью с матерью |
Еженедельно |
Постоянно |
3—5-с. надиктованный отчет по развитию ребенка, о родительско-сиблинго-детских отношениях и семейных событиях |
Психиатры проекта, старшие включенные наблюдатели |
|
5) Интервью с отцом |
Один или два раза в год |
Постоянно (но в начале менее регулярно) |
4-с. надиктованный отчет по развитию ребенка и отношениям отец—ребенок |
Психиатр проекта |
о о
|
Тип данных |
Частота |
Время выполнения |
Метод |
Регистратор |
|
6) Видеозапись избранных поведенческих последовательностей в парах мать—дитя |
В соответствии с хронологическими ориентирами, характерными для каждой субфазы |
Постоянно (но более систематично впоследствии) |
Съемки матери и ребенка внутри комнаты. Надикто-ванные наблюдения по фильму, описы-вающие поведение пары мать-дитя. Подготовка заметок по фильму для описания последовательностей в фильме |
Оператор исследования |
|
7) Домашние визиты |
Приблизительно один 2—3-часовой неформальный визит дважды в месяц |
Постоянно, но нерегулярно вначале и систематически впоследствии |
4—5-с. надиктованный отчет о поведении матери (периодически отца) и ребенка в домашней обстановке, особенно на контрасте с поведением в обстановке группы в Центре |
Старшие включенные наблюдатели и включеннные наблюдатели |
|
8) Тесты по развитию для детей |
Тестирование каждого ребенка, по крайней мере, четыре раза приблизительно на 5, 10, 18 и 30 месяцах |
Постоянно |
Применение стандартизированных тестов по развитию и подготовка профилей развития |
Специалист по тестам для детей (не член команды проекта) |
|
9) Тесты личности для матерей |
Первоначальное психологическое оценивание всех матерей |
Один раз для каждой матери |
Батарея проективных тестов |
Клинический психолог (не член команды проекта) |
|
10) Наблюдения за группой старших тоддлеров |
Групповая сессия по каждому тоддлеру |
С момента образования группы тодделров |
2—4 с. надиктованных отчетов |
Включенные наблюдатели |
|
11) Индивидуальные игровые сессии со старшими тоддлерами |
Еженедельно во время нахождения в группе тоддлеров и в течение года после |
Последние 2 года группы и впоследствии |
Один из сотрудников работал с каждым ребенком в игровой |
Старшие включенные наблюдатели и психиатры |
субъективности посредством привлечения большего количества наблюдателей, при помощи повторных наблюдений и особенно дискуссий на наших еженедельных клинических собраниях.
2. Координированные наблюдения за парами «мать—дитя» делались внешними наблюдателями из кабины с односторонним зеркалом на протяжении периодов приблизительно в 30 минут или более. Эти границы не были жестко установленными. Запись текущей последовательности, например, не следовало прерывать по причине окончания времени; наоборот, внешние наблюдатели имели инструкцию не прекращать работу до тех пор, пока избранная последовательность (скажем, возвращение матери с интервью и реакция ее ребенка) не будет завершена. Достаточно рано мы отказались от идеи продолжительного по времени охвата событий из кабины, прежде всего потому, что субъекты нашего исследования приходили часто и на длительные периоды времени.
Впоследствии, в течение двух или трех лет, мы постоянно добивались того, чтобы внешние наблюдатели координировали свои текущие записи наблюдений с включенным наблюдателем так, чтобы имелось по две записи получасовых детальных наблюдений. В этом двойном наблюдении мы полагались на внешних наблюдателей в том, что касалось точности описания поведенческих последовательностей. Тем не менее мы также поощряли внешних наблюдателей делать краткие обобщения увиденного, а не ограничивать себя лишь механическим описанием событий. В инструкции для внешних наблюдателей также подчеркивалось, что они должны следить за взаимодействием единства мать—дитя, а не за одним из партнеров по диаде.
Эти координированные наблюдения имеют интересную раннюю историю, отражающую постепенное смешение некоторых более формальных и более клинических аспектов исследования. Сперва внешние наблюдатели лишь составляли классификации различных видов поведения, находясь за односторонним зеркалом (см. «классификация поведения» в приложении С). Однако М. С. Малер сочла, что без сопутствующих
клинических описаний, без выделения обоснований классифицируемого феномена и в особенности без сравнения не умеющих ходить младенцев с тоддлерами при использовании одного и того же критерия оценки классификации были бы неполными и не могли быть ни интегрированы для дальнейшего исследования, ни использованы для построения гипотез. Другими словами, для клинически ориентированного персонала, вовлеченного в ежедневное изучение данных, эти шкалы классификации были непригодны.
В связи с этим они попросили составляющих рейтинги в дополнение к выставляемой оценке добавлять детализированные соображения относительно специфического оценивания в каждом конкретном случае. для ведущего исследователя результатом этого стало важное открытие возможностей и ценностей аккомодации и соединения систематического клинического и методологически более формального подходов — а также возможностей для сотрудничества между психоаналитиком как исследователем и исследователем, обученным психоанализу. В конце концов (в нашем более позднем сеттинге на верхнем этаже), после того, как мы отказались от рейтингов, было решено перейти на простое описание (координированные наблюдения с участием и со стороны) — процедуру, которую мы нашли очень продуктивной.
З. В дополнение к текущим записям имелись специфические наблюдения по областям, которые клинические наблюдатели сочли наиболее ценной заменой рейтингов. Наблюдателям давалась инструкция обрисовывать и комментировать наблюдения в различных областях развития. (Этот метод был введен и тщательно разработан д-ром Китти Ла Перрье во время ее участия в проекте в качестве психолога-включенного наблюдателя в 1963—1966 гг.) Области были выбраны по их релевантности субфазам процесса сепарации-индивидуации, которые были вычленены уже в 1962 г. К ним относились: двигательная активность, сенсомоторная активность, объектные отношения (мать и другие), отношение к неодушевленным объектам, реакции на боль и фрустрацию, агрессия и амбивалентность, вокализации, а также аффекты и настроение, тело и Я.
С целью поддерживать относительно независимую исследовательскую установку у внешних наблюдателей, особенно после выдвижения М. С. Малер гипотезы о субфазах, мы пытались ограничить их взаимодействие с другой частью персонала. Как правило, они не участвовали в наших общих собраниях; они не были знакомы с теорией субфаз и гипотетическими субфазными характеристиками поведения; также они не были подробно ознакомлены с какими-либо материалами относительно диад <<мать—дитя», кроме собственных наблюдений. Нередко такая относительная изолированность приводила к тому, что мы сталкивались с кадровой проблемой, поскольку работа внешнего наблюдателя требует от человека многих талантов (умения вести записи и хорошей клинической чувствительности к взаимодействиям между матерью, ребенком и другими людьми), и в то же время эта работа была на уровне ассистента проекта (с тех пор, как мы старались оградить этих наблюдателей от участия в создании наших формулировок) и в связи с этим предполагала мало взаимодействия и относительно скромную обратную связь. На этой должности имелась значительная текучка кадров, и мы были способны поддерживать эффективную дистанцию между этими наблюдателями и остальным персоналом максимум в течение года.
4. Интервью с матерями проводились еженедельно, иногда в детской, иногда в отдельной комнате в присутствии ребенка или без него. В первоначальном сеттинге, отчасти по причине стесненных обстоятельств, ребенок на интервью чаще присутствовал, чем отсутствовал. В то время это не противоречило нашим целям, и его присутствие или отсутствие определялось его толерантностью к нахождению отдельно от матери. Целью этих интервью являлось прежде всего наблюдение взаимодействия матери и ребенка в этом более закрытом сеттинге, отдельно от остальной части группы, и получение информации от матери по поводу развития ребенка, домашней жизни и семейных событий. Каждая мать имела постоянного интервьюера, с которым у нее устанавливались продолжительные отношения. Впоследствии, особенно когда в 1965 г. к проекту присоединился д-р Макдевитт, акцент сместился на исследование и поминутное и тщательное изучение сепарационных реакций как таковых.
5. Стремясь получить всестороннюю картину хода развития субъектов нашего исследования, мы полагали, что незаменимыми окажутся интервью с отцами. Мы остро осознавали, что нуждаемся в дополнительной информации о личности отца, его роли в семье, его установке по отношению к своим детям, их взаимодействии и в особенности о специфическом отношении ребенка к отцу. С самого начала нашего исследования мы поместили наблюдателей в комнату. Вскоре мы заметили, что многие дети явно позитивно реагируют на одного из психиатров проекта, ведущего члена исследовательской команды, д-ра М. Фюрера, который именно в это время часто оказывался в детской. Мы предположили, что эта реакция связана с отношениями детей со своими отцами, большинство из которых, по сообщениям матерей, имели похожий располагающий характер[65] .
После того, как к проекту присоединился д-р Джон Б. Макдевитт, контакты с отцами стали более систематическими и определенными. В целях получить информацию и сформировать некоторое впечатление об отцах и в особенности о взаимодействии ребенка с его отцом, психиатром проекта была организована серия периодических интервью с отцами. Отцы реагировали с интересом и энтузиазмом. Они полагали, что целью интервью прежде всего является получение информации об их ребенке, и считали, что вполне могут ее предоставить (временами с гораздо большей объективностью, чем матери). Большинство из них также смогли свободно говорить о своих отношениях с детьми, некоторые связывали это со своей прошлой историей или опытом психотерапии.
В дополнение к этим интервью мы также устраивали дни отца в детской комнате — дни, когда детей приводили отцы, если это было возможно. Это позволяло нам наблюдать их взаимодействие в более знакомом нам сеттинге, где имелись стандарты для сравнения с взаимодействием мать—дитя.
6. Мы продолжали расценивать наши видеозаписи как документацию, а не как необработанные данные. Нашей целью было иметь доступные лонгитюдные записи субфазно-релевантного поведения по многим диадам <<мать—дитя». Наше расписание съемок соответствовало хронологическому возрасту так же, как и субфазам процесса сепарации-индивидуации с момента, как мы вознамерились делать возможные кросссекционные сравнения наших детей в разном возрасте. И наконец, съемки были скорее выборочными, нежели исчерпывающими. Мы брали за образец поведение, которое считали релевантным, и, как правило, не снимали один и тот же вид поведения дважды, если он практически сразу повторялся.
Съемка чаще велась прямо в детской и в комнате тоддлеров, а не с постоянной позиции из кабины. Большая часть съемок также производилась в нефиксированное время. Таким образом, существенный момент выбора, особенно в начале работы, был предоставлен на усмотрение оператора, который должен был быть скорее активным участником исследовательской команды, нежели талантливым техником. Подвижность камеры и непривязанность ко времени принесла большую выгоду для исследования. Когда мы видели, что нужны дополнительные данные для сравнения различных диад «мать—дитя», мы разрабатывали ориентиры относительно частоты и длительности съемок так же, как и общие директивы о содержании того, что должно быть снято. Когда появилась идея о субфазах, мы провели съемки примерно в возрасте пяти месяцев, а затем — через определенные интервалы — на каждой субфазе. Мы также добавили дополнительные съемки ребенка в момент, когда матери не было в комнате, и по ее возвращении [66] .
Полная лонгитюдная запись, посвященная конкретной диаде «мать—дитя», занимает приблизительно 4000 футов, а большая или меньшая охваченность периодов зависит от уровня развития ребенка в процессе сепарации-индивидуации. Самым важным для нашего исследования стало использование этих фильмов для кросс-секционного сравнения детей. К настоящему моменту из наших видеозаписей, посвященных отдельным парам «мать—дитя>>, было составлено восемь или девять фильмов, иллюстрирующих: (1) субфазы процесса сепарации-индивидуации, (2) предварительное изучение базового эмоционального фона, (З) ключевые моменты взаимодействий мать—дитя, при сравнении двух детей одной и той же матери, (4) константность объекта, (5) адаптацию и защиты в момент их образования, (6) аспекты процесса сепарации-индивидуации во взаимосвязи с реконструкцией, (7) сепарационные реакции и (8) аспекты развития либидинальной константности объекта. К тому же, М. С. Малер отложила ряд пленок, чтобы использовать их во время лекций для студентов психоаналитических институтов Нью-Йорка и Филадельфии и в других местах. Мы начали организацию видеотеки, включающую как лонгитюдные, так и кросссекционные разделы видеосъемок. Все наши фильмы имеют сопроводительные заметки (содержащиеся в специальных брошюрах).
7. Форма Домашних визитов менялась со временем. Изначально они происходили относительно редко и носили формальный характер. Однако в дальнейшем визиты домой стали случаться чаще, и были назначены сотрудники, которые посещали дома регулярно и были хорошо знакомы с матерьми. Постепенно нам стало больше удаваться наблюдение показательных дней в жизни наблюдаемых семей, и в особенности повседневных забот о ребенке (процедуры туалета, кормления), который участвовал в исследовании. Матери согласились с нашим предложением продолжать день как обычно, позволяя нам знакомиться с климатом, характерным для данной семьи, и с тем, как ее члены проводят время. По большей части визиты происходили в будние дни. В большинстве случаев по этой причине было невозможно наблюдать взаимодействия отца (а иногда и старших сиблингов) с матерью и ребенком, хотя изредка отцы тоже оказывались дома.
Нам было интересно увидеть, есть ли различия в том, как ребенок и диада функционируют дома и в Центре, и со временем нам удалось найти по крайней мере одно такое различие, касавшееся одной важной области, а именно вокализации и впоследствии использования ребенком речи. У нас сложилось впечатление, что в Центре это имело место значительно реже, чем дома, и это подтверждалось сообщениями матерей и нашими собственными сравнительными наблюдениями. Этому различию, вероятно, способствовали различные факторы, но основная причина, по всей видимости, состояла в том, что вербальная коммуникация уходит корнями в интимные отношения между матерью и ребенком, — эта интимность гораздо более возможна дома, чем даже в такой знакомой обстановке, как наша.
8. Тестирование Детей проводилось регулярно, как указано в таблице 2. Опытный специалист по тестированию детей (из Центра изучения ребенка, Нью-Хэвэн) составлял полный и детальный протокол наблюдений и в дополнение — формулировки для профилей развития ребенка.
9. Для тестирования матерей использовалась стандартная батарея психологических тестов (Шкала интеллекта у взрослых по Векслеру, Роршах, Тематический апперцептивный тест), составлялся полный отчет по всем тестам.
10. Наблюдения за старшими тоддлерами проводились так же, как и наблюдения в детской. Они были добавлены, конечно же, только когда у нас появилась комната для старших тоддлеров, но это произошло достаточно быстро. Поведение ребенка, взаимодействие со сверстниками, отношение к наблюдателю-воспитателю, использование материалов для игры — всему этому уделялось внимание в процессе наблюдений. Взаимодействие мать—дитя свелось к минимуму (матери обычно не присутствовали), но нас продолжало интересовать, как ребенок относится к отсутствию матери и к воссоединению с ней.
11. И наконец, индивидуальные игровые сессии дополняли наши наблюдения за старшими детьми. Одна из главных причин их введения состояла в желании поближе изучить (к этому моменту) более богатую фантазию и игру у этих детей. На индивидуальных сессиях развитие фантазии могло наблюдаться практически беспрепятственно. С тремя детьми они проводились еженедельно вплоть до того момента, когда они пошли в детский сад (в четыре года).
СОБРАНИЯ ПЕРСОНАЛА: ПОПЫТКИ СИНТЕЗА
На протяжении тех лет, пока продолжалось исследование, у нас было два вида регулярных собраний. На этих собраниях мы занимались необработанными данными (наблюдениямиотчетами) и данными, получаемыми в ходе наших разнообразных попыток организации материала (что будет описано ниже в данном разделе).
1. Совещание клиницистов, которое происходило дважды в неделю и на котором присутствовало большинство сотрудников, за исключением внешних наблюдателей, было посвящено непосредственной обработке данных. Те факты, которые несколько людей наблюдали в одних и тех же ситуациях, использовались для свободно организованной, спонтанной дискуссии, которая помогала обдумать увиденное и позволяла сравнить впечатления и собрать целостную картину из мозаичных индивидуальных наблюдений.
Иногда на коллективное обсуждение выносилась отдельная диада «мать—дитя». В процессе работы с записями наблюдений и личными воспоминаниями большую пользу приносил просмотр видеоматериалов, посвященных обсуждаемой паре «мать—дитя». В другой раз для сравнительного обсуждения избирались две диады «мать—дитя», например сверстники с разными паттернами развития или рожденные один за другим дети одной матери. В таком случае использовались кросс-секционные фильмы.
Собрания персонала оказались чрезвычайно полезными для оттачивания нашего мастерства наблюдения, улучшения техник наблюдения и записей и, что самое важное, для углубления нашего понимания процесса сепарации-индивидуации. Материалы по результатам этих дискуссий записывались в форме краткого протокола встречи. Эти периодические информационные итоги сами по себе стали частью регулярной записи собранных данных.
2. Авторы этой книги и другие старшие члены исследовательской группы нередко проводили собрания по поводу исследования, длительностью приблизительно в три часа. В ходе таких встреч обсуждались проблемы методологии и исследовательской стратегии. Многие оригинальные формулировки, приведенные в этой книге, впервые родились на этих собраниях — в дискуссиях, отчетах о проделанной работе для представителей фонда и документах, которые составлялись и зачитывались группе.
Таким образом были собраны полученные нами материалы. Позвольте теперь рассмотреть наши попытки обработки этих данных.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
еудивительно, что благодаря организации наблюдений (детская и комната тоддлеров, другие ситуации сбора данных) и многочисленным формам записей, указанным в приложении А, мы получили большой объем данных. Эти данные включали в себя ряд наблюдений за ранним детским развитием и материнско-детскими интеракциями первых двух или трех лет жизни. Само обилие данных угрожало разрушить исследовательский процесс и утопить исследователя в потоке увлекательных, но бессвязных и несистематизированных клинических эпизодов и вытекающих из них фрагментов теории. Мы решили противостоять этому двумя способами: во-первых, всегда соотнося наши формулировки с нашей центральной организующей идеей о процессе сепарации-индивидуации, — подход, породивший позже много отдельных наблюдений; и, во-вторых, развивая совокупность подходов к сбору и анализу данных, которые включали в себя упорядочивающие процедуры.
Мы не рассчитывали, что сможем кодировать все наши наблюдения в стандартизированной форме, не говоря уже о возможностях количественных измерений, и никогда не стремились к этому. Но одна ранняя попытка сделать это с некоторой частью наших наблюдений (см. классификацию поведения в приложении С) может служить контрапунктом для ясного понимания нашего обычного подхода к анализу данных и процессу вывода формулировок. В классифицировании поведения двое внешних наблюдателей одновременно, но независимо друг от друга составляют классификацию в соответствии
с предварительно заданными числовыми шкалами и переменными по каждой диаде «мать—дитя». Эти классификации затем должны быть оценены для межклассификационного согласования и подвергнуты корреляционному анализу, образуя кластеры переменных, на основе которых можно делать предположения о <<типах» и <<факторах». Это в основе своей статистический взгляд на процесс получения «результатов»: выполняется анализ данных, а затем «считываются» результаты.
Такой подход считается самой ясной формой традиционной модели экспериментального или корреляционного количественного исследования в тщательно разработанных небольших исследованиях, направленных на конкретные цели. В то же время, анализируя экспериментальные данные практически по любому предмету, наблюдая «рассветы» и «закаты» предположительно («устоявшихся» открытий и то, как находчивый экспериментатор критикует работу своего коллеги, часто можно подумать о принятии идеи, которая является альтернативой объяснению, предполагающемуся для определенного феномена или серии открытий, и осознать, что такое исследование, будучи объективным по форме проведения, субъективно по своей сути. Иначе говоря, редко можно встретить исследование по таким сложным и спорным проблемам, с которыми сталкивается психоанализ, чтобы результаты его не были особо тщательно отфильтрованы разумом экспериментатора в его попытках извлечь смысл из не имеющей однозначного завершения серии изысканий. Некоторые иллюзии относительно «результатов» экспериментальной работы схожи с представлениями о работе психолога как специалиста по тестированию, например идеи, что результаты исследования или диагностической проверки просто считываются с материалов, поступающих в результате применения особой техники, а не являются результатом сложного процесса построения гипотез, где правила могут быть не до конца ясны.
Таким образом, несмотря на то, что даже более классическое экспериментальное исследование часто не дает результатов, которые могли бы быть прочитаны статистически, наш подход к выведению формулировок на основе данных
подразумевает все-таки гораздо более «активный» процесс. Изменения формы исследования на разных его фазах являлись как результатом работы над созданием формулировок, так и вкладом в их создание в ходе подобного катящемуся снежному шару процесса развития идей. Мы не развивали метод, а затем «обнаруживали» с его помощью результаты. Скорее, можно сказать, что у нас имелись догадки, иногда даже относительно твердое убеждение, а порою внутренне противоречивая неуверенность по поводу отдельного феномена или области материнско-детского функционирования и т. п. Все это мы встроили в формы организации, интеграции, рассмотрения релевантных сегментов данных, которые можно было использовать для расширения, подтверждения, прояснения или изменения наших первоначальных концепций.
Например, анализ данных в терминах «ориентирующих вопросов» (см. приложение С) — вопросы о феноменах, предположительно релевантных для всех субфаз процесса сепарациииндивидуации, — сам по себе представляет достижение исследования, а не просто формулировку метода, который должен принести результаты. Ориентирующие вопросы являются промежуточными формулировками на пути к дальнейшему прояснению. Они представляют собой наше изменявшееся со временем понимание широкого круга феноменов, о взаимосвязи которых с процессом сепарации-индивидуации мы не могли бы даже подумать до начала исследования. К настоящему моменту лишь некоторые из этих вопросов были подвергнуты расширенному изучению и значительному прояснению. Это свидетельствует о том, что в тот период наши идеи находились в зачаточном состоянии, и сегодня наша работа все еще не завершена. Аналогичным образом выбор для анализа многих «областей» и ранних «категорий» (см. приложение С) отражает наше растущее осознание того, что ряд важных феноменов раннего детского развития (например, речь, приучение к туалету) может быть рассмотрен с точки зрения их релевантности, влияния и воздействия на ход процесса сепарации-индивидуации, особенно на более поздних субфазах.
Хорошим примером исследовательского процесса, близкого к нашему, является продуктивная попытка систематического изучения подробных психоаналитических данных, которая была предпринята под руководством д-ра Джозефа Сандлера в Хэмпстедской клинике на протяжении последних нескольких лет в <<Проекте индексирования>>. В процессе индексирования (так же как и в нашей работе) особо не беспокоятся о том, чтобы справиться со всеми данными; не беспокоятся, что где-то в данных имеется что-то, что будет представлять сложности в дальнейшем; просто делается то, что возможно. И то, что можно сделать, оказывается не так уже мало, когда подход включает регулярную сверку специфических клинических фрагментов терапевтических сессий (или наблюдений за детьми) с концепциями, которые предлагает теория для обращения с такими элементами. Используя клинические данные и психоаналитическую теорию, Сэндлер и его сотрудники смогли прояснить, иногда переосмыслить и значительно усовершенствовать центральные психоаналитические понятия (Sandler, 1960; Sandler, Holder, Meers, 1963). При таком формате работы столкновение между клиническими феноменами и организующими идеями происходит наиболее непосредственно и не так, как это представлял себе аналитик в ходе психоаналитической сессии. Цель индексирования — не просто получить серию пунктов в категориях, которые только потом будут изучены. Скорее, главное открытие происходит в процессе исследования несовпадений клинических данных с теоретическими категориями, а именно в процессе индексирования самого по себе. Вот и наш процесс формулирования вопросов был направлен на внимательное рассмотрение исходных данных; эти вопросы и выбор областей изучения являлись уже формулировками, полученными в наших прошлых работах, а их выдвижение в эксплицитной форме позволяло нам исследовать их далее.
В дополнение к иллюстрации нашего хода исследования в процессе и к примерам анализа данных, которые мы нашли необходимым (или, возможно, наиболее комфортным для себя) выбрать для данного исследования, подходы, которые мы
346
опишем в приложении С, также могут использоваться, чтобы сделать более понятной задачу, которую нам пришлось решать при систематическом изучении данных. Какова была эта задача? Найти главные линии, стандарты и критерии для оценки значимости (значения и важности) феноменов, свидетелями которых мы были.
Что это значит? В своей практической работе психоаналитик следует определенным базовым правилам. Кушетка, аналитик, сидящий вне поля зрения пациента, жесткий фрейм базовые правила являются не только условиями для оптимального протекания аналитического процесса, но и сами в своей регулярности и стандартизованности также обеспечивают базис для понимания феномена анализа, позволяя нам, к примеру, интерпретировать восприятие пациентом аналитика как (по большей части) перенос, а опоздания, пропуски или прерывания потока ассоциаций считать (опять же, по большей части) сопротивлением. Помимо этого аналитик может искать определенные, иногда лишь скрыто присутствующие ориентиры, чтобы определить, что происходит, будь это перенос, текущее функционирование пациента, аспекты его фантазийной жизни, общее представление обо всех виденных ранее пациентах, существующее в сознании аналитика, или контрперенос. Закономерности, правила, стандарты и базовые направления делают такую работу возможной.
Примерно так работает мышление психолога при анализе данных психологических тестов. Преимущество, которое предлагают тесты в оценке функционирования определенного пациента, заключается не в жестких рамках, устанавливаемых правилами тестирования, поскольку специалистом по тестированию всегда предполагаются индивидуальные вариации, но скорее в относительной стандартизованности процедуры и совокупности идей об организации феномена. Это позволяет специалисту выстроить внутренний набор норм и ожиданий, изучить особенные идиосинкратические вариации в ответе и оценить значимость специфической реакции в контексте разного возрастного уровня, разных окружающих обстоятельств или различных патологических синдромов.
В результате попыток категоризировать полученные результаты нам удалось вычленить ряд разнообразных, постоянно встречающихся феноменов, что позволило создать серию внутренних стандартов для сравнения, оснований для понимания того, что происходит. Такое совсем нередко встречается в клиническом исследовании.
Возьмем следующий пример: <<Почему облака двигаются?» — этот вопрос Пиаже задавал множеству детей (Piaget, 1930). И когда они отвечали, он мог свободно задавать дальнейшие вопросы, тем самым прослеживая азы их мышления и ранней способности к суждению.
Он не загонял себя в рамки стандартного набора вопросов в интересах максимальной объективности. Но, с другой стороны, он и не следовал свободно за ребенком в любом направлении, куда направлялся его разум. Если ребенок менял тему, чтобы обсудить что-нибудь еще, что не было релевантным, Пиаже замечал этот процесс сам по себе, но это было не то же самое, что попытка проследить основы возникновения у ребенка этих идей как делается в аналитической работе, где ребенок предается свободному ассоциированию. Свободное и гибкое исследование в умеренно жестких феноменологических границах— вот что характеризует «клинический метод» Пиаже (Piaget, 1929а).
Преимущество такого подхода к изучаемым феноменам состоит в следующем: клинический исследователь при помощи своих повторных наблюдений развивает интернализированный ряд стандартов, относительно которых он сможет измерять реакции каждого испытуемого. Он создает концепцию классификации и вариабельности, иногда включающую последовательности развития или условия определенных индивидуальных идиосинкратических реакций в рамках определенного феномена.
Прованс и Липтон (Provence, Lipton, 1962), наблюдающие за маленькими детьми в лечебных учреждениях, также проводят подобную работу. Эти авторы изучали развитие детей в «стерильной» (в обоих смыслах слова — чистой и гигиеничной, но дегуманизированной) окружающей среде и фиксировали
348
отклонения развития, которые случались при частичном выздоровлении этих детей по возвращении домой. Их техники использовались для повторного наблюдения феноменов, имевшихся у отдельных детей на каждом этапе развития в этом особом окружении. Их наблюдения были, с одной стороны, полностью открытыми, и включали в себя все явления, доступные уху и глазу. При этом они были выполнены посредством полуструктурированного тестирования и процедур наблюдения. Однако именно повторяющиеся наблюдения позволили исследователям заметить регулярность в природе дефектов развития у таких детей; узнать, что у них развиваются отдельные аппаратные способности (в том смысле, что они физически доступны ребенку), но не помогают им в адаптации, если отсутствует мать, организующая развитие ребенка и стимулирующая его; заметить и доступно описать разнообразное влияние такого опыта в целом на конкретные эго-функции и т. п. Сходным образом цель наших методов сбора и анализа данных заключалась в получении возможности для повторных наблюдений разнообразными, но до некоторой степени фиксированными способами в границах рассмотрения каждого отдельного феномена.
Приведем еще один пример, на этот раз из опубликованной работы одного из наших соавторов (Pine, 1970). В ходе лонгитюдного изучения развития «среднестатистических» (или не проходивших специального отбора) детей имелась возможность исследования небольшого и часто не замечаемого элемента поведения у ребенка в момент, когда тот сталкивается с возникновением, с одной стороны, скопофилических, а с другой стороны, анальных импульсов. Ситуации сводились к следующему: имелись подобные мозаике наборы процедур, включающие определенные возбуждающие стимулы как часть материалов, с которыми ребенку приходится работать, и проводились разговоры с матерью о поведении ребенка дома, когда приходится иметь дело с относительно естественными ситуациями, которые возникают по поводу одевания и раздевания или процедуры туалета. Имея возможность наблюдать поведение более тридцати детей в таких условиях, исследователи отметили ряд закономерностей, которые, однако, были побочными по отношению к первоначальным целям данных процедур. И тем не менее повторяющееся наблюдение одних и тех же явлений привело к открытию закономерностей и вариаций по теме, которые в другом случае остались бы незамеченными. Эти закономерности могли пониматься в терминах мультифункциональных аспектов поведения, которым ребенок реагирует на эти стимулы. Ребенок развивает, т. е. медленно и автоматически «конструирует>>, поведение, в котором удовлетворение может откладываться, в то время как тревога полностью минимизируется в соответствии с запретами и возможностями его особенного семейного окружения. Эти и другие формулировки, сходным образом полученные относительно ситуаций сепарации, детально описаны в другом месте (Pine, 1970, 1971). Работа М. С. Малер по проблемам симбиоза и отдельности с годами также способствовала организации повторяющихся и в то же время кажущихся бесконечно вариабельными наблюдений за конкретными проявлениями человеческого поведения — наблюдений, описанных в данной книге.
В связи со сложностью нашего исследования и тонкостью изучаемых клинических явлений, а также в связи с нашим желанием последовательно валидизировать выявленные феномены вся работа была выполнена нами совместно с группой сотрудников, которые были не только хорошо подготовлены, но также достаточно опытны в клинической работе и имели теоретические знания о процессе сепарации-индивидуации. Наше принятое несколько лет назад решение работать с таким сплоченным и опытным персоналом, даже рискуя быть предвзятыми относительно выводов исследования, казалось нам соответствующим сложности изучаемых феноменов (и необходимости поддерживать эмпатичные отношения с матерями и детьми) и не помешало нам расширить и во многих аспектах видоизменить разрабатываемые нами понятия.
НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
о мере того как на протяжении более чем десяти лет изменялся и эволюционировал сеттинг нашего исследования (например, появилась дополнительная комната для старших тоддлеров, произошел переезд в новое помещение), то же происходило и с нашими усилиями по организации собранных данных. Но вся последовательность изменений не может быть описана линейно. Весь процесс в целом подразумевал органичное развитие; старые подходы использовались вновь в измененном виде, в то же время многие константы оставались неизменными на протяжении всего процесса. Таким образом, в течение всего этого времени в нашей работе преобладала клиническая ориентация на открытость изменениям, а наблюдатель выступал в роли агента, интегрирующего поток наблюдаемых явлений. К тому же на всех этапах работы мы делали попытки классифицировать наблюдения по одному или другому ряду областей, что по той или иной причине (в зависимости от этапа исследования) в то время нам казалось особенно важным.
Что на самом деле развивалось линейно, так это следующее: (а) прогрессивное формирование и видоизменение основ исследования (см. приложение В); (б) постоянное прояснение оснований для выбора классификационных категорий (эти основания все больше соответствовали нашим развивающимся формулировкам о процессе сепарации-индивидуации); (в) возрастающая тенденция организовывать данные в терминах временных последовательностей для осуществления сравнительного изучения всех детей данного месяца в том, что касается их развития, и сравнения каждого ребенка с самим собой во времени; (г) с созданием после 1963 г. более ясных и полных формулировок относительно субфаз процесса сепарации-индивидуации (см.: Mahler, 1965b), возможность продвинуть анализ данных, сделав его более специфичным относительно этих субфаз (см. раздел <<Ориентирующие вопросы>>). В отношении этого последнего пункта было начато семилетнее исследование в 1963 г. (вслед за несколькими более ранними годами работы по процессу сепарации-индивидуации) с целью верификации, модификации и усовершенствования гипотез о субфазах. В этот момент д-р Мануэль Фюрер взял на себя руководство клиникой для детей с симбиотическими психозами совместно с М. С. Малер, выполняющей обязанности ведущего исследователя проекта по изучению фазы нормальной сепарации-индивидуации.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Как уже было замечено, в нашем исследовании с самого начала преобладала клиническая ориентация на принятие изменений, наряду с усилиями по классификации наблюдений по категориям. К тому же первоначально у нас имелись планы по оцениванию ряда переменных (болевых и сенсорных порогов, толерантности к фрустрации, средств коммуникации, последовательности поведения, выражения эмоций, склонности к активности/пассивности, автономии/независимости, дифференциации и избирательности и т. д.), которые частично вытекали из нашей заинтересованности в симбиотическом психозе, частично — из нашего понимания того, что является центральным в нормальном развитии ребенка, а частично — из весьма обобщенного подхода к сбору данных. Некоторые из этих переменных в нашем представлении являются центральными, некоторые нет.
352
Рейтинги поведения[67]
Начиная приблизительно с третьего года исследования (1961) мы стали применять некоторые подходы с использованием стандартизированных, количественных классификаций разного рода на основе наших более ранних клинических наблюдений; классифицируемые переменные были сформулированы в процессе изучения записей наблюдений. В конце концов, мы сочли такие процедуры недостаточно продуктивными для осуществления специфических «изысканий»; их постоянная ценность для нас заключалась скорее в самих формулировках: нам требовалось установить связи наших понятий с наблюдениями; они помогали нам развить более точный язык, подходящий для изучаемых феноменов; и на личностном уровне они являлись базовым принципом, благодаря которому для клинически опытных специалистов и персонала открывалась возможность более систематически проводить сбор данных и анализ теми способами, которые все еще кажутся клинически жизнеспособными, идти теми путями, которые и привели к написанию настоящей книги.
Наша первая попытка заключалась в создании того, что мы назвали «рейтингами поведения». При нашем изначально общем подходе все нормальные тоддлеры и их матери наблюдались и ранжировались по 58 переменным внешними наблюдателями, работающими в парах. Переменные отбирались по более ранним клиническим записям. Пара наблюдателей проводила серию из трех получасовых наблюдений за каждым ребенком, после чего они присваивали ребенку рейтинг по каждой переменной. Через несколько месяцев, когда ребенок становился старше, серии из трех наблюдений повторялись, чтобы произвести оценку перемен в ходе развития. Предварительный обзор этих рейтингов показал великолепную межклассификационную надежность, и по предварительному анализу данных можно было предположить, что в рейтингах отражались существенные аспекты индивидуальных взаимодействий «мать—дитя».
Что это были за переменные? Одна серия отражала развитие объектных отношений: реакцию ребенка на свою мать, на других взрослых, других детей и неодушевленные объекты. Это включало количество времени, которое ребенок поводил со своей матерью, пространственную позицию в отношениях с ней и предпочитаемую сенсорную модальность коммуникации матери и ребенка. Мы также изучали количество и качество материнских попыток успокоить ребенка и восприятие этого ребенком, спектр успокаивающего поведения, доступный матери в ее контактах с ребенком, и степень манипулятивности ее действий. Оценивалась природа обращений ребенка к матери за успокоением и степень, в которой он мог их продолжать в случае, если мать медлила с ответом. В целом мы изучали разнообразные формы обращений и контакта между матерью и ребенком в ходе прохождения ими процесса сепарации-индивидуации.
Вторая серия переменных была выбрана по записям наших включенных и внешних наблюдателей и впечатлениям, связанным с развитием тех эго-функций, которые потенциально могли свидетельствовать о ходе сепарации-индивидуации. К ним относились сигнализирующие коммуникации и моторные функции. Первые из них отражают коммуникационные процессы, необходимые для поддержания контакта между матерью и ребенком, даже когда ребенок уже в достаточной степени отделяется от матери. Наш интерес ко вторым (моторное развитие) изначально имел в своей основе гипотезу М. С. Малер (Mahler, 1958b) о быстром развитии локомоции, которая, опережая эмоциональную готовность ребенка к сепарации, может быть триггером, ведущим к симбиотической психотической фрагментации Эго. Переменные, имеющие отношение к коммуникативной активности, включали развитие способа использования рта, начиная с аутоэротического и до коммуникативного, а так же показатели развития речи. По последним мы проверяли, например, специфичность коммуникаций
з 54
ребенка и способы, которыми такая коммуникация использовалась для обращения к матери. Также изучалось моторное поведение и двигательные паттерны (связанные с сепарацией от матери, с освоением окружающей среды и плавностью моторики) (ср. Homburger, 1923).
Все эти пункты, связанные с интеракциями мать—дитя и развитием ребенка, были переведены в конкретные описательные категории, которые затем оценивались. Например, один пункт был озаглавлен «Сфокусированность в моторном поведении>>. Оценивающего просили определить, было ли моторное поведение ребенка (1) обычно бесцельным и редко направленным на цель, (2) скорее бесцельным, нежели целеориентированным, (З) значительно более целеориентированным, чем бесцельным, или (4) как правило, целеориентированным и редко бесцельным. В другой категории, обозначенной как «способность вызывать материнскую реакцию», когда ребенок желает или нуждается в реакции от матери или ее заместителя, а мать не распознает его потребность немедленно, оценивающего просили определить, может ли ребенок все-таки вызвать ее реакцию (1) каждый раз, (2) часто, но не всегда, (З) редко, (4) никогда или практически никогда. Главный план по анализу этих данных состоял в оценивании индивидуальных паттернов отношений «мать—дитя» и установлении корреляций между особенностями этих паттернов и развитием эго-функций и степенью их интеграции у ребенка.
Некоторые вызывающие интерес ранние открытия по результатам количественного анализа этих рейтингов приведены в работах Пайна и Фюрера (Pine, Furer, 1963) и Пайна (Pine, 1964). Тем не менее возник ряд сложностей, требующих обдумывания. Как станет очевидно в последующем обсуждении, эта исследовательская стратегия имела тот недостаток, что давала слишком много и одновременно слишком мало конкретики, для обеспечения которой и были созданы эти рейтинги.
Когда мы впервые столкнулись с задачей определить, как собирать сравнительные наблюдения и описания по всем детям, изначально мы обдумывали возможность фиксировать
описания отдельных видов поведения, а затем каким-то образом измерять их количественно в целях сравнения. Вскоре стало очевидно, что нам нужно более конкретно определить «отдельные виды» поведения, которые необходимо было наблюдать. И мы перешли к проблеме определения. В чем заключается единица поведенческой последовательности, когда она начинается и заканчивается? Практически сбор расширенных описаний, которые впоследствии кодируются и ранжируются, не удовлетворял временным и финансовым требованиям. В связи с этим мы приняли вышеописанную систему с описаниями поведенческих возможностей (выведенных из наших прошлых наблюдений и клинического опыта) и с прямой классификацией детей производящим оценку (посредством простой сверки с первичными описаниями, а не фиксации в деталях наблюдаемого поведения). Мы планировали, что описательный материал, которого здесь не хватало, возникнет в результате клинической работы. Но такие первичные описания, которые использовались в категориях в то время, не подходили ни к одному ребенку из групп, изучаемых позднее. Сотрудники, занимавшиеся ранжированием детей, пытались сделать что-нибудь с категориями, часто переводя их в менее специфичные, и в результате категории не всегда адекватно отражали различия детей. К тому же некоторые подклассы внутри категорий были просто слишком общи и включали все случаи, не позволяя провести классификацию по остальным трем позициям шкал.
С другой стороны, описания категорий часто были не настолько конкретны, чтобы каждый оценивающий мог учесть небольшую разницу в поведении, классифицируя того или иного ребенка. Стало однозначно очевидно, что чем больше категории классификации объясняются в терминах наблюдаемого поведения, тем выше единство мнений у оценивающих. Таким образом, мы обнаружили, что значительно проще работать с описаниями моторных паттернов, чем с предполагаемыми реакциями ребенка на внутренние телесные процессы или развитием образа тела.
На середине сбора данных мы исключили те категории, которые не позволяли оценивающим уловить различия между детьми и относительно которых надежность согласования оценок была низка (когда оценивающие не могли согласиться друг с другом относительно того, каким был ребенок). Отказ от самых неудачных категорий по всем этим соображениям означал удаление около одной четверти из изначальных 58 категорий. Мы продолжали работу с оставшимися.
Удаление неудачных категорий никоим образом не решило все наши проблемы; быстрые перемены в ходе развития, которые происходили у нормальных тоддлеров, создали новые. Мы не можем сфотографировать ребенка, если он не будет спокойно стоять. А спокойно он стоять не будет. Новые перемены в развитии происходят постоянно, и вариации от момента к моменту даже в течение суток (скажем, усталость или голод) велики. Движущиеся картинки — да, но фотография — нет. А процедура классифицирования была относительно статической. Она не могла отразить все эти мгновенные перемены и динамику изменений. Мы стали проводить наблюдения и процедуру оценки чаще (дважды в месяц, в пределах возможностей нашего персонала), но даже это принесло не более чем серию относительно статических описаний ребенка, и мы постепенно заменили их наблюдениями по специфическим областям нашего интереса и скоординированными данными от включенных и внешних наблюдателей.
В то время как в клинической работе сбор информации и совершение открытий тесно связаны во времени, в классифицировании поведения и последующем корреляционном анализе эти два аспекта разнесены. Когда в исследовании участвует дюжина детей в возрасте от одного до трех лет, имеется большой временной промежуток между конкретной классификацией и финальным корреляционным анализом, выполненным тогда, когда все данные собраны вместе. В некоторых исследовательских сеттингах такая отсрочка не вызывает затруднений, однако для нас она представляла проблему, поскольку это делало затруднительным сравнение количественных результатов с клиническими событиями в любой конкретный момент. Наше исследование, базирующееся, как мы надеялись, на взаимном обогащении между клиническими и количественными процедурами, не всегда оказывалось таким однозначно плодотворным, поскольку для соблюдения формата исследования требовалась временная задержка. Клинические и количественные данные могли бы взаимно обогатить друг друга позднее, когда весь анализ был бы завершен; но вместо ожидания этого мы пытались сблизить клиническое и количественное направления работы — посредством письменных описаний наблюдаемых феноменов, которые служили основой для классификаций — с большей степенью успеха; но, в конце концов, мы перешли на все еще систематические, но не количественные подходы.
Ради исторического интереса стоит отметить один из таких побочных подходов. Те классификации поведения, которые были признаны неудачными, поскольку не соответствовали ритму развития младенца-тоддлера, были сформулированы до того, как мы развили концепцию субфаз. Подобно тому, как на более поздних этапах исследования явные методологические проблемы вели нас к новым инсайтам, несоответствие этих поведенческих категорий процессу развития внесло свой вклад в формулирование концепции субфаз в тот конкретный момент времени.
Сравнительные наблюдения за Детьми в процессе индивидуации в присутствии и в отсутствие матери
Еще одно средство изучения с использованием фиксированных категорий подразумевало процедуру эксперимента и наблюдения. Мы наблюдали и оценивали уровень функционирования детей, научившихся ходить, в то время, когда их матери присутствовали и когда отсутствовали. Нас интересовало, в какой степени определенные достижения поддерживались детьми в отсутствие матери. У кого из детей эго-функционирование не нарушалось с уходом матери и в каких областях? Здесь посредством кратких разлучений ребенка с матерью мы надеялись изучить зависимость функционирования ребенка от физического присутствия матери.
Мы оценивали шесть областей: игра, объем внимания, понимание и использование языка, грубая и тонкая моторика. Оценивающих попросили определить, был ли уровень функционирования в каждой из этих областей выше или ниже в присутствии матери, чем в ее отсутствие, соответственно критериям, которые указывались в руководстве по классификации. Если такие перемены в функционировании обнаруживались в отсутствие матери, нам также необходимо было привлечь наш клинический материал, чтобы их объяснить. В соответствии с этими шестью областями подбирались тесты по развитию, которые должны были помочь нам понять, сохраняются ли в отсутствие матери лучше те функции, которые были развиты до более высокого уровня, нежели те, которыми ребенок овладел не в таком совершенстве.
Эта работа изначально была организована как попытка создать относительно компактную и в то же время выразительную экспериментальную ситуацию — переменной являлось только присутствие матери и масштаб изменений в реакции тоддлера (предположительно связанный с присутствием или отсутствием матери). Однако проблема с маленькими детьми и младшими тоддлерами заключалась в том, что как только мать оказывалась за пределами комнаты, матери других детей и включенные наблюдатели часто значительно изменяли свой способ обращения с ребенком. Они становились более внимательными и заботящимися, т. е., по сути, перенимали материнские функции. Таким образом, это влияло на поведение ребенка больше, чем присутствие матери, и было трудно предполагать специфические перемены в тоддлере исключительно по исследуемой нами причине. Но несмотря на это благодаря данному методу были сделаны некоторые интересные наблюдения, которые были относительно соизмеримы у всех детей.
У нормальных тоддлеров, например, в отсутствие матери поведение не только ухудшалось, но также улучшалось в некоторых видах функционирования. Кроме того, происходили перемены в качестве их функционирования. Все это зависело от субфазы, на которой находился ребенок, от его отношений с матерью и от его врожденных задатков. В любом случае имелось предположение, что функционирование ребенка не было еще автономным, но его улучшение или ухудшение зависело от матери. Таким образом, один ребенок — тот, чье моторное (локомоторное) поведение было высоко развито для его возраста и чья мать всегда поощряла и хвалила его за такое поведение, — снижал уровень своего функционирования, когда мать отсутствовала. Этот ребенок всегда доставлял ей удовольствие, хорошо выполняя то, что она хотела от него, но такое исполнение все еще казалось зависимым до некоторой степени от ее присутствия. В какой же момент моторные навыки делались настолько автономными, чтобы сохраняться даже в отсутствие матери?
Другой ребенок, напротив, имел моторный паттерн, который заключался в бесцельных блужданиях; он часто и больно падал, но не хныкал. Его мать часто предпочитала не вмешиваться, отказываясь его фрустрировать, пренебрегая необходимостью с самого начала следить за работой его кишечника и мочевого пузыря, игнорируя его множественные тяжелые падения. Его бесцельному моторному поведению, казалось, не хватало внутренней направленности так же, как и руководства со стороны матери. Но это поведение также казалось связанным с физическим присутствием матери; в ее отсутствие уровень его моторного поведения повышался: например, он меньше падал и становился более целеориентированным. Такая тесная связь между моторным функционированием и его отношением к матери, возможно, предвосхищала грядущее улучшение в моторном функционировании, которое произошло, когда отношения мать—дитя изменились. Когда у ребенка развилась речь и мать смогла использовать это средство коммуникации, чтобы обеспечить более сфокусированную и организованную заботу, ребенок продемонстрировал успехи в развитии не только в вербальной области, но также и в моторной сфере.
Рейтинги матерей
В дополнение к этим относительно усовершенствованным планам исследования мы создали относительно простую процедуру оценивания каждой матери по ряду переменных, которые в большей или меньшей степени отражали их склонность (как по отношению к ребенку, так и к себе самой) поощрять или демонстрировать (1) инфантильное, (2) соответствующее возрасту, независимое или (З) преждевременное псевдонезависимое поведение.
Несмотря на тщательное планирование и усилия, которые мы вложили в эти формальные схемы классификации, при практическом применении они приводили к множественным методологическим трудностям, о которых мы уже упоминали, и часто оказывались не соответствующими широкому процессу клинического исследования. Они определенно способствовали продвижению в нашей работе, но, как отмечалось в нашем обсуждении основ исследования, этот вклад в основном ощущался в том, что касалось процесса конкретизации или установления связей между понятиями и наблюдением, выделения переменных — всего того, что было характерно для формулирования стратегий исследования как таковых. Продолжая применять подход клинических наблюдений, мы обратились к иным формам систематизации данных, которые мы теперь опишем.
Начиная с 1963 г. (после того, как М. С. Малер предварительно сформулировала теорию субфаз), когда на основании наблюдений и результатов групповых встреч и исследовательских совещаний были созданы относительно ясные и усовершенствованные формулировки по серии субфаз процесса сепарации-индивидуации (см.: Mahler, 1963), мы начали разрабатывать процедуру организации систематического анализа клинических данных соответственно субфазам.
То, что появилось после ряда собраний, периодов душевных терзаний и изучения собранных данных и актуальных наблюдений, вылилось в создание в 1964 и 1965 гг. «ориентирующих вопросов».
ОРИЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
Эти вопросы были задуманы, чтобы сориентировать наш опытный клинический персонал при пересмотре старых записей наблюдения. В то время как наши наблюдения первоначально не выполнялись в расчете на эти вопросы (на самом деле, такого и быть не могло, поскольку источником создания этих вопросов и послужили сами исследования как таковые), обширность наших разнообразных записей наблюдения сделала для нас возможным обратиться к ним с новыми вопросами, интересуясь, соответственно, что из этих наблюдений можно было извлечь с точки зрения этих по-новому сформулированных организующих вопросов.
С целью упрощения обсуждения этих вопросов мы хотим вкратце еще раз перечислить субфазы процесса сепарации-индивидуации (см. часть II) и обозначить их возрастные границы:
1) субфаза Дифференциации — начиная с пятого месяца (с зарождающимся восприятием отдельности);
2) основной рывок в сторону автономии, называемый субфазой практикования, — с 10-го по 15-й месяцы (ребенок увлечен своими моторными достижениями и как будто почти не обращает внимания на мать);
З) субфаза воссоединения —с 15-го по 22-й месяц (вновь с требовательным отношением к матери, которая все больше воспринимается как отдельный человек, и с продолжающимся развитием автономного эго-аппарата);
4) движение в сторону постепенного приобретения константности либидинального объекта (с 22-го по 36-й месяц).
На наших совещаниях по вопросам исследования мы пришли к тому, чтобы использовать четыре критерия для ориентировки в создании и выборе вопросов. Каждый такой вопрос должен был: (1) быть релевантным всем четырем субфазам процесса сепарации-индивидуации, а не сфокусирован, скажем, на одном конкретном событии единственной субфазы;
(2) указывать на данные, способные опровергнуть, видоизменить или подтвердить нашу нынешнюю точку зрения на субфазы (например, мы искали явления на предыдущей или последующей субфазе, которые, как мы полагали, особенно хорошо характеризовали отличия); (З) обладать множественным теоретическим подтекстом (так, чтобы, выполняя огромную задачу анализа данных, мы имели бы больше возможностей собрать какой-либо теоретический урожай); и (4) быть сформулирован таким образом, чтобы требовалось минимальное умозаключение со стороны исследователя, который собирается вернуться к данным, чтобы отобрать и суммировать события по каждому вопросу. Мы сформулировали девять ориентирующих вопросов.
Наш метод организации данных заключался в следующем: каждый сотрудник вновь обращался к записям, начиная с самых ранних и до последних месяцев, ко всему, что было накоплено по каждому ребенку, помня девять ориентирующих вопросов, с инструкцией отобрать и суммировать данные, релевантные каждому вопросу. Мы сочли, что будет крайне желательно, чтобы каждый сотрудник фокусировался только на одном вопросе, применяя его к данным по всем детям всех возрастов; этот сотрудник становился как бы «экспертом» в этом единственном вопросе и мог в связи с этим подходить с более или менее общими стандартами к данным по всем детям. Но нехватка времени сделала это невозможным. От каждого работника потребовалось бы проходить по всем записям по всем детям (с целью категоризировать каждого ребенка по какому-либо одному ориентирующему вопросу). Так что вместо этого мы передали записи по каждому ребенку одному работнику, который затем разбирался со всеми девятью вопросами по этому одному ребенку. Результатом стали данные по какому-либо одному вопросу, которые были собраны несколькими разными сотрудниками, каждый из которых работал с записями по своей отдельной диаде «мать—дитя». При такой форме обработки у сотрудников ушел приблизительно один год на выполнение сортировки данных по детям в возрасте от пяти до двадцати четырех месяцев.
Обработка данных выполнялась на основе материалов по каждому
месяцу. В конце, следовательно, мы сделали записи по каждому вопросу и по
каждому ребенку на каждом месяце его жизни и могли проводить перекрестные
сравнения по детям по любому вопросу и возрасту или последовательные сравнения
по одному и тому же ребенку с течением времени. Работников просили отобрать
основной релевантный материал в краткой форме (две или три страницы практически
по целому месяцу) и вывести краткие <<ключевые утвержде![]() в которых
суммировались бы центральные характеристики данных по этому вопросу по каждой
диаде«мать—дитя>> в определенное время[68] .
Эти ключевые утверждения были отображены в форме диаграммы для простоты
визуального сравнения детей.
в которых
суммировались бы центральные характеристики данных по этому вопросу по каждой
диаде«мать—дитя>> в определенное время[68] .
Эти ключевые утверждения были отображены в форме диаграммы для простоты
визуального сравнения детей.
Целью этой процедуры было сокращение наших обширных данных до удобных для работы форм, но сокращение в соответствии с теоретическими ориентирами, которые обеспечили бы нам возможность вновь наблюдать некоторые повторения в определенной порции данных, чтобы мы смогли развить более ясный набор ожиданий, стандарты сравнения и клинически ознакомиться с отдельными феноменами. Результаты этой работы отражены в нашем обсуждении субфаз в части II. Ниже перечислены девять ориентирующих вопросов:
1. Приближение-дистанцирование. Каковы характеристики паттернов приближения-дистанцирования в диаде «мать— дитя» и предпочитаемая «средняя дистанция» в этот временной период? Отметьте соответствие друг другу членов диады в этом отношении. Рассмотрите поведенческие индикаторы, такие как движения тела и глаз, реакция улыбки и ответ матери, речь и другая вокализация. Рассмотрите также внутрипсихическое приближение-дистанцирование, в частности сон и эмоциональную доступность матери.
Этот вопрос, сформулированный в основном в терминах тела и поведения, относится к внутрипсихическому процессу осознавания своей отдельности. В терминах наблюдения за поведением он явно связан с постоянными попытками ребенка уйти (toddling — ковыляние, что дает название этому периоДУ) от матери на второй субфазе (практикования) и следования за ней на третьей (воссоединение), но также подходит для оценки феноменов дистанцирования на первой субфазе (дифференциация).
Например, нас интересовала склонность ребенка прижаться к телу матери и изменение этого паттерна, поскольку дифференцирующийся ребенок отклоняется от тела держащей его матери, чувствуя отдельность своего собственного тела и сканируя «отличный-от-матери» мир; спонтанные игры в «ку-ку» в этот период и исследование ребенком лица матери также отражают поведения приближения и удаления. Вопрос также сфокусировал наше внимание на том, кто в каждом конкретном случае инициирует большее или меньшее дистанцирование — мать или ребенок, и на том, как это взаимосвязано с с уровнем и успешностью его индивидуации. «Соответствие» матери и ребенка в этом вопросе отправляет нас к возможным последствиям: внутридиадному конфликту, патологической аккомодации или соответствующей возрасту реципрокности. Поведенческие показатели, список которых мы приводим в вопросе, делают понятным наш широкий взгляд на спектр поведения, при помощи которого может быть завершено или преодолено дистанцирование на различных субфазах.
2. Недавно обретенные функции Эго. Как ребенок использует и как относится к своим недавно возникшим способностям: локомоции, мануальным навыкам, речи, сенсорному функционированию, сканированию (матери и «другого», визуально и посредством контактно-перцептивных модальностей) и другим когнитивным возможностям (такие как предвосхищение, суждение и т. д.)? Заметьте сбалансированность новых функций (сохранность, регрессия), сопровождающих аффект, и установку матери по отношению к этому.
Этот вопрос появился благодаря нашему интересу к полной поглощенности ребенка своим моторным функционированием, когда он впервые учится ходить, — поглощенности, которая в течение нескольких месяцев даже перекрывает его интерес к матери. Вопрос прежде всего предполагал выяснение отношения ребенка к новым возникающим функциям на других этапах (когда они не настолько ослабляют интерес к матери — например, развитие речи, как правило, происходит в тесном взаимодействии с ней), так же как и изучение естественного развития этих способностей, являющихся кирпичиками, из которых должна быть простроена любая развивающаяся индивидуальность. Ссылка на сбалансированность нового функционирования (и его тенденцию к регрессии), аффект ребенка и материнское отношение к этому указывает на ожидание нами того, что эти способности развиваются на почве отношений мать — дитя и зависят от материнского интереса и невмешательства в их относительно бесконфликтное развитие. Это отражает наш продолжающийся интерес к тому, что было описано в предыдущем разделе (оценивание детей в присутствии или отсутствии матери) — уже в видоизмененных исследовательских рамках.
З. Предпочитаемые модальности. Какие модальности — сенсорные, моторные, вокальные или какие-либо другие — ребенок предпочитает, а какие избегает в тот или иной период? Опишите таковые с указанием замеченных видов поведения (экспрессивное, исследовательское, ослабляющее напряжение, поведение, направленное на совладание с проблемой). Отметьте сходства и различия в предпочитаемых модальностях в этих нескольких областях. Отметьте также их соответствие модальностям матери (ср. с вопросом 8) и выражаемому ею (явно или скрыто) поощрению или непоощрению отдельных модальностей.
Наш первоначальный интерес к этому вопросу связан с интересом к детской индивидуации. Степень, в которой предпочитаемая модальность отличается от материнской или используется по-другому, как мы полагали, должна давать ключ к пониманию основ индивидуированной личности. Помимо этого вопрос подразумевал фокусировку на развитии предпочитаемых ребенком модальностей относительно предпочитаемых модальностей матери и их использовании в системе
функциональных взаимосвязанных материнско-детских видов поведения (идентификации и интернализации).
Наш интерес к этому вопросу вытекал из изучения девиантного развития различных модальностей (с атрофией, вычурным или причудливым использованием или сверхзависимостью) у детей с симбиотическими психозами (ср. Bergman, Escalona, 1949).
4. Переживание Дистресса и удовольствия. Каковы наиболее приятные и вызывающие наиболее сильный дистресс переживания для ребенка в это время? Опишите ситуации, в которых переживание дистресса или удовольствия очевидно или с которым таковые обычно ассоциируются, и укажите их специфическое аффективное сопровождение. для каждого возраста отметьте также степень дистресса, связанного с переживанием пассивной сепарации (даже если таковые не являются основными источниками дистресса).
Этот вопрос имел своей целью предоставить нам материал, чтобы оценить, насколько сильный дистресс на той или иной субфазе вызывало переживание сепарации и/или осознания отделенности, и, наоборот, в какой степени контакт с матерью или, напротив, активное дистанцирование от матери являлось центральным источником удовольствия (противоположного упражнению приобретенных функций, игре с игрушками, взаимодействию с другими, не с матерью). Мы уже понимали, что осознавание своей отделенности должно вызывать дистресс (см. часть II), когда мы разрабатывали эти вопросы, но мы не предполагали (и не предполагаем сейчас), что такие переживания вызывают дистресс выше «средне ожидаемого», за исключением патологических ситуаций. (У нас позже развился интерес к способности ребенка к удовольствию, но он еще не был выражен, когда мы разрабатывали этот вопрос.)
5. Реактивность. Каково характерное состояние реактивности ребенка: его уровень, сохранность, лабильность, интенсивность и чрезмерность в позитивную или негативную сторону (например, впадение в сон, гиперреактивность или состояние сверхвозбужденности)? Опишите также основной фокус инвестирования и направленность внимания внутрь или вовне и на тело или части тела, мать или других, неодушевленные объекты и эго-функции или специфические паттерны активности.
Степень сосредоточенности на неодушевленных объектах, самом себе и людях, отличных от матери, по контрасту с направленностью на мать, а также способность поддерживать состояние реактивности даже в отсутствие матери различаются, как мы полагаем, на разных субфазах, это, по сути, определяющие характеристики этих субфаз. Вопрос в особенности отражает наш интерес к критериям определения, когда ребенок «вылупился» из двойственного единства мать—дитя, когда произошло психологическое рождение, что отражается в его «прислушивании» только к чему-то внутреннему или позднее в обращении своего внимания на мать, на других, на мир неодушевленных объектов.
6. Общий эмоциональный фон. Какой эмоциональный фон характерен для ребенка, принимая во внимание различные аффекты, в терминах их расположения по шкале от подавленного состояния до крайне активного? Отметьте по ней любые характерные варианты, устойчивость и сохранность эмоционального фона, быстроту колебаний настроения. Наблюдайте за индикаторами настроения по выражению лица, жестам, тону и содержанию вокализаций, по тонусу тела и уровню активности.
Когда мы впервые сформулировали этот вопрос, мы чувствовали, что настроение будет в каком-то роде индикатором осознания ребенком отдельности, а также его удовольствия или неудовольствия по этому поводу. Эмоциональный фон является также основным показателем отношения ребенка к себе и к миру. К тому же мы полагали, что эмоциональный фон — его сходство или отличие от настроения матери — укажет на индивидуацию ребенка и степень автономности его функционирования. (В настоящее время, как было подробно описано нами ранее, мы можем добавить, что важным признаком девиантного развития является несоответствие настроения ребенка ожидаемому на отдельных субфазах.)
7. Толерантность к сильным воздействиям. Какова характерная толерантность ребенка к сильным воздействиям или потенциальным сильным воздействиям изнутри и извне, включая такие источники, как внешние стимулы, физическая боль и фрустрация, давление импульсов и тревожность? Где возможно, отметьте вздрагивание, отвлекаемость, объем внимания, модуляцию импульса, выраженность нарушения гомеостаза и возврата к базовой линии поведения.
Этот вопрос больше фокусируется на проблемах индивидуации, нежели сепарации. Он отсылает нас к интрапсихическим модуляциям, которые развиваются у ребенка, что проявляется в его способности откладывать, смещать, контролировать или балансировать. По контрасту мы хотели узнать о способности ребенка полагаться на мать как на дополнительное Эго для сохранения гомеостаза и о патологическом сохранении этой способности в более поздние возрастные периоды. Этот вопрос имеет связь с более ранней работой по тикам и другим паттернам разрядки и совладания или нехватки способности совладания с инстинктивными импульсами (см.: Mahler, 1944, 1949а).
8. Сходства и отличия ребенка и матери. Каковы явные сходства и различия в поведении матери и ребенка в этот период? Отметьте в особенности совпадение эмоционального фона, темпа деятельности и темперамента, способ полагаться на отдельные эго-функции (локомоцию, сенсорные модальности, вербализацию) и социальные установки (отношение к другим людям). Отметьте любую информацию о тех механизмах, при помощи которых таковые (сходства или различия) проявляются (например, поощрение со стороны матери, негативистичные отказы ребенка).
этот вопрос снова затрагивает проблемы, рассматриваемые в вопросе З в связи с предпочитаемыми модальностями, а именно развитие у ребенка собственного, индивидуального стиля функционирования и его отношение к стилю матери. Индивидуация заключается не просто в том, чтобы стать отличным от матери. Ребенок становится самим собой по большей части посредством идентификации с матерью и другими важными людьми в его жизни. Индивидуация выражается не в отличности как таковой, но в стабильности функций внутри ребенка и соединенных с этими функциями характеристик, которые, так же как и у другого ребенка, всегда проявляются в различных паттернах по отношению к импульсам, фантазиям, формам взаимодействия и выражению контроля над позитивным и негативным аффектом.
9. Тело и Я. Каковы поведенческие индикаторы развивающегося осознания ребенком телесных границ, дифференциации, отдельности, объектной константности, чувства Я и <<быть-Я» или сексуальной идентификации в этот период?
Заметьте, что этот вопрос определен на гораздо более абстрактном уровне, чем другие, требуя более высокого уровня умозаключений от того, кто строит предположения. К этому вопросу у нас имелся существенный теоретический интерес. Мы очень надеялись обнаружить широкий спектр возможных индикаторов этих интрапсихических феноменов, которые подсказали бы нам отгадки, которые мог выдвигать наш персонал при помощи этого ориентирующего вопроса. Наблюдения за поведением перед зеркалом, за реакцией ребенка на кукол в натуральный размер, за игрой с двигающимися механическими игрушками являлись частью записанных нами данных. Все они, как и любая другая возможность или непредусмотренный показатель, записывались в разделе этого вопроса.
Таковы девять ориентирующих вопросов. Параллельно с ними мы развивали другой подход к систематической классификации сегментов большого объема собранных данных. К нему мы сейчас и обратимся.
КАТЕГОРИИ
С самого начала исследования мы пытались записывать, организовывать предыдущие записи или обсуждать наблюдения по сериям категорий. Такой выбор процедуры отражает
![]()
1 Эксперименты с зеркалами, проводимые в течение нескольких лет в рамках исследования Джона Б. Макдевитта, представляют здесь особый интерес.
наше намерение не фокусироваться на изучении индивидуальных случаев как первичных единиц синтеза данных, а скорее сосредоточиться на феноменах конкретной фазы развития, предположительно, универсально распространенных. Мы стремились выделить общие явления в наблюдениях за конкретными людьми.
Некоторые категории изменялись со временем в зависимости от наших актуальных интересов, тогда как другие оставались относительно постоянными. Поскольку категории никогда не рассматривались как попытки соблюсти рамки количественных измерений или строго экспериментального исследования, то нам не казалось неправильным изменять их по мере того, как наши суждения относительно их потенциальной пригодности менялись. Мы видели в них способ помочь нам сфокусировать наш мыслительный процесс и наши дискуссии на специфических существенных областях в отдельные моменты времени. Для нас всегда представляло огромную ценность то, что мы в течение многих лет могли удерживать в нашем исследовании подавляющую часть персонала, который мог вернуться к старым наблюдениям и извлечь из них материал, представлявший для нас интерес в тот или иной момент.
Как указывалось ранее, использование нами многих категорий продолжалось с течением времени, даже несмотря на то, что мы порой несколько изменяли их или на некоторое время отказывались от них. Это не вызывает удивления, поскольку, хотя наше понимание процесса сепарации-индивидуации изменялось и развивалось с годами, наши базовые представления о развитии ребенка оставались относительно постоянными. Категории в целом читались как есть что» в развитии ребенка, отражая наше понимание такового относительно многих разнообразных областей, которые важно знать и описать. Например, был период, когда мы работали с семнадцатью категориями: (1) кормление и оральное поведение, (2) процедуры туалета, купания и повседневный уход за телом, (З) моторное и когнитивное развитие, (4) явления сна и усталости, (5) индивидуация, (6) реакция на людей, отличных от матери и отца, (7) сепарационные реакции, (8) имитация, игра, фантазии, отношение к неодушевленным объектам, (9) коммуникация, (10) агрессия, амбивалентность и аутоагрессия, (11) реакция на боль и фрустрацию, (12) личность и поведение матери, (13) взаимодействие между матерью и ребенком, (14) различия между поведением дома и в Центре, (15) важные события в семье, (16) личность отца и других членов семьи и (17) превалирующие характеристики ребенка. Эти семнадцать категорий применялись к данным на ранней фазе работы. В то время все наблюдения за отдельный месяц распределялись по этим категориям в целях изучения. (Наблюдения «по областям» уже были описаны ранее, когда мы говорили об одной из задач на каждого внешнего наблюдателя и базировались на единичных наблюдениях по выбранным областям. Семнадцать категорий использовались для организации множественных наблюдений, собранных разными путями.)
Что изменилось по мере продвижения исследования, так это не наш базовый подход в терминах разбивки данных на более удобные в использовании категории, но (1) ясность наших соображений относительно целей изучения нами категорий и (2) степень систематизации и последующего изучения наших категорий самих по себе.
Относительно первого наши соображения были следующими: изначально наши категории отражали представления о необходимости что-либо узнать об этой области, или эта область должна была помочь нам лучше понять процесс сепарации-индивидуации. По мере того как продвигались наши клинические наблюдения и дискуссии, мы начали формулировать более четкие идеи о процессе сепарации-индивидуации и его субфазах. В этот момент в целях дальнейшего изучения мы смогли провести более тонкие концептуальные различия между категориями (которые, как нам казалось, отражали важные области развития ребенка) и самим процессом сепарации-индивидуации (который, как нам теперь кажется, мы понимали, в некоторых аспектах, как нормальный эпигенетический процесс). На том этапе мы рассматривали категории с точки зрения одного или обоих нижеперечисленных вопросов: как наше текущее понимание процесса сепарации-индивидуации прольет свет на эту основную область развития ребенка? Как наше понимание этой области в дальнейшем будет способствовать инсайтам относительно процесса сепарации-индивидуации? Мы преследовали цель изучить категории, в рамках которых, как мы полагали, мы сможем выдвинуть гипотезы в ответ на эти вопросы.
Принимая во внимание второе вышеуказанное изменение, повышение систематизации и последующее изучение задачи категоризации как таковой, мы пришли к следующему: начиная с 1967 г. мы составляли набор категорий, который систематически применяли подобно вышеописанным ориентирующим вопросам. Работа выполнялась следующим образом: используемыми данными являлись ключевые утверждения и записи, которые ежемесячно отбирались по каждому ребенку в соответствии с ориентирующими вопросами. Отбор данных происходил на основе ориентирующих вопросов, и после его завершения мы уже не должны были снова возвращаться к исходным данным и начинали собирать материал по тем четырем категориям, которые были нам особенно интересны. Таковыми являлись: (1) объектные отношения, (2) эмоциональный фон, (З) развитие либидинальных и агрессивных импульсов и (4) когнитивное развитие. Мы полагали, что эти категории дадут нам основание для того, чтобы начать увязывать друг с другом некоторые базовые области психоаналитического интереса к процессу сепарации-индивидуации по мере того, как мы углубляли его понимание.
К этому моменту объем данных был уже не столь велик, и мы смогли закрепить одну категорию за каждым из четырех сотрудников. Каждый сотрудник в таком случае становился специалистом по этой категории и в рамках ее разбирал все данные по всем детям. Данные по каждому ребенку ежемесячно обобщались (в кратких одно- или двустраничных записях), и затем составлялся отчет, в котором сравнивались все дети по данной категории в каждый отдельный месяц.
Работа с категориями стала связана со всеми нашими размышлениями по поводу процесса сепарации-индивидуации. Как и ориентирующие вопросы, они стали инструментом нашей мысли, задавали рамки процессу наших размышлений в определенные моменты исследования. Все это имплицитно представлено в наших обсуждениях в части II.
АСПЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И СИНТЕЗА
Работая индивидуально с данными наблюдений за детьми, мы не обнаруживали трудностей распределения их поведения по ряду дискретных категорий, по мере того как мы продвигались с анализом, начиная с ранних месяцев первого года до второго года жизни.
Во время анализа данных по второй половине второго жизни были сделаны два случайных наблюдения, мнения по которым в ходе исследования совпали у нескольких клинических исследователей, и это привело к формулированию новых целей работы по третьему году. В то время как эти наблюдения стали для нас неожиданными, по мере нашей работы над анализом данных они немедленно обрели смысл и заставили нас осознать, что мы двигались в тот момент к изучению нового этапа в жизни ребенка и что нам нужны новые подходы.
Прежде всего мы заметили, что данные уже не так хорошо «вписывались» для отдельных категорий. Стало все труднее описывать поведенческие моменты, не ссылаясь на все более и более общие уровни поведения, наблюдавшиеся у ребенка в отдельный период времени. Казалось, что поведение ребенка становилось все более интегрированным или, другими словами, все больше демонстрировало определенные центральные темы его жизни, и этот факт нужно было держать в уме, описывая или объясняя отдельные моменты поведения.
Второе наблюдение казалось половых различий. До этого момента дети часто попадали в различные с точки зрения сепарации-индивидуации подгруппы — подгруппы, где имелись как мальчики, так и девочки. Но теперь, с одной стороны, детей было все труднее разделять по группам из-за возрастающей сложности их психики, а с другой — те общие черты, что у них наличествовали, предположительно, имели все большее отношение к половым различиям и формированию гендерной идентичности.
Другими словами, данные по третьему году жизни требовали другого подхода не только потому, что эмоциональное, когнитивное и вербальное развитие достигло новых уровней, но также потому, что личность ребенка к этому времени становилась во многих отношениях более сформированной и интегрированной. На третьем году дети уже имели достаточно развитую речь и были заинтересованы в фантазийной игре (что требовало от нас проведения индивидуальных игровых сессий с детьми, чтобы начать их понимать). Старшие тоддлеры уделяли меньше внимания своим матерям (которых не было в комнате) и гораздо более — своему «детсадовскому воспитателю» и взаимодействию со сверстниками. Таким образом, в нашем представлении материал по третьему году был уже совсем иного рода.
Мы выдвинули три новые цели нашего исследования: (1) изучить четвертую субфазу процесса сепарации-индивидуации — постепенное достижение константности либидинального объекта — относительно индивидуального развития ребенка на предыдущих субфазах; (2) изучить ранние фазы формирования характера (или консолидации личности) на третьем году жизни; (З) изучить начало формирования гендерной идентичности на третьем году.
Заявляя эти цели, мы хотим показать, что нас интересовал третий год не только потому, что это была четвертая субфаза процесса сепарации-индивидуации (достижение константности либидинального объекта), но также потому, что он представляет собой конечный продукт первых трех субфаз и должен носить отпечаток специфического опыта и форм разрешения трудностей в ходе развития или каких-либо других по мере их появления на этих ранних субфазах. Таким образом, наш анализ уже не состоял из покатегориальных описаний, но являлся попыткой клинически концептуализировать приобретенное каждым ребенком отношение к своей матери, его чувство отдельности и идентичности и отношение к своему автономному аппарату по мере того, как все это появляется на третьем году жизни, а затем восстановить более ранние этапы процесса сепарации-индивидуации, чтобы увидеть, в каком виде они оказались представлены, увязаны друг с другом, интегрированы, пропущены или противоречили друг другу к этому третьему году.
Наблюдение, о котором упоминалось ранее, — относительно невозможности четко выделить специфические аспекты детского функционирования без ссылки на целое во второй половине второго года жизни, — может также быть выражено в терминах начала развития характера или консолидации личности. В той степени, в какой она организуется вокруг мужественности или женственности, гендерная идентичность становится центральным фокусом. То, что мы наблюдаем, по нашему мнению, является интегрированием тех сложных видов поведения, которые для каждого отдельного ребенка характеризовали предыдущие субфазы его развития (а также психосексуальные стадии и развитие агрессии), что, с одной стороны, накладывало отпечаток на индивидуацию, а с другой — на сексуальную идентичность; и, более того, эта интеграция вокруг центральных тем и форм функционирования, является началом формирования более консолидированной личностной структуры.
Наш подход состоял в том, чтобы сформулировать то, что нам было известно относительно характера и личности каждого ребенка на третьем году жизни, а затем проследить, пользуясь нашим более ранним категориальным анализом, первые два года его жизни, репрезентации, нахождение баланса, конфликты, новые значения или пропуски значимых аспектов раннего развития по мере того, как они проявлялись в его личности на третьем году жизни.
Третий год представляет особую значимость с теоретической точки зрения. Некоторые темы, которые должны быть обдуманы по мере того, как мы будем обсуждать этот период в будущем, касаются: константности Я и объектной константности, чувства идентичности, процесса интернализации и природы и производных интернализованных конфликтов вокруг либидинальных и агрессивных импульсов,
других аспектов развития Эго и обучения (например, переход от первичных к вторичным процессам, а также переход от принципа удовольствия к принципу реальности), природы игры и фантазии ребенка и его взаимодействия со сверстниками. Но все это связывает вместе именно наша сфокусированность на предшественниках актуальных субфазных явлений и интеграции личности.
Коротко говоря, этот последний подход изрядно отличался от
того, что мы делали относительно более ранних этапов жизни ребенка. Вместо того
чтобы продолжать помесячный анализ специфических категорий данных по всем
детям, мы обратились к анализу каждого отдельного ребенка и оценивали прежде
всего производные первых трех субфаз процесса сепарации-индивидуации, а затем
развитие личности в том виде, в каком оно проявляется на третьем году жизни.
Некоторые результаты этой работы отражены в представленных нами описаниях
случаев в части III, где мы прослеживали развитие детей на третьем году жизни.
Abelin, E. L. (1971). "The Role of the Father in the Separation-Individuation Process," in Separation-Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage.
New York: International Universities Press, pp. 229—253.
Abelin, E. L. (1972). "Some Further Observations and Comments on the Earliest Role of the Father." Paper read at the Margaret S. Mahler Symposium on Child Development. Philadelphia, May 1972. Unpublished.
Abraham, K. (1921). "Contributions to the Theory of the Anal Character," in Selected Papers of Karl Abraham, translated by D. Bryan and A. Strachey. New York: Basic Books, 1953, pp. 370—392.
Abraham, K. (1924). "The Influence of Oral Erotism on Character Formation," in Selected Papers ofKarl Abraham, translated by D. Bryan and A. Strachey. New York: Basic Books, 1953, pp. 393—406.
Alpert, A. (1959). "Reversibility of Pathological Fixations Associated with Maternal Deprivation in Infancy," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 14. New York: International Universities Press, pp. 169—185.
Angel, K. (1967). "On Symbiosis and Pseudosymbiosis," J. Am. Psychoanal. Assoc., 15:294—316.
Anthony, E. J. (1961). "A Study of 'Screen Sensations,"' in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 16. New York: International Universities Press, pp. 211—246.
Anthony, E. J. (1971). "Folie a Deux: A Developmental Failure in the Process of Separation-Individuation," in Separation-Individuation: Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 253-273.
Anthony, E. J. (1972). "Parenthood: Some Aspects of Its Psychology and Psychopathology." Paper read at the Margaret S. Mahler Symposium on Child Development. Philadelphia, May 1972. Unpublished. Anthony, E. J. and Benedek, T. (1970). Parenthood: Its Psychology and Psycho-pathology. Boston: Little, Brown.
Arlow, J. A. (1959). "The Structure of the Deja Vu Experience," J. Am. Psychoanal. Assoc., 7:611—631.
Bak, R. C. (1941). "Temperature-Orientation and the Overflowing of Ego Boundaries in Schizophrenia," in Schweizer Archiv. Neurol. Psychiatr., 46:158-177.
Bak, R. C. (1971). "Object Relationship in Schizophrenia and Perversion," Int. J. Psycho-Anal., 52:235-242.
Bak, R. C. (1974). "Distortions of the Concept of Fetishism," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 29. New Haven: Yale University Press, pp. 191—214.
Bakwin, H. (1942). "Loneliness in Infants," Am. J. Dis. Child., 63:30—40. Barglow, P., and Sadlow, L. (1971). "Visual Perception: Its Development and Maturation from Birth to Adulthood," J. Am. Psychoanal. Assoc., 19:433-450.
Bell, S. (1970). "The Development of a Concept of Object as Related to Infant-Mother Attachment," Child Dev., 41:291—311.
Benedek, T. (1938). "Adaptation to Reality in Early Infancy," Psychoanal. Q., 7:200-214.
Benedek, T. (1949). "The Psychosomatic Implications of the Primary Unit: Mother-Child," Am. J. Orthopsychiatry, 19:642—654.
Benedek, T. (1959). "Parenthood as a Developmental Phase: A Contribution to the Libido Theory," J. Am. Psychoanal. Assoc., 7:389—417. Benedek, T. (1960). "The Organization of the Reproductive Drive," Int. J. Psycho-Anal., 41:1—15.
Benjamin, J. D. (1950). "Methodological Considerations in the Validation and Elaboration of Psychoanalytical Personality Theory," Am. J. Orthopsychiatry, 20:139—156.
Benjamin, J. D. (1961). "The Innate and the Experiential in Child Development," in Lectures on Experimental Psychiatry, edited by H. Brosin. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 19—42.
Bergman, A. (1971). '"I and You': The Separation-Individuation Process in the Treatment of a Symbiotic Child," in Separation-Individuation:
IICHXOJIOPW-IECKOE I-IEJIOBE I-IECKOPO
Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 325-355.
Bergman, P., and Escalona, S. K. (1949). "Unusual Sensitivities in Very Young Children," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 3/4. New York: International Universities Press, pp. 333—352.
Bergmann, M. (1963). "The Place of Paul Federn's Ego Psychology in Psychoanalytic Metapsychology," J. Am. Psychoanal. Assoc., 11:97-116.
Bibring, E. (1953). "The Mechanism of Depression," in Affective Disorders, edited by P. Greenacre. New York: International Universities Press, pp. 13—48.
Blanck, G. , and Blanck, R. (1972). "Toward a Psychoanalytic Developmental Psychology," J. Am. Psychoanal. Assoc., 20:668— 710.
Blanck, G. , and Blanck, R. (1974). Frontiers of Psychotherapy, New York: Columbia University Press.
Bonnard, A. (1958). "Pre-Body-Ego Types of (Pathological) Mental Functioning," J. Am. Psychoanal. Assoc., 6:581—611.
Bornstein, B. (1945). "Clinical Notes on Child Analysis," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 1. New York: International Universities Press, pp. 151—166.
Bouvet, M. (1958). "Technical Variations and the Concept of Distance," Int. J. Psycho-Anal., 39:211-221.
Bowlby, J. (1958). "The Nature of the Child's Tie to the Mother," Int.
J. Psycho-Anal., 39:350-373.
Bowlby, J., Robertson, J., and Rosenbluth, D. (1952). "A Two-year-Old Goes to Hospital," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 7. New York: International Universities Press, pp. 82—94.
Brody, S., and Axelrad, S. (1966). "Anxiety, Socialization, and EgoFormation in Infancy," Int. J. Psycho-Anal., 47:218—229.
Brody, S. and Axelrad, S. (1970). Anxiety and Ego Formation in Infancy. New York: International University Press.
Coleman, R. W., Kris, E. , and Provence, S. (1953). "The Study of Variations of Early Parental Attitudes: A Preliminary Report," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 8. New York: International University Press, pp. 20—47.
Eissler, K. (1962). "On the Metapsychology of the Preconscious," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 17. New York: International Universities Press, pp. 9—41.
Elkisch, P. (1953). "Simultaneous Treatment of a Child and His Mother," Am. J. Psychother., 7:105-130.
Elkisch, P. (1971). "Initiating Separation-Individuation in the Simultaneous Treatment of a Child and his Mother," in SeparationIndividuation: Essays in Honorof Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 356—376.
Erickson, E. H. (1959). Identity and the Life Cycle. Psychological Issues, Monograph No. 1. New York: International Universities Press.
Escalona, S. (1968). The Roots of Individuality: Normal Patterns of Development in Infancy. Chicago: Aldine Publishing.
Fantz, R. L. (1961). "The Origin of Form Perception," Scientific American, May 1961, pp. 66—72.
Fenichel, O. (1945). Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York: Norton.
Ferenczi, S. (1913). "Stages in the Development of the Sense of Reality," in Sex in Psychoanalysis: The Selected Papers of Sandor Ferenczi, V. 1. New York: Basic Books, 1950, pp. 213-239.
Fliess, R. (1957). Erogeneity and Libido: Addenda to the Theory of the Psycho-sexual Development of the Human. New York: International Universities Press.
Fliess, R. (1961). Ego and Body Ego. New York: International Universities Press, 1972.
Fraiberg, S. (1969). "Libidinal Object Constancy and Mental Representation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 14. New York: International Universities Press, pp. 9—47.
Frank, A. (1969). "The Unrememberable and the Unforgettable: Passive Primal Repression," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 24. New York: International Universities Press, PP. 48-77.
Frankl, L. (1963). "Self-Preservation and the Development of Accident Proneness in Children and Adolescents," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 464—483.
Freud, A. (1936). The Ego and Its Mechanisms of Defense. London: Hogarth Press, 1937.
Freud, A. (1945). "Indications for Child Analysis," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 1. New York: International Universities Press, pp. 127-149.
Freud, A. (1949). "Aggression in Relation to Emotional Development:
Normal and Pathological," in The Psychoanalytic Study of the Child, Vols. 3/4. New York: International Universities Press, pp. 37—42.
Freud, A. (1951a). "Negativism and Emotional Surrender," Int. J. Psycho-Anal., 33 (1952): 265.
Freud, A. (19516). "Observations on Child Development," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 6. New York: International Universities Press, pp. 18—30. Reprinted in The Writings of Anna Freud, V. 5. New York: International Universities Press, 1969, pp. 143-162.
Freud, A. (1952). "Studies in Passivity." Part 2, "Notes on a Connection Between the States of Negativism and of Emotional Surrender," in The Writings ofAnna Freud, V. 4. New York: International Universities Press, 1968, pp. 256—259.
Freud, A. (1952). "The Mutual Influences in the Development of the Ego and Id," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 7. New York: International Universities Press, pp. 42—50.
Freud, A. (1953). "Some Remarks on Infant Observation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 8. New York: International Universities Press, pp. 9—19. Reprinted in The Writings ofAnna Freud, V. 4. New York: International Universities Press, 1968, pp. 569—585.
Freud, A. (1954). "Psychoanalysis and Education," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 9. New York: International Universities Press, pp. 9—15.
Freud, A. (1957). "The Contribution of Direct Child Observation to Psychoanalysis," in The Writings ofAnna Freud, V. 5. New York: International Universities Press, 1969, pp. 95—101.
Freud, A. (1958). "Child Observation and Prediction of Development: A Memorial Lecture in Honor of Ernst Kris," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 13. New York: International Universities Press, pp. 92—116. Reprinted in The Writings ofAnna Freud, V. 5. New York: International Universities Press, 1969, pp. 102—135.
Freud, A. (1963). "The Concept of Developmental Lines," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 245—266.
Freud, A. (1965a). "Direct Child Observation in the Service of Psychoanalytic Child Psychology," in The Writings of Anna Freud, V. 6.
New York: International Universities Press, pp. 10—24.
Freud, A. (1965b). Normality and Pathology in Childhood: Assessments of Devel opment. New York: International Universities Press.
Freud, A. (1967). "About Losing and Being Lost," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 22. New York: International Universities Press, pp. 9—19.
Freud, A. (1971). "The Infantile Neurosis: Genetic and Dynamic Considerations," in The Writings ofAnna Freud, V. 7. New York: International Universities Press, pp. 189—203.
Freud, S. (1887—1904). The Origins of Psychoanalysis: Letters to Wilhelm Fleiss, edited by M. Bonaparte, A. Freud, and E. Kris. New York: Basic Books, 1954.
Freud, S. (1895). "Project for a Scientific Psychology," in Standard Edition, V. 1, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1950, pp. 281-397.
Freud, S. (1900). "The Interpretation of Dreams," in Standard Edition, V. 4/5, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1953.
Freud, S. (1905). "Three Essays on the Theory of Sexuality," in Standard Edition, V. 7, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1953, pp. 135-243.
Freud, S. (1909). "Analysis of a Phobia in a Five-year-Old Boy," in Standard Edition, V. 10, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1955, pp. 3-149.
Freud, S. (1911). "Formulations on the Two Principles of Mental Functioning," in Standard Edition, V. 12, edited by J. Strachey, London: Hogarth Press, 1958, pp. 213—226.
Freud, S. (1914a). "Remembering, Repeating and Working Through," in Standard Edition, V. 12, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1958, pp. 145-156.
Freud, S. (19146). "On Narcissism: An Introduction," in Standard Edition, V. 14, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1967, pp. 67-102.
Freud, S. (1915a). "Instincts and Their Vicissitudes," in Standard Edition, V. 14, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1957, pp. 117-140.
Freud, S. (19156). "Mourning and Melancholia," in Standard Edition, V. 14, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1957, pp. 237-260.
Freud, S. (1920). "Beyond the Pleasure Principle," in Standard Edition, V. 18, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1955, pp. 3—64.
Freud, S. (1923). "The Ego and the Id," in Standard Edition, V. 19, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1961, pp. 3—66.
Freud, S. (1925). "Negation," in Standard Edition, V. 19, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1961, pp. 235—239.
Freud, S. (1927). "The Future of an Illusion," in Standard Edition, V. 21, edited by I. Strachey. London: Hogarth Press, 1961, pp. 5—56.
Freud, S. (1930). "Civilization and Its Discontents," in Standard Edition, V. 21, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1961, pp. 59-145.
Freud, S. (1937). "Construction in Analysis," in Standard Edition, V. 23, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1964, pp. 255—269.
Freud, S. (1940). "An Outline of Psycho-Analysis," in Standard Edition, V. 23, edited by J. Strachey. London: Hogarth Press, 1964, pp. 141-207.
Fries, M. E., and Woolf, P. J. (1953). "Some Hypotheses on the Role of Congenital Activity Type in Personality Development," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 8. New York: International Universities Press, pp. 48—62.
Fries, M. E., and Woolf, P. J. (1971). "The Influence of Constitutional
Complex on Developmental Phases," in Separation-Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 274-296.
Frijling-Schreuder, E. C. M. (1969). "Borderline States in Children," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 24. New York: International Universities Press, pp. 307—327.
Furer, M. (1964). "The Development of a Preschool Symbiotic Psychotic Box," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 19. New York: International Universities Press, pp. 448—469.
Furer, M. (1967). "Some Developmental Aspects of the Superego," Int. 1. Psycho-Anal., 48:277-280.
Furer, M. (1971). "Observations on the Treatment of the Symbiotic
Syndrome of Infantile Psychosis — Reality, Reconstruction, and Drive Maturation," in Separation-Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage.
New York: International Universities Press, pp. 473—485.
Galenson, E. (1971). "A Consideration of the Nature of Thought in Childhood Play," in Separation-Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 41—60.
Galenson, E. , and Roiphe, H. (1971). "The Impact of Early Sexual Discovery on Mood, Defensive Organization and Symbolization," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 26. New York: Quadrangle, pp. 195—216.
Geleerd, E. R. (1956). "Clinical Contribution to the Problems of the Early Mother-Child Relationship: Some Discussion of Its Influence on Self-Destructive Tendencies and Fugue States," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 11. New York: International Universities Press, pp. 336—351.
Gero, G. (1936). "The Construction of Depression," Int. J. Psycho-Anal., 17: 423-461.
Glenn, L, reporter. (1966). "Panel on Melanie Klein." Meeting of the New York Psychoanalytic Society, May 25, 1965. Psychoanal. Q., 35:320-325.
Glover, E. (1956). On the Early Development of Mind. New York: International Universities Press.
Gouin-Decarie, T. (1965). Intelligence and Affectivity in Early Childhood. New York: International Universities Press.
Greenacre, P. (1945). "The Biologic Economy of Birth," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 1. New York: International Universities Press, pp. 31—51.
Greenacre, P. (1947). "Vision, Headache and the Halo: Reactions to Stress in the Course of Superego Formation," Psychoanal. Q., 16:177-194.
Greenacre, P. (1948). "Anatomical Structure and Super-Ego Development," Am. J. Orthopsychiatry, 18:636—648.
Greenacre, P. (1953). "Penis Awe and Its Relation to Penis Envy," in Emotional Growth, V. 1. New York: International Universities Press, pp. 31—49.
Greenacre, P. (1957). "The Childhood of the Artist: Libidinal Phase Development and Giftedness," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 12. New York: International Universities Press, pp. 27—72.
Greenacre, P. (1958). "Early Physical Determinants in the Development of the Sense of Identity," J.Am. Psychoanal. Assoc., 6:612—627.
Greenacre, P. (1959). "On Focal Symbiosis," in Dynamic Psychology in Childhood, edited by L. Jessner and E. Pavenstedt. New York: Grune & Stratton, pp. 243—256.
Greenacre, P. (1960). "Considerations Regarding the Parent-Infant Relationship," in Emotional Growth, V. 1. New York: International Universities Press, pp. 199—224.
Greenacre, P. (1966). "Problems of Overidealization of the Analyst and of Analysis: Their Manifestations in the Transference and Counter-Transference Relationships," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 21. New York: International Universities Press, pp. 193-212.
Greenacre, P. (1968). "Perversion: General Considerations Regarding Their Genetic and Dynamic Background," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 23. New York: International Universities Press, 47-62.
Greenacre, P. (1973). "The Primal Scene and the Sense of Reality," Psychoanal. Q., 42:10—40.
Greenson, R. R. (1968). "Dis-ldentification," Int. J. Psycho-Anal., 49: 370-374.
Greenson, P. (1971). "A Dream While Drowning," in Separation-individuation: Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 377-384.
Harley, M. (1971). "Some Reflections on Identity Problems in Prepuberty," in Separation-individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 385—403.
Harrison, I. (1973). "On the Maternal Origins of Awe," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 30, in press.
Harrison, S. (1971). "Symbiotic Infantile Psychosis: Observation of an Acute Episode," in Separation-individuation: Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by I. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 404—415.
Hartmann, H. (1939). Ego Psychology and the Problem of Adaptation. New York: International Universities Press, 1958.
Hartmann, H. (1950). "Psychoanalysis and Developmental Psychology," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 5. New York: International Universities Press, pp. 7—17.
Hartmann, H. (1952). "The Mutual Influences in the Development of the Ego and Id," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 7. New York: International Universities Press, pp. 9—30.
Hartmann, H. (1955). "Notes on the Theory of Sublimation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press, pp. 9—29.
Hartmann, H. (1956). "Notes oh the Reality Principle," in Essays on Ego
Psychology. New York: International Universities Press, pp. 241—267.
Hartmann, H. , Kris, E., and Loewenstein, R. M. (1946). "Comments on the Formation of Psychic Structure," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 2. New York: International Universities Press, pp. 11-38.
Hartmann, H. , Kris, E. , and Loewenstein, R. M. (1949). "Notes on the Theory of Aggression," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 3/4. New York: International Universities Press, pp. 9—36.
Heimann, P. (1966). "Comment on Dr. Kernberg's Paper (Structural Derivatives of Object Relationships)," Int. J. Psycho-Anal., 47:254—260. Hendrick, I. (1951). "Early Development of the Ego: Identification in Infancy," Psychoanal. Q., 20:44—61.
Hermann, I. (1926). "Das System Bw," Imago, 12:203—210.
Hermann, I. (1936). "Sich-Anklammern, Auf-Suche-Gehen," Int. Z. Psychoanal., 22:349-370.
Hoffer, W. (1949). "Mouth, Hand and Ego-Integration," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 3/4. New York: International Universities Press, pp. 49—56.
Hoffer, W. (1950a). "Development of the Body Ego," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 5. New York: International Universities Press, pp. 18-23.
Hoffer, W. (1950b). "Oral Aggressiveness and Ego Development," Int.
J. Psycho-Anal., 31:156—160.
Hoffer, W. (1952). "The Mutual Influences in the Development of Ego and Id: Earliest Stages," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 7. New York: International Universities Press, pp. 31—41.
Hoffer, W. (1955). Psychoanalysis: Practical and Research Aspects. Baltimore: Williams & Wilkins, p. 10.
Hollander, M. (1970). "The Need or Wish to Be Held," Arch. Gen. Psychiatry, 22:445-453.
Homburger, A. (1923). "Zur Gestalung der normalen menschlichen Motorik und ihre Beurteilung," Z. Gesamte Psychiatr., 75. 274.
Isakower, O. (1938). "A Contribution to the Pathopsychology of Phenomena Associated with Falling Asleep," Int. J. Psycho-Anal., 19:331-345.
Isakower, O. (1939). "On the Exceptional Position of the Auditory Sphere," Int. J. Psycho-Anal., 20:340—348.
Jackson, E. , Klatskin, E. , and Ethelyn, H. (1950). "Rooming-in Research Project: Development of Methodology of Parent-Child Relationship Study in a Clinical Setting," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 5. New York: International Universities Press, pp. 236-240.
Jacobson, E. (1953). "The Affects and Their Pleasure-Unpleasure Qualities in Relation to the Psychic Discharge Processes," in Drives, Affects, Behavior, edited by R. M. Loewenstein, V. 1. New York: International Universities Press, pp. 38—66.
Jacobson, E. (1954). "The Self and the Object World: Vicissitudes of
Their Infantile Cathexes and Their Influence on Ideational and Affective Development," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 9. New York: International Universities Press, pp. 75—127.
Jacobson, E. (1964). The Self and the Object World. New York: International Universities Press.
James, M. (1960). "Premature Ego Development: Some Observations on Disturbances in the First Three Months of Life," Int. J. PsychoAnal., 41:288-294.
Joffe, W. G. and Sandler, J. (1965). "Notes on Pain, Depression, and Individuation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 20. New York: International Universities Press, pp. 394—424.
Kafka, E. (1971). "On the Development of the Experience of Mental Self, Bodily Self, and Self-Consciousness," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 26. New York: Quadrangle, pp. 217—240.
Kanner, L. (1949). "Problems of Nosology and Psychodynamics of Early Infantile Autism," Am. J. Orthopsychiatry, 19:416—426.
Kaplan, L. J. (1972). "Object Constancy in Piaget's Vertical Decalage," Bull. Menninger Clinic, 36:322—334.
Katan, A. (1961). "Some Thoughts about the Role of Verbalization in Early Childhood," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 16. New York: International Universities Press, pp. 184—188.
Kaufman, I. C. and Rosenblum, L. A. (1967). "Depression in Infant
Monkeys Separated from Their Mothers," Science, 155:1030—1031.
Kaufman, I. C. and Rosenblum, L. A. (1968). "The Reaction to Separation in Infant Monkeys: Anaclitic Depression and ConservationWithdrawal," Psychosom. Med., 29:648—675.
Kernberg, O. (1967). "Borderline Personality Organization," J. Am. Psychoanal. Assoc., 15:641—685.
Kernberg, O. (1974). "Contrasting Viewpoints Regarding the Nature and Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personalities: A Preliminary Communication," J. Am. Psychoanal. Assoc., 22:255—267.
Kestenberg, J. S. (1956). "On the Development of Maternal Feelings in Early Childhood: Observations and Reflections," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 11. New York: International Universities Press, pp. 257—291.
Kestenberg, J. S. (1965a). "The Role of Movement Patterns in Development. I. Rhythms of Movement," Psychoanal. Q., 24:1—26.
Kestenberg, J. S. (1965ft). "The Role of Movement Patterns in Development. Il. Flow and Tension and Effort," Psychoanal. Q., 24: 517-563.
Kestenberg, J. S. (1967). The Role of Movement Patterns in Development. Ill. The Control of Shape. Psychoanal. Q., 36:356—409.
Kestenberg, J. S. (1968). "Outside and Inside, Male and Female," J. Am. Psychological Assoc., 16:457-520.
Kestenberg, J. S. (1971). "From Organ-Object Imagery to Self and Object Representations," in Separation-Individuation: Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 75—99.
IICHXOJIOPW-IECKOE I-IEJIOBE I-IECKOPO
Khan, M. M. R. (1963). "The Concept of Cumulative Trauma," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 286—306.
Khan, M. M. R. (1964). "Ego Distortion, Cumulative Trauma, and the Role of Reconstruction in the Analytic Situation," Int. J. Psycho-Anal., 45:272-279.
Kierkegaard, S. (1846). Purity of Heart. New York: Harper and Row, 1938.
Kleeman, J. A. (1967). "The Peek-a-Boo Game: Part I: Its Origins, Meanings, and Related Phenomena in the First Year," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 22. New York: International Universities Press, pp. 239—273.
Kohut, H. (1972). "Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 27. New York: Quadrangle, pp. 360—401.
Kris, E. (1950). "Notes on the Development and on Some Current Problems of Psychoanalytic Child Psychology," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 5. New York: International Universities Press, pp. 24—46.
Kris, E. (1955). "Neutralization and Sublimation: Observations on Young Children," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press, pp. 30—46.
Kris, E. (1956). "The Recovery of Childhood Memories," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 11. New York: International Universities Press, pp. 54—88.
Kris, E. (1962). "Decline and Recovery in the Life of a Three-year-Old; or: Data in Psychoanalytic Perspective on the Mother-Child Relationship," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 17. New York: International Universities Press, pp. 175—215.
Kris, E., et al. (1954). "Problems of Infantile Neurosis: A Discussion," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 9. New York: International Universities Press, pp. 16—71.
Kris, M. (1957). "The Use of Prediction in a Longitudinal Study," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 12. New York: International Universities Press, pp. 175—189.
Kris, M. (1972). "Some Aspects of Family Interaction: A Psychoanalytic
Study," Freud Anniversary Lecture. March 28, 1972. Unpublished.
Kupfermann, K. (1971). "The Development and Treatment of a Psychotic Child," in Separation-Individuation: Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 441—470.
Lampl de Groot, J. (1973). "Vicissitudes of Narcissism and Problems of Civilization," Freud Anniversary Lecture. March 28, 1973. Unpublished.
Levita, D. (1966). "On the Psychoanalytic Concept of Identity," Int. J. Psycho-Anal., 47-.299-305.
Levy, D. M. (1937). "Primary Affect Hunger," Am. J. Psychol., 94: 643-652.
Lewin, B. D. (1946). "Sleep, the Mouth and the Dream Screen," Psychoanal. Q., 15:419—434.
Lewin, B. D. (1948). "Inferences from the Dream Screen," Int. J. Psycho-Anal., 29: 224-231.
Lewin, B. D. (1950). The Psychoanalysis of Elation. New York: Norton. Lewin, B. D. (1953). "Reconsideration of the Dream Screen," Psychoanal. Q., 22: 174-199.
Lichtenstein, H. (1964). "The Role of Narcissism in the Emergence and
Maintenance of a Primary Identity," Int. J. Psycho-Anal., 45:49—56.
Lley, A. W. (1972). "The Foetus as a Personalty," Aust. N. Z. J. Psychatry, 6: 99-105.
Loewald, H. W. (1951). "Ego and Reality," Int. J. Psycho-Anal., 32:10—18.
Loewald, H. W. (1962). "Internalization, Separation, Mourning and the Superego," Psychoanal. Q., 31:483—504.
Loewenstein, R. M. (1950). "Conflict and Autonomous Ego Development During the Phallic Phase," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 5. New York: International Universities Press, PP. 47-52.
Löfgren, J. B. (1968).
"Castration Anxiety and the Body Ego," Int. J. PsyCho-Anal.,![]()
Lustman, S. L. (1956). "Rudiments of the Ego," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 11. New York: International Universities Press, pp. 89—98.
Lustman, S. L. (1957). "Psychic Energy and the Mechanisms of Defense," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 12. New York: International Universities Press, pp. 151—165.
HEJIOBEHECKOPO
Lustman, S. L. (1962). "Defense, Symptom, and Character," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 17. New York: International Universities Press, pp. 216—244.
Mahler, M. S. (1944). "Tics and Impulsions in Children: A Study of Motility," Psychoanal. Q., 13:430—444.
Mahler, M. S. (1945). "Introductory Remarks To: Symposium on Tics in Children," Nerv. Child, 4:307.
Mahler, M. S. (1949a). "A Psychoanalytic Evaluation of Tic in Psychopathology of Children: Symptomatic Tic and Tic Syndrome," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 3/4. New York: International Universities Press, pp. 279—310.
Mahler, M. S. (19496). "Remarks on Psychoanalysis with Psychotic Children," Q. J. Child Behavior, 1:18—21. (Quoted in R. Fliess, Ego and Body Ego, p. 24.)
Mahler, M. S. (1950). Discussion of Papers by Anna Freud and Ernst Kris: Symposium on "Problems of Child Development." Stockbridge, Mass., April 1950. Unpublished. (Quoted in R. Fleiss, Ego and Body Ego, p. 30.)
Mahler, M. S. (1952). "On Child Psychosis and Schizophrenia: Autistic and Symbiotic Infantile Psychoses," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 7. New York: International Universities Press, pp. 286-305.
Mahler, M. S. (1955). "Discussion [of papers by Kanner and Eisenberg, Despert, Lourie]," in Psychopathology of Childhood, edited by
P. H. Hoch and J. Zubin. New York: Grune & Stratton, pp. 285—289.
Mahler, M. S. (1958a). "Autism and Symbiosis: Two Extreme Disturbances of Identity," Int. J. Psycho-Anal., 39:77—83.
Mahler, M. S. (1958ft). "On Two Crucial Phases of Integration of the Sense of Identity: Separation-Individuation and Bisexual Identity," J. Am. Psychoanal. Assoc., 6:136—139.
Mahler, M. S. (1960). "Symposium on Psychotic Object-Relationships: Ill. Perceptual De-Differentiation and Psychotic 'Object Relationship,"' Int. J. Psycho-Anal., 41:548—553.
Mahler, M. S. (1961). "On Sadness and Grief in Infancy and Childhood: Loss and Restoration of the Symbiotic Love Object," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 16. New York: International Universities Press, pp. 332—351.
Mahler, M. S. (1963). "Thoughts about Development and Individuation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 307—324.
Mahler, M. S. (1965a). "On Early Infantile Psychosis: The Symbiotic and Autistic Syndromes," J. Am. Acad. Child Psychiatry, 4: 554-568.
Mahler, M. S. (1965ft). "On the Significance of the Normal Separation-lndividuation Phase: With Reference to Research in Symbiotic Child Psychosis," in Drives, Affects, Behavior, V. 2, edited by
M. Schur. New York: International Universities Press, pp. 161—169.
Mahler, M. S. (1966a).
"Discussion of P. Greenacre's 'Problems of Overidealization of the Analyst
and Analysis."' Abstracted in Psychoanal. Q., 36![]()
Mahler, M. S. (1966ft). "Notes on the Development of Basic Moods:
The Depressive Affect," in Psychoanalysis —A General Psychology: Essays in Honor ofHeinz Hartmann, edited by R. M. Loewenstein, L. M. Newman, M. Schur, and A. J. Solnit. New York: International Universities Press, pp. 152—168.
Mahler, M. S. (1967a). "On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation," J. Am. Psychoanal. Assoc., 15:740—763.
Mahler, M. S. (1967ft). "Child Development and the Curriculum," J. Am. Psychoanal. Assoc., 15:876-886.
Mahler, M. S. (1968a). "Discussion of Borje Lofgren's paper 'Castration Anxiety and the Body Ego,"' Int. J. Psychoanal, 49:410—412.
Mahler, M. S. (1968ft). On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation, V. 1, Infantile Psychosis. New York: International Universities Press.
Mahler, M. S. (1969). "Perturbances of Symbiosis and Individuation in the Development of the Psychotic Ego," in Problems of Psychosis, edited by P. Doucet and C. Laurin. Excerpt. Med. Int. Cong. Series, Part 1, pp. 188-196 and Part 2, pp. 375-378.
Mahler, M. S. (1971). "A Study of the Separation-Individuation Process and Its Possible Application to Borderline Phenomena in the Psychoanalytic Situation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 26. New York: Quadrangle, pp. 403—424.
Mahler, M. S. (1972a). "On the First Three Subphases of the SeparationIndividuation Process," Int. J. Psycho-Anal., 53:333—338.
HEJIOBEHECKOPO
Mahler, M. S. (19726). "Rapprochement Subphase of the SeparationIndividuation Process," Psychoanal. Q., 41:487—506.
Mahler, M. S. (1974). "Discussion of R. Stoller's 'Healthy Parental Influences on the Earliest Development of Masculinity in Baby Boys,"' Psychoanalytic Forum, V. 5, in press.
Mahler, M. S., and Elkisch, P. (1953). "Some Observations on Disturbances of the Ego in a Case of Infantile Psychosis," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 8. New York: International Universities Press, pp. 252—261.
Mahler, M. S., and Furer, M. (1960). "Observations on Research Regarding the 'Symbiotic Syndrome' of Infantile Psychosis," Psychoanal. Q., 29:317-327.
Mahler, M. S., and Furer, M. (1963a). "Certain Aspects of the Separation-lndividuation Phase," Psychoanal. Q., 32:1—14.
Mahler, M. S., and Furer, M. (19636). "Description of the Subphases.
History of the Separation-Individuation Study." Presented at
Workshop IV: Research in Progress. American Psychoanalytic Association, annual meeting. St. Louis, Mo., May 4, 1963. Unpublished.
Mahler, M. S., and Furer, M. (1966). "Development of Symbiosis, Symbiotic Psychosis, and the Nature of Separation Anxiety: Remarks on J. Weiland's Paper," Int. J. Psycho-Anal., 47:559—560.
Mahler, M. S., and Furer, M. (1972). "Child Psychosis: A Theoretical Statement and Its Implications," J. Autism Child Schizo., 2/3:213-218.
Mahler, M. S., Furer, M., and Settlage, C. F. (1959). "Severe Emotional Disturbances in Childhood Psychosis," in American Handbook of Psychiatry, V. I, edited by S. Arieti. New York: Basic Books, pp. 816-839.
Mahler, M. S., and Gosliner, B. J. (1955). "On Symbiotic Child Psychosis: Genetic, Dynamic and Restitutive Aspects," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press, pp. 195-212.
Mahler, M. S., and Gross, I. H. (1945). "Psychotherapeutic Study of a Typical Case with Tic Syndrome," Nerv. Child, 4:359—373.
Mahler, M. S., and La Perriere, K. (1965). "Mother-Child Interaction during Separation-Individuation," Psychoanal. Q., 34:483—498.
Mahler, M. S., and Luke, J. A. (1946). "Outcome of the Tic Syndrome," Nerv. Ment. Dis., 103:433—445. Abstracted in Digest Neurol. Psychiatry, 14 (1946): 398.
Mahler, M. S., Luke, J. A., and Daltroff, W. (1945). "Clinical and Follow-up Study of the Tic Syndrome in Children," Am. J. Orthopsychiatry, 15:631—647.
Mahler, M. S., and McDevitt, J. B. (1968). "Observations on Adaptation and Defense in Statu Nascendi: Developmental Precursors in the First Two Years of Life," Psychoanal. Q., 37:1—21.
Mahler, M. S., Pine, F., and Bergman, A. (1970). "The Mother's Reaction to her Toddler's Drive for Individuation," in Parenthood: Its Psychology and Psycho-pathology, edited by E. J. Anthony and T. Benedek. Boston: Little, Brown, pp. 257—274.
Mahler, M. S., Ross, J. R. , Jr., and De Fries, Z. (1949). "Clinical Studies in Benign and Malignant Cases of Childhood Psychosis (Schizophrenia-like)," Am. J. Orthopsychiatry, 19:295—305.
Mahler, M. S., and Settlage, C. F. (1956). "The Classification and Treatment of Childhood Psychoses." American Psychiatric Association, Chicago, Ill., 1956. Unpublished. (Quoted in R. Fliess, Ego and Body Ego, p. 25.)
Masterson, J. F. (1973). "The Mother's Contribution to the Psychic Structure of the Borderline Personality." Paper read at the Margaret S. Mahler Symposium on Child Development. Philadelphia, May 1973. Unpublished.
McDevitt, J. B. (1971). "Preoedipal Determinants of an Infantile Neurosis," in Separation-Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 201—228.
McDevitt, J. B. (1972). "Libidinal Object Constancy: Some Developmental Considerations." Paper presented at the New York Psychoanalytic Society. New York, January 1972. Unpublished.
Modell, A. H. (1968). Object Love and Reality. New York: International Universities Press.
Murphy, L. B. (1962). The Widening World of Childhood. New York: Basic Books.
Nagera, H. (1966). Early Childhood Disturbances: The Neurosis and the Adult Disturbances. Monograph Series of the Psychological
MEJIOBEHECKOI'O
Study of the Child, No. 2. New York: International Universities Press.
Niederland, W. G. (1965). "The Role of the Ego in the Recovery of Early Memories," Psychoanal. Q., 34:564—571.
Omwake, E. R., and Solnit, L. (1961). "It Isn't Fair," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 16. New York: International Universities Press, pp. 352—404.
Pacella, B. L. (1972). "Early Ego Development and the Deja Vu." Paper presented to the New York Psychoanalytic Society. New York, May 30, 1972. Unpublished.
Parens, H. (1971). "A Contribution of Separation-Individuation to the Development of Psychic Structure," in Separation-Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 100-112.
Parens, H. (1973). "Aggression: A Reconsideration," J. Am. Psychoanal. Assoc., 21:34-60.
Parens, H. (1974). "Aggression: Towards Its Epigenesis in Early Childhood." Unpublished.
Parens, H. and Saul, L. J. (1971). Dependence in Man. New York: International Universities Press.
Petö, A. (1955). "On So-Called Depersonalization," Int. J. Psycho-Anal., 36: 379-386.
Petö, A. (1969). "Terrifying Eyes: A Visual Superego Forerunner," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 24. New York: International Universities Press, pp. 197—212.
Petö, A. (1970). "To Cast Away: An Vestibular Forerunner of the Superego," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 25. New York: International Universities Press, pp. 401—416.
Piaget, J. (1929a). The Child's Conception of the World. New York: Harcourt, Brace.
Piaget, J. (19296). Judgment and Reasoning in the Child. New York: Humanities Press.
Piaget, J. (1930). The Child's Conception of Physical Causality. New York: Harcourt, Brace. Piaget, J. (1936). The Origins of Intelligence in Children. Paris: Delachaux & Niestle, 1936.
Piaget, J. (1937). The Construction of Reality in the Child. New York: Basic Books, 1954.
Pine, F. (1964). "Some Patterns of Mother-Child Behavior in Toddlerhood." Paper read at the Research Career Development Award Conference. Skytop, Pa., June 1964. Unpublished.
Pine, F. (1970). "On the Structuralization of Drive-Defense Relationships," Psychoanal. Q., 39:17—37.
Pine, F. (1971). "On the Separation Process: Universal Trends and Individual Differences," in Separation-Individuation: Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, 1971, pp. 113—130.
Pine, F. (1974). "Libidinal Object Constancy: A Theoretical Note," Psychoanal. and Contemp. Sci., V. 3, edited by L. Goldberger and V. H. Rosen. New York: International Universities Press, pp. 307—313.
Pine, F. , and Furer, M. (1963). "Studies of the Separation-Individuation Phase: A Methodological Overview," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 325-342.
Provence, S., and Lipton, R. C. (1962). Infants in Institutions. New York: International Universities Press.
Provence, S., and Ritvo, S. (1961). "Effects of Deprivation on Institutionalized Infants," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 16.
New York: International Universities Press, pp. 189—205.
Ribble, M. A. (1943). The Rights of Infants: Early Psychological Needs and Their Satisfaction. New York: Columbia University Press.
Rinsley, D. B. (1965). "Intensive Psychiatric Hospital Treatment of Adolescents: An Objective-Relations Review," Psychiatr. Q., 39:405—429. Rinsley, D. B. (1968). "Economic Aspects of Object-Relations," Int. J. Psycho-Anal., 49:38—48.
Rinsley, D. B. (197 la). "The Adolescent In-Patient: Patterns of Depersonification," Psychiatr. Q., 45:1—20.
Rinsley, D. B. (19716). "Theory and Practice of Intensive Residential Treatment of Adolescents," in Adolescent Psychiatry, V. 1, edited by S. C. Feinstein, P. L. Giovacchini, and A. A. Miller. New York: Basic Books, pp. 479—508.
Ritvo, S., and Solnit, A. J. (1958). "Influences of Early Mother-Child
Interaction on Identification Processes," in The Psychoanalytic
Study of the Child, V. 13. New York: International Universities Press, pp. 64—91.
Roiphe, H. , and Galenson, E. (1971). "The Impact of Early Sexual Discovery on Mood, Defensive Organization and Symbolization," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 26. New York: Quadrangle, pp. 195-216.
Roiphe, H. , and Galenson, E. (1972). "Early Genital Activity and the Castration Complex," Psychoanal. Q., 41:334—347.
Roiphe, H., and Galenson, E. (1973). "Some Observations on Transitional Object and Infantile Fetish." Paper presented to the New York Psychoanalytic Society. New York, March 27, 1973. Unpublished.
Rose, G. J. (1964). "Creative Imagination in Terms of Ego 'Core' and Boundaries," Int. J. Psycho-Anal., 45:75—84.
Rose, G. J. (1966). "Body Ego and Reality," Int. J. Psycho-Anal., 47: 502-509.
Rubinfine, D. L. (1958). "Report of Panel: Problems of Identity,"
J. Am. Psychoanal. Assoc., 6:131—142.
Rubinfine, D. L. (1961). "Perception, Reality Testing, and Symbolism," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 16. New York: International Universities Press, pp. 73—89.
Sander, L. W. (1962a). "Adaptive Relationships in Early Mother-Child Interaction," Am. Acad. Child Psychiatry, 3 (1964):231—264.
Sander, L. W. (19626). "Issues in Early Mother-Child Interaction," J. Am. Acad. Child Psychiatry, 1 (1962): 141—166.
Sandler, J. (1960). "On the Concept of the Superego," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 15. New York: International Universities Press, pp. 128—162.
Sandler, J., Holder, A., and Meers, D. (1963). "The Ego Ideal and the Ideal Self," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 139—158.
Schilder, P. F. (1914). Selbstbewusstein und Personlichkeits-bewusstsein: eine psychopathologische Studie, edited by A. Alzheimer and M. Lewandowsky. Berlin: J. Springer.
Schilder, P. F. (1923). The Image and Appearance of the Human Body: Studies in the Constructive Energies of the Psyche. New York: International Universities Press, 1951.
Schur, M. (1955). "Comments on the Metapsychology of Somatization," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press, pp. 119—164.
Schur, M. (1966). The ID and the Regulatory Principles of Mental Functioning. New York: International Universities Press.
Settlage, C. F. (1971). "On the Libidinal Aspect of Early Psychic Development and the Genesis of Infantile Neurosis," in SeparationIndividuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 131—156.
Settlage, C. F. (1974). "Danger Signals in the Separation-Individuation Process: The Observations and Formulations of Margaret S. Mahler," in The Infant at Risk, V. 10, No. 2. Birth Defects: Original Article Series, edited by D. Bergsma, R. T. Gross, C. F. Settlage, A. J. Solnit, and D. Dwyer. Miami: Symposia Specialists, pp. 63—75. Distributed by Intercontinental Medical Book Corp., New York.
Solnit, A. J. (1970). "A Study of Object Loss in Infancy," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 25. New York: International Universities Press, pp. 257—272.
Speers, R. W. (1974). "Variations in Separation-Individuation and Implications for Play Ability and Learning," in The Infant at Risk, V. 10, No. 2. Birth Defects: Original Article Series, edited by D. Bergsma, R. T. Gross, C. F. Settlage, A. J. Solnit, and D. Dwyer. Miami: Symposia Specialists, pp. 77—100. Distributed by Intercontinental Medical Book Corp., New York.
Speers, R. W., McFarland, M. B., Arnaud, S. H., and Curry, N. E. (1971). "Recapitulation of Separation-Individuation Processes when the Normal Three-year-Old Enters Nursery School," in Essays in Honor ofMargaret S. Mahler, edited by J. B. McDevitt and C. F. Settlage. New York: International Universities Press, pp. 297—324.
Sperling, O. (1944). "On Appersonation," Int. J. Psycho-Anal., 25: 128-132.
Spiegel, L. A. (1959). "The Self, the Sense of Self, and Perception," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 14. New York: International Universities Press, pp. 81—109.
Spitz, R. A. (1945). "Diacritic and Coenesthetic Organizations: The Psychiatric Significance of a Functional Division of the Nervous
System into a Sensory and Emotive Part," Psychoanal. Rev., 32: 146—162.
Spitz, R. A. (1946). "The Smiling Response: A Contribution to the Ontogenesis of Social Relations" (with the assistance of K. M. Wolf, Ph. D.), Genet. Psychol. Monogr., No. 34, pp. 57—125.
Spitz, R. A. (1950). "Relevancy of Direct Infant Observations," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press, pp. 215—240.
Spitz, R. A. (1955). "The Primal Cavity: A Contribution to the Genesis of Perception and Its Role for Psychoanalytic Theory," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press, pp. 215—240.
Spitz, R. A. (1964). "The Derailment of Dialogue: Stimulus Overload, Action Cycles, and the Completion Gradient," J. Am. Psychoanal. Assoc., 12:752-775.
Spitz, R. A. (1965). The First Year of Life: A Psychoanalytic Study of Normal and Deviant Development of Object Relations, New York: International Universities Press.
Spitz, R. A. (1972). "Bridges: On Anticipation, Duration and Meaning," J. Am. Psychoanal. Assoc., 20:721-735.
Spitz, R. A., Emde, R. N., and Metcalf, D. R. (1970). "Further Prototypes of Ego Formation," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 25. New York: International Universities Press, pp. 417—441.
Spock, B. (1963). "The Striving for Autonomy and Regressive ObjectiveRelationships," The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press, pp. 361—364.
Spock, B. (1965). "Innate Inhibition of Aggressiveness in Infancy," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 20. New York: International Universities Press, pp. 340—343.
Stoller, R. J. (1973). "Male Transsexualism: Uneasiness," Am. J. Psychiatry, 130:536-539.
Tolpin, M. (1972). "On the Beginnings of a Cohesive Self," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 26. New York: Quadrangle, pp. 316-352.
Waelder, R. (1960). The Basic Theory of Psychoanalysis. New York: International Universities Press, pp. 56—57.
Weil, A. P. (1956). "Some Evidences of Deviational Development in Infancy and Childhood," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 11. New York: International Universities Press, pp. 292-299.
Weil, A. P. (1970). "The Basic Core," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 25. New York: International Universities Press, PP. 442-460.
Weil, A. P. (1973). "Ego Strengthening Prior to Analysis," in The Psychoanalytic Study of the Child, V. 28. New Haven: Yale University Press, pp. 287-304.
Werner, H. (1948). Comparative Psychology of Mental Development. New York: International Universities Press.
Werner, H., and Kaplan, B. (1963). Symbol Formation. New York: John Wiley.
Winnicott, D. W. (1953). "Transitional Objects and Transitional Phenomena: A Study of the First Not-Me Possession," Int. J. PsychoAnal., 34:89-97.
Winnicott, D. W. (1956). "Primary Maternal Preoccupation," in Collected Papers. New York: Basic Books, 1958, pp. 300—305.
Winnicott, D. W. (1957a). "The Ordinary Devoted Mother and Her Baby." Nine Broadcast Talks (1949). Reprinted in The Child and the Family. New York, Basic Books.
Winnicott, D. W. (1957b). Mother and Child:A Primer ofFirst Relationships. New York: Basic Books.
Winnicott, D. W. (1958). "The Capacity to Be Alone," Int. J. PsychoAnal., 39:416-420.
Winnicott, D. W. (1962). The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press, 1965.
Winnicott, D. W. (1963). "Communicating and Not Communicating, Leading to a Study of Certain Opposites," in The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press, 1965, pp. 179—192.
Wolf, P. and White, B. (1965). "Visual Pursuit and Attention in Young Infants," J. Am. Acad. Child Psychiatry, 4:473—484.
Wolff, P. H. (1959). "Observations on Newborn Infants," Psychosom. Med., 21: 110-118.
Woodbury, M. A. (1966). "Altered Body-Ego Experiences: A Contribution to the Study of Regression, Perception, and Early Development," J. Am. Psychoanal. Assoc., 14:273—303.
Zetzel, E. R. (1949). "Anxiety and the Capacity to Bear It," Int. J. Psycho-Anal., 30:1—12.
Zetzel, E. R. (1965). "Depression and the Incapacity to Bear It," in Drives, Affects, Behavior, V. 2, edited by M. Schur. New York: International Universities Press, pp. 243—274.
Zetzel, E. R. (1966). "The
Predisposition to Depression," Can. Psychiatr. Assoc. J. supp., 11:236-249.
АмбитенДентность — одновременное присутствие в поведении двух противоположных тенденций; например, ребенок может плакать и в то же самое время дружелюбно улыбаться; направляться к матери, но в последний момент сворачивать в сторону; или целовать мать, а затем неожиданно ее кусать. Амбитендентность является поведенчески бифазной; она может быть скоро или не очень скоро замещена амбивалентностью, где бифазная тенденция интегрируется и больше уже не наблюдается.
Аутистические Детские психозы. При синдроме раннего детского аутизма имеется фиксация на регрессии к аутистической фазе раннего детства, что выражается в том, что мать практически не воспринимается ребенком как представитель внешнего мира. Имеется «замороженная» преграда между аутистическим ребенком и человеческим окружением. Психотический аутизм представляет собой попытку достичь дедифференциации и неодушевленности; он служит противодействию множественным сложностям внешней стимуляции и внутренних возбуждений, которые угрожают уничтожением рудиментарному Эго аутистического ребенка. Поддержание тождественности является кардинальной характеристикой синдрома аутистического психоза.
Взаимное сигнализирование — циркулярный процесс взаимодействия, которое очень рано устанавливается между матерью и младенцем, в котором они «эмпатично» считывают каждый знак и сигнал друг друга и реагируют друг на друга. Например, мать понимает значения разных видов плача
и движений младенца; ребенок учится ожидать заботливого поведения от матери; он также узнает вскоре, какие сигналы его мать (бессознательно) воспринимает, а какие — нет. Ни одна мать не реагирует идеальным образом на сигналы ребенка, но серьезное несоответствие сигналов является препятствием на пути гладкого развития.
Вылупление — процесс выхода из симбиотического состояния единства с матерью, в интрапсихическом смысле. Это опыт <<второго», психологического рождения — процесс, при котором начинает катектироваться <<отличный-от-матери» мир. Вылупившийся ребенок оставляет смутное сумеречное состояние симбиоза и становится более стабильно реактивен и восприимчив к стимулам своего окружения, нежели к своим собственным телесным ощущениям или к ощущениям, исходящим исключительно с симбиотической орбиты.
Двойственное единство — симбиотическое единство матери и ребенка, насыщающее ребенка качествами всемогущества, в котором имеется смутное ощущение симбиотической половины Я («внешнего Эго», по Шпитцу).
Дифференциация — первая субфаза процесса сепарации-индивидуации, протекающая с пятого по девятый месяцы жизни. Тотальная телесная зависимость от матери начинает снижаться, по мере того как созревание локомоторных функций приводит к первым пробным отдалениям от нее. Характерным поведением, которое делает возможным отграничения Я от не-я, является тактильное и визуальное исследование материнского лица и тела; отстранение от матери, чтобы сканировать окружающий мир и разглядывать ее; сверка матери с остальными людьми. Удовольствие от развивающихся эго-функций и внешнего мира выражается только в условиях непосредственной близости к матери. В то же время, очевидно, происходит дифференциация примитивного, но отдельного образа тела. См. также: Практикование, Воссоединение, Консолидация индивидуальности и эмоциональная объектная константность.
Консолидация индивидуальности и эмоциональная константность объекта — четвертая субфаза сепарации-индивидуации, которая начинается к концу второго года жизни и не имеет однозначного времени окончания. В этот период приобретается определенная степень объектной константности, и достигается существенная сепарация Я и репрезентаций объекта. Мать ясно воспринимается как отдельный человек во внешнем мире и в то же самое время существует во внутреннем мире репрезентаций ребенка. См. также: Дифференциация, Практикование, Воссоединение.
Нормального аутизма фаза — первые недели внеутробной жизни, в течение которых новорожденный или младенец кажется практически исключительно биологическим организмом, его инстинктивные реакции на стимулы находятся на рефлекторном и таламическом уровне. На этой фазе мы можем говорить только о примитивном неинтегрированном эго-аппарате и исключительно соматических защитных механизмах, состоящих из реакций разрядки в связи с переполненностью, целью которых является поддержание гомеостатического равновесия. Позиция либидо является по большей части висцеральной с отсутствием различения внутреннего и внешнего, одушевленного и неодушевленного. Изначально, по причине очень высокого порога к внешним стимулам, ребенок, кажется, находится в состоянии примитивной негативной галлюцинаторной дезориентации, при которой удовлетворение нужд находится на его собственной всемогущей аутистической орбите.
Нормального симбиоза фаза. Нормальному симбиозу предшествует повышение устойчивого внутреннего стимульного барьера, который защищает младенца от внутренней и внешней стимуляции вплоть до третьей или четвертой недели жизни. Поскольку у маленького человека инстинкт самосохранения атрофирован, Эго вынуждено взять на себя роль управления адаптацией человеческого существа к реальности. Как бы то ни было, рудиментарное Эго маленького ребенка не адекватно задаче организации его внутренней и внешней стимуляции настолько, чтобы гарантировать его выживание; именно психобиологический раппорт между заботящейся матерью и младенцем дополняет недифференцированное Эго младенца. Эмпатия со стороны матери в нормальных обстоятельствах является заместителем для человеческих существ тех инстинктов, на которые незрелорождающееся животное полагается для своего выживания. Нормальный симбиоз развивается одновременно с понижением внутреннего стимульного барьера (Бенджамин, 1961), посредством предсказуемо повторяющегося опыта внешней материнской заботы, удовлетворяющей потребности, голод и снимающей напряжение, исходящее изнутри, т. е. мать функционирует как дополнительное Эго (Шпитц).
Симбиоз относится к стадии социобиологической взаимозависимости между 1—5-месячным младенцем и его матерью, стадии дообъектных или удовлетворяющих нужды отношений, на которой Я и материнская внутрипсихическая репрезентация еще не были дифференицрованы. Начиная со второго месяца ребенок ведет себя и функционирует, как будто бы он и его мать являлись всемогущим двойственным единством внутри единой общей границы («симбиотической мембраны»).
Доступность матери и внутренняя способность ребенка быть вовлеченным в симбиотические отношения являются базовыми в этот момент. Эти отношения кладут начало организации Эго, посредством установления внутрипсихических связей со стороны ребенка между следами памяти об удовлетворении и гештальтом человеческого лица; происходит смещение катексиса от направленности внутрь тела, от преобладающей висцеральной позиции аутистической фазы на периферию, сенсорно-перцептивные органы (от сенестетической к диакритической организации).
Оптимальная Дистанция. По мере того как маленький ребенок растет и развивается, на каждом этапе имеется определенное расположение матери и ребенка относительно друг друга, которое наилучшим образом позволяет ребенку развивать те способности, которые ему требуются для роста, т. е. индивидуироваться. На симбиотической стадии младенец льнет
к материнскому телу; на субфазе дифференциации он начинает отклоняться от материнской груди с целью иметь возможность более свободно исследовать ее тактильно и околовизуально. Практикующий ребенок удаляется в пространстве с целью иметь возможность исследования; во время воссоединения тоддлеру необходимо уходить и приходить, находя мать доступной, но не вторгающейся. Оптимальная дистанция продиктована развитием вторичного нарциссизма так же, как и изменением объектных отношений и развитием эго-функций.
Первичный нарциссизм — состояние, превалирующее на первой неделе жизни, при котором удовлетворение нужд не воспринимается как приходящее извне и при котором нет восприятия заботящегося объекта. Оно схоже с «абсолютным инфантильным всемогуществом», по Ференци. За этой стадией следует стадия смутного восприятия, что удовлетворение нужд не может обеспечиваться самим собой.
Поведение побегов. См.: Следование тенью и побеги.
Практикование — вторая субфаза сепарации-индивидуации, длящаяся примерно с 9-го по 14-й месяц. В этот период маленький ребенок способен активно удаляться от матери и возвращаться к ней, сначала при помощи ползанья, а затем — овладевая прямохождением. В этот период в исследование окружения, одушевленного и неодушевленного, и в упражнение локомоторных умений инвестируется много либидинальной энергии. См. также: Дифференциация, Воссоединение, Консолидация индивидуальности.
Приближения-удаления паттерны — сменяющие друг друга паттерны, посредством которых ребенок отдаляется от матери и возвращается к ней. На каждой субфазе имеются свои характерные паттерны, определяемые прогрессирующим моторным и когнитивным развитием ребенка и меняющимися потребностями в дистанции или близости.
Предшественники защит. В процессе сепарации-индивидуации мы находим примитивные виды поведения, которые могут расцениваться как предшественники более поздних механизмов защиты. Например, отстранение от матери, отказ смотреть на нее, уход прочь, игнорирование ее присутствия или ухода являются видами поведения, приводящими к механизмам избегания и отрицания. Мы также обнаруживаем примитивную идентификацию с матерью — «становление матерью>> в ее отсутствие и раннюю независимость (ложное Я), где имеется дефицит материнского отношения. Эти механизмы являются относительно нестабильными; они появляются и исчезают. Они служат адаптации так же, как и защите. Выбор этих механизмов зависит от характеристик ребенка и выборочных реакций родителей на ребенка.
Проприо-энтероцептивный катексис — катексис, направленный внутрь тела, переживаемый как напряжения и ощущения, возникающие изнутри и находящие разрядку в кашлянии, плевании, рыгании, выгибании, плаче и т.д., которые превалируют в первые недели жизни.
Воссоединение — третья субфаза сепарации-индивидуации, длящаяся с 14—15-го практически по 24-й месяц и даже более того. Характеризуется повторным открытием матери, теперь как отдельного индивида, и возвращением к ней после обязательных вылазок периода практикования. Тоддлеру нравится разделять свои переживания и сокровища с матерью, которая теперь более ясно воспринимается как отдельный и внешний человек. Нарциссическая инфляция субфазы практикования медленно замещается растущим осознанием отделенности и вместе с тем уязвимости. Распространены реакции враждебности на краткие расставания, и мать не может уже быть с легкостью замещена даже знакомым взрослым. Часто кульминация приходится на более или менее кратковременный кризис воссоединения, который имеет огромное значение для развития. См. также: Дифференциация, Практикование, Консолидация Индивидуальности.
Воссоединения кризис — период на субфазе воссоединения, имеющий место у всех детей, иногда протекающий с большой интенсивностью, в который наиболее острым становится осознание отдельности. Вера тоддлера во всемогущество пошатнулась, и имеются требовательные запросы к окружению, по мере того как он пытается восстановить статускво, что невозможно. Амбитендентность, которая перерастает в амбивалентность, также весьма сильна; тоддлер хочет быть един с матерью и в то же время отделен от нее. Часто случаются вспышки гнева, сильно выражена капризность, плохое настроение и интенсивные сепарационные реакции.
Расщепление — защитный механизм, часто наблюдающийся на субфазе воссоединения (как только была достигнута определенная степень развития Эго); тоддлер не может одновременно справляться с чувствами любви и ненависти по отношению к одному и тому же человеку. Любовь и ненависть не соединяются; мать переживается поочередно то как хорошая, то как плохая. Другой вариант состоит в том, что отсутствующая мать переживается как полностью хорошая, в то время как все остальные — как полностью плохие. В связи с этим тоддлер может смещать агрессию на не-материнский мир, в то же время преувеличивая любовь (сверхидеализация) отсутствующей матери, которую страстно ждет. Когда мать возвращается, то разрушает идеальный образ, и воссоединение с ней часто болезненно, поскольку синкретическая функция молодого Эго не может справиться с расщеплением. В большинстве случаев становится возможным постепенный синтез всего «хорошего» и всего «плохого» развивающимся Эго.
Реакции на незнакомых — ряд реакций на людей, отличных от матери, особенно выраженных на субфазе дифференциации, когда особые отношения с матерью установились в удовлетворительной степени, доказательством чего служит специфическая реакция улыбки на нее. Реакции на незнакомых включают любопытство и интерес, так же как и беспокойство и умеренную или даже сильную тревогу. Они сходят на нет в начале периода практикования, но появляются заново в различное время на протяжении процесса сепарации-индивидуации.
Сенсорно-перцептивный катексис — катексис чувствительного центра и периферии тела, в особенности сенсорно-перцептивных органов — тактильных, околовизуальных, аудиальных. Переход к сенсорно-перцептивному катексису является важным шагом в развитии, происходящим в возрасте трех или четырех недель.
Сепарации-инДивиДуации фаза — фаза нормального развития, начинающаяся приблизительно в возрасте четырех-пяти месяцев, на пике симбиоза и наслаивающаяся на него. Ребенок демонстрирует повышение способности узнавать мать как особого человека, катектировать и исследовать мир нематери и двигаться сначала осторожно, а позднее намеренно в сторону от матери. для этой фазы развития, которая длится приблизительно от пяти месяцев до двух с половиной лет, характерны два отдельных, но переплетающихся направления: одно называется сепарацией, ведущей к внутрипсихическому осознанию отделенности, а другое состоит в индивидуации, ведущей к приобретению отдельной и уникальной индивидуальности. Было выявлено четыре субфазы процесса сепарации-индивидуации. Несмотря на то, что они перекрываются, каждая субфаза имеет свои собственные характерные кластеры видов поведения, которые отличают ее от предшествующей и последующей. Эти четыре субфазы следующие: (1) Дифференциация, (2) Практикование, (З) Воссоединение и (4) Консолидация индивидуальности и формирование эмоциональной константности объекта.
Сепарационные реакции варьируют по типу и интенсивности в ходе прогресса сепарации-индивидуации. Во время дифференциации мы наблюдаем сниженную тональность настроения во время кратких сепараций, которое иногда переходит в отчаянный плач; в период практикования имеется относительная забывчивость о присутствии матери; во время воссоединения наблюдается совокупность реакций, таких как поиски, плач или намеренное игнорирование прихода матери. На четвертой субфазе краткие сепарации в целом переносятся лучше.
Следование тенью и побеги. На субфазе воссоединения ребенок следит за каждым движением матери («следует тенью» за ней); он не может выпустить ее из поля зрения или отпустить от себя. Временами наблюдается обратное поведение: ребенок стремительно убегает и ожидает, что мать подхватит его на руки и таким образом на краткое время аннулирует «отделенность».
Симбиотические Детские психозы. Симбиотическая фаза развития достигается, хотя и с большими искажениями; ребенок обращается с матерью, как будто она является частью его Я, т. е. слита с ним. Отсутствует способность интегрировать образ матери как отдельный и полностью внешний объект, вместо этого поддерживается фрагментация на хорошие и плохие части (интроекты) объекта. Происходят колебания между желанием инкорпорировать и исключить. В таком случае в отсутствие терапии создаются непреодолимые препятствия на пути какого-либо прогресса в сторону сепарации-индивидуации, т. е. имеется фиксация на регрессии к патологической симбиотической фазе. Механизмы возвращения к утраченному, которые создают различную симптоматологию, являются попытками восстановить и сохранить навсегда иллюзорное всемогущество материнско-детского симбиотического единства; по причине продолжительных состояний безмерной паники, пациент вынужден прибегнуть к повторному возвращению в квазистабилизирующий (вторичный) аутизм. «Приступы паники», так же как и аутоагрессивное поведение, часто доминируют в клинической картине.
Симбиотическая орбита. Мать и все, что с ней связано: ее голос, жесты, ее одежда и пространство, в котором она приходит и уходит,— формируют магический круг симбиотического материнско-детского мира.
Страх поглощения — страх регрессии к симбиотическому состоянию, из которого тоддлер только недавно индивидуировался (вышел). Страх повторного поглощения является защитой от бесконечного страстного желания человеческого
существа снова соединиться с прежней симбиотической матерью, устремления, которое угрожает индивидуальной целостности и идентичности и от которого в связи с этим требуется отгородиться, причем не только в детстве.
Эмоциональная или либидинальная подзарядка. На субфазе
практикования ребенок устремляется от матери, но когда он устает или истощает
энергетические ресурсы, он снова ищет телесный контакт с ней. Такая
«подзарядка» ободряет его и восстанавливает ранее имевшееся побуждение к
практикованию и исследованиям.
Научное издание
Серия «Библиотека психоанализа»
Маргарет С. Малер
Фред Пайн
Анни Бергман
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА
СИМБИОЗ И ИНДИВИДУАЦИЯ
Редактор — О. В. Шапошникова
Оригинал-макет, верстка и обложка — С. С. Фёдоров
Корректор — Г. В. Альперина
Дизайн серии — П. П. Ефремов
ИД 05006 ОТ 07.06.01
Издательство «Когито-центр»
129366, Москва, ул. Ярославская, 13 тел.: (495) 682-61-02
E-mail: post@cogito-shop.com, cogito@bk.ru www.cogito-centre.com
Сдано в набор 20.03.11. Подписано в печать 25.03.11
Формат 60 х 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная
Гарнитура
CHARTER. Усл. печ. л. 26. Уч.-изд. л. 18 Тираж 2000 экз. Заказ ![]()
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — Вятка»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА (ИППП)
г. Москва
Существует с 1991 г. www.psychol.ru
Гос. лицензия NQ 7024, от 23 мая 2006 г.
Гос. аккредитация N2 0171 от З июля 2006 г.
Диплом открытого конкурса вузов России от Министерства образования в 2002 г. за вклад в методическое обеспечение подготовки психологов
Ректор — проф. Елена Спиркина, тренинг-терапевт ОПП, кандидат МПО-МПА
Зав. психоаналитической кафедрой — Елена Смирнова, член ОПП, кандидат МПО-МПА
Зав. курсом специализации по психоаналитической психотерапии — проф. Михаил Ромашкевич, тренинг-терапевт ОПП, экс-президент ОПП, действительный член МПО-МПА
Адрес: Москва, м. ВДНХ, ул. Ярославская 13, оф. 229
Обратиться по вопросам обучения или сотрудничества вы можете по телефону: +7(495) 682-11-14
Записаться на консультацию к специалисту вы можете по телефонам: +7(495) 682-11-14, +7906 716-16-82
МОСКОВСКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (МПО)
г. Москва
Существует с 1988 г.
www.psychoanalysis-mps.ru Учебная группа МЕЖДУНАРОДНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ (МПА) www.ipa.org.uk
Президент — Александр Феликсович Усков, тренинг-аналитик
МПО-МПА
Председатель тренингового комитета — канд. психол. наук Игорь Кадыров, тренинг-аналитик МПО-МПА
Разработка учебных программ — канд. психол. наук Екатерина
Калмыкова, тренинг-аналитик МПО-МПА
Контактный телефон: +7(495) 790-89-74
ОБЩЕСТВО ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (ОПП)
г. Москва
Существует с 1994 г. www.spp.org.ru
Действительный коллективный член взрослой и групповой секций ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ (ЕФПП) www.efpp.org
Президент — Виталий Зимин, тренинг-терапевт ОПП, действительный член МПО-МПА
Вице-президент — Анна Григорьевна Шандала, тренинг-терапевт групповой секции ОПП, тренинг-аналитик ЕГАТИН, действ. член взрослой секции ОПП, кандидат МПО-МПА
Председатель правления — проф. Михаил Ромашкевич, тренингтерапевт ОПП, действительный член МПО-МПА
Делегат ОПП в ЕФПП — Элина Зимина, тренинг-терапевт ОПП, действительный член МПО-МПА
Председатель тренингового комитета — Татьяна Грачева, тренинг-терапевт ОПП, кандидат МПО-МПА
Обратиться по вопросам членства или сотрудничества вы можете по телефону или по электронной почте:
Ученый секретарь ОПП — Ирина Шибаева, тренинг-терапевт ОПП, действительный член МПА: +7903 197-00-54, irshibaeva@ yandex.ru
Записаться на консультацию к специалисту вы можете по телефону или по электронной почте:
Секретарь ОПП — Людмила Антонова, ассоц. член ОПП, кандидат
МПО-МПА: +7(495) 315-37-54, antonova-8@yandex.ru
[1] См.: Clinical Studies in Benign and Malignant Cases of Childhood Psychosis — Schizophrenia-Like // Ат. Ј. 0rthopsychiatry, 19: 297, сноска.
[2] См.: Оп Symbiotic Child Psychosis: Genetic, Dynamic and Restitutive Aspects // The Psychoanalytic Study of the Child, V. 10. New York: International Universities Press. Р. 195—212.
З Mahler М. S. New York: International Universities Press, 1968.
[3] См.: The Psychoanalytic Study of the Child, V. 18. New York: International Universities Press. Р. 325—342.
[4] Mahler and Furer. Description of the Subphases. History of the Separation-individuation Study. Presented at Workshop IV. Research in Progress. American Psychoanalytic Association, St Louis, Мау 4, 1963; and Mahler, Studies ofthe Process of Normal Separation-individuation: the Subphases. Presented to the Philadelphia Psychoanalytic Society, November 15, 1963.
[5] Нам известно, что не любой импульс как таковой является сепарационным, а только внутренне заданный импульс, побуждающий к индивидуации, которая не может быть достигнута без автономной сепарации.
зо
[6] См.: Hartmann, Е. kris, Loewenstein, 1946.
[7] Весьма значимая работа Кестенберга свидетельствует о том, как много мы можем узнать из двигательных паттернов матери и ребенка (kestenberg. 1965а, 1965b, 1967а, 1971). К сожалению, использование генеральной линии, согласно которой моторные, особенно экспрессивные или аффектомоторные феномены могли бы более специфично и доступно использоваться в качестве индикаторов внутрипсихических процессов, осталось за рамками нашего исследования. Хочется верить, что подобный проект будет реализован исследователями в будущем.
[8] Данный сеттинг, как выяснилось, был гораздо более удачно организован, нежели последующий, когда по причине расположения входной двери и общего архитектурного решения комнаты взаимодействие матерей, самых маленьких детей и тоддлеров стало более запутанным.
[9] В личной беседе.
[10] Только гораздо позднее в своей работе «Отрицание» (S. Freud, 1925) Фрейд более подробно обрисует приобретение в ходе развития тестирования реальности, которое формируется, когда образ потерянного объекта может или не может быть заново найден при помощи восприятия.
[11] Бенджамин с соавт. (Benjamin, 1961) отметили интересный психологический кризис приблизительно в возрасте 3—4 недель. В это время происходит кризис созревания. Подтверждено электроэнцефалографическими исследованиями и наблюдениями, что отмечается возрастание общей чувствительности к внешней стимуляции. «Без вмешательства материнской фигуры с целью уменьшения напряжений маленький ребенок в это время может оказаться затоплен стимулами, что приводит к усилению плача и другим моторным проявлениям недифференцированного негативного аффекта».
[12] Широко известная периферическая болевая нечувствительность, так же как и вызывающая панику гиперсензитивность к энтероцептивным («темным») ощущениям, приравниваемая к плохим интроектам у психотиков, является тому доказательством.
[13] Это также яркий пример того, что подчеркивала Филлис Гринакр (Greenacre, 1959), а именно что тело ребенка представляет пенис в материнском бессознательном. Мы не раз видели подобное в случае наших матерей, но решили не освещать это в какой-либо отдельной части нашего исследования.
[14] Когда домой приходил отец или прибывали гости, Карл даже в возрасте 16 месяцев прятался за стулом или стойкой перил, наклоняя голову или прижимаясь к полу; неожиданно он поднимал голову и вставал, показывая звуками, что он хотел, чтобы взрослые воскликнули: «Вот он где!».
[15] д-р Гринакр недавно решила скорректировать свою ранее отстаиваемою точку зрения, что этот последний фактор является таким важным качеством переходного объекта.
[16] Мы можем проиллюстрировать это поведение видеозаписью.
[17] В 1960—1962 гг. мы немного экспериментировали с паттерном подстраивания (ср.: Mahler, La Perriere, 1965). Мы не только наблюдали адаптацию телесного контура младенца по отношению к матери, но и регистрировали сами тип того, как ребенок подстраивается у нас на руках. Мы описали эти сенестетические ощущения (coenesthetic sensation) как «хорошая подстройка», «прилипчивый», «жесткий-как-доска», «похожий-на-мешок-с-картошкой» и т. д.
[18] Мы убеждены, что львиная доля адаптации должна быть связана с несформированностью и податливостью ребенка, это не означает, что материнское отношение не должно видоизменяться в соответствии с требованиями процесса сепарации-индивидуации; со стороны матери до определенной степени также должна произойти адаптация.
[19] Личное сообщение.
[20] двойной психоз (фр.).
[21] Хотя и отличное по форме, такое сохранение отсутствующей матери в бодрствующем состоянии при сниженной тональности при помощи активного воображения имеет параллели с тем, что обсуждалось у Льюина (Lewin, 1946) и Исаковера (Isakower, 1938) как воскрешение в памяти старых «потерянных миров» во снах и просоночных состояниях.
[22] Под «следованием тенью» мы имеем в виду непрерывную слежку, осуществляемую ребенком, и следование за каждым движением матери.
[23] Непременное условие (лат.).
[24] В момент формирования (лат.).
[25] Последующее исследование проводилось Джоном Б. Макдевиттом совместно с Анни Бергман, Эммаджин Камайко и Лорой Салчоу, а также с Малер в качестве консультанта. Оно спонсировалось правлением Специализированного детского центра и отчасти Исследовательским фондом М. С. Малер и организацией Менил.
[26] Ср. исследования Макдевитта по образу в зеркале (неопубликованные).
[27] Делал это не так спокойно, как другие мальчики.
[28] В стесненных условиях, в которых жило семейство М., наблюдение первичной сцены казалось неизбежным.
[29] Некоторые объяснительные основы психодинамики приступов гнева были предложены М. С. Малер в ее «тиковых» исследованиях (Mahler, Luke, 1946; Mahler, 1949а).
[30] Нам неизвестно, следует ли расценивать подобную аффективную реакцию в таком раннем возрасте как идентификацию с агрессором или проективную идентификацию.
[31] Во время написания этой книги мы еще не успели полностью проанализировать наши данные, чтобы недвусмысленно определить время и контекстуальные факторы появления несинкретичного Я.
[32] Дж. Б. Макдевитт в своих еще не опубликованных работах и дискуссиях значительно расширил критерий либидинальной константности объекта в том же направлении, как это представлено в данной книге.
[33] Среди психоаналитиков только Якобсон (Jacobson, 1964) относит проблемы объединения образов Я и объектов к третьему году.
[34] Мы узнали, что подобные интенсивные сепарационные реакции на самом деле имели место не сразу при его поступлении в детский сад, а несколькими месяцами позже (см.: Speers et al., 1971; Speers, 1974).
[35] Миссис А. в целом недооценивала свою значимость для сына. Поэтому она была склонна приписать его трудности приучению к туалету, а не тому факту, что ему трудно было смириться с ее выходом на работу.
[36] Как в реальности, так и в ее психическом образе она и мать казались принадлежащими синкретическому единству. Казалось, это было для донны sine qua поп (необходимым условием) для переживания «идеального состояния Я».
[37] М. С. Малер называла такую неосязаемую обоюдную настроенность друг на друга ребенка и его матери (даже разделенных пространством) «невидимой пуповиной».
[38] Один сотрудник наблюдал ярко выраженный гнев и необычно сложные реакции ревности у донны в этом возрасте. Этот важный факт нельзя пропустить, хоть он и не лежит на поверхности. Между 14-м и 15-м месяцем Донна была самым агрессивным ребенком из всех и вела себя наиболее вызывающе.
[39] С другой стороны, как мы увидим позже, в ситуации с сиблингами, так же как и во взаимоотношениях мать—дитя, «плохая» сторона была смещена на детей в Центре.
[40] Казалось, это представляло собой смесь поведения, типичного для периода воссоединения, и регрессии к более ранним реакциям на расставания.
[41] Мы не могли не предположить, что такое особенное отвержение «отличных-от-матери» женщин являлось в случае Венди специфически смещенной экстернализацией «плохой» стороны матери, индивидуальной формой расщепления.
[42] Следует отметить, что у Венди никогда не было переходного объекта, а также, в отличие от остальных детей, она была равнодушна к бутылочке, даже в ночное время.
[43] Мы можем четко проследить в этом примере, как в возрасте 11 месяцев дополнительная фрустрация и травма мобилизовали целеориентированную агрессию у Тедди.
[44] Такое сверхвозбуждение наблюдалось у многих детей в возрасте, предшествующем наступлению фаллической фазы.
[45] В момент образования (лат.).
[46] Это исследование было выполнено в 1959 г. д-ром медицины М. Фюрером и д-ром философии Энн Хэберле Райсс с привлечением одного из авторов данной книги Анни Бергман. Оно было продолжено М. С. Малер и д-ром Фюрером как ведущими соисследователями при участии нескольких других наблюдателей, большинство из которых также параллельно были задействованы в исследовании «Симбиотические детские психозы» (см. также: благодарности и введение к данной книге).
[47] Последующее беглое знакомство показало, что консолидация индивидуального Эго ребенка и констелляция влечений во второй половине третьего года жизни остается во многих аспектах характерной для его последующего развития.
Дальнейшие проверки, в особенности психологические тесты, показали, что несмотря на то, что фаллически-эдипальная фаза и ее разрешение могут существенно повлиять и изменить базовые личностные характеристики трех лет в их адаптивных и защитных аспектах, трехлетний ребенок в том виде, в каком он существует на этом этапе, будет «проглядывать» сквозь все последующие слои развития.
[48] Психоаналитические наблюдатели, особенно те, кто участвовал в исследовании-наблюдении превербальной фазы, были всегда озабочены и даже одержимы идеей обнаружить ранние переменные, отличные от когнитивных факторов, которые можно было бы измерить и которые могли бы помочь в предсказании дальнейшего развития; и хотя нам было известно, что следует быть весьма скромными и непритязательными, даже такое ограниченное лонгитюдное исследование, как наше, помогло нам еще больше это осознать. Нам следует напоминать себе снова и снова, что че-
[49] Мы не упускаем из вида тот факт, что валидное оценивание результатов невозможно до тех пор, пока не будут преодолены как эдипальный, так и постэдипальный, т. е. латентный и подростковый периоды.
[50] С нашей точки зрения, «энергетический посыл» маленького ребенка, его врожденная способность инициировать тот вид материнского отношения, который ему нужен, должен быть выделен как особенно важный атрибут этой одаренности; данный аспект врожденных задатков является основой для выводимых в данной книге предположений.
[51] Стало однозначно очевидно, что произвольным образом набранная выборка «среднестатистических матерей» не обязательно составит группу матерей той категории, которая у Винникотта обозначена как «достаточно хорошая мать».
[52] В ходе обработки наших данных мы часто сталкивались с тем, что даже на самых ранних фазах развития младенцев и тоддлеров генетические и динамические сверхдтерминанты играли роль в создании конфликтов развития и кризисов, в которых проблема иерархии оказывающих влияние факторов могла быть лишь пробно определена, но никоим образом не разрешена (ср. Waelder, 1960).
[53] Эти двое или трое детей не были индивидуально описаны в данной книге.
[54] Мы позаимствовали термин «эго-ядра» у Гловера (Glover, 1956).
[55] Имеет особое значение, что эти паттерны отгораживания, казалось, открыли путь к интроективной идентификации с матерью
[56] Начиная с 14—16 месяцев следует искать поведенческие и символические признаки того, удалось ли вытеснению предотвратить тенденцию к более постоянному и злокачественному расщеплению. Мы полагаем, что именно способность к вытеснению примитивного, но в то же время отчасти структурированного Эго является тем, что наряду с многими другими факторами обеспечивает по-
[57] Определение эмоционального фона как феномена, отличного от понятия аффекта, занимало умы многих исследователей. Мы полагаем, что обсуждение данного пункта у Эдит Якобсон (Jacobson, 1953) является наиболее приемлемым и релевантным нашим целям. В нашем случае мы понимаем эмоциональный фон как общую тенденцию реагировать на внутренние и внешние стимулы позитивными или негативными аффектами.
[58] Амбитендентность понимается как сменяющие друг друга противоположно направленные действия. Они могут чередоваться с большей или меньшей частотой. На более поздних стадиях развития конфликтующие противоположные импульсы, отыгрываемые в амбитендентном поведении, интернализуются в виде конфликта амбивалентности (см.: Mahler, McDevitt, 1968, р. 11).
зоз
[59] Мы знаем по крайней мере двух детей, у которых сверхинфляция их чувства всемогущества и грандиозности, избыток их раннего нарциссизма, усиливаемый отзеркаливающим восхищением матери и окружающего мира взрослых, оказалась однозначно неблагоприятной для их способности заменить веру в магическое всемогущество здоровым вторичным нарциссизмом и дальнейшей способностью доверять «хорошему» объектному миру. С другой стороны, мы наблюдали нескольких мальчиков и девочек, у которых адаптивная и защитная организация позже в их жизни — возможно, во время разрешения эдипова комплекса — вполне скорректировала однозначно фрустрирующее раннее субфазное развитие.
[60] В момент образования (лат.). 2 На живом организме (лат.).
[61] Мы намеренно не стали детально разбирать подобные нарушения в данной книге.
[62] Некоторые дети по различным причинам оставались с нами до возраста, превышающего 36 месяцев. Тем не менее в исследовании они находились только до 36-го месяца.
[63] Мы не имеем такой информации по двум детям из группы 1; здесь общее число 15 вместо 17.
З Не имеет смысла разделять их на субгруппы. Большое количество детей, рожденных вторыми и далее в группе II, связано с тем, что многие из них являются сиблингами детей, которые наблюдались ранее.
[64] К сожалению, дефицит времени, денег и человеческих ресурсов не позволил нам реализовать этот важный аспект нашей работы в достаточной степени.
[65] Впоследствии д-ра Дэвид Майер, Герман Ройфе, Вилльям Гринспон, Роберт Холтер, Джон Макдевитт и Эрнест Абелин (в этом порядке) также служили включенными наблюдателями.
[66] до возраста 5 месяцев мы снимали от 100 до 150 футов пленки на каждого ребенка ежемесячно. С 5-го по 17-й месяцы мы снимали еженедельно, в целом затрачивая ЗОО футов ежемесячно. С 17-го по 24-й месяцы мы снимали дважды в неделю (около 150—200 футов в месяц), а затем ежемесячно (около 100 футов в месяц) на третьем году жизни.
[67] Последующая дискуссия представлена в слегка видоизмененной форме в работе Ф. Пайна и М. Фюрера: Pine F., Furer М. Studies of the Separation-individuation Phase: А Methodological 0verview // The Psychoanalytic Study of the Child. 1963. V. 18. New York: International Universities Press. Р. 325-341.
[68] д-р Джон Макдевитт проявил особенную активность в формировании этого вида обработки старых данных.
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.