
психологии
Рональд Блэкборн психология
КРИМИНАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Упптгр
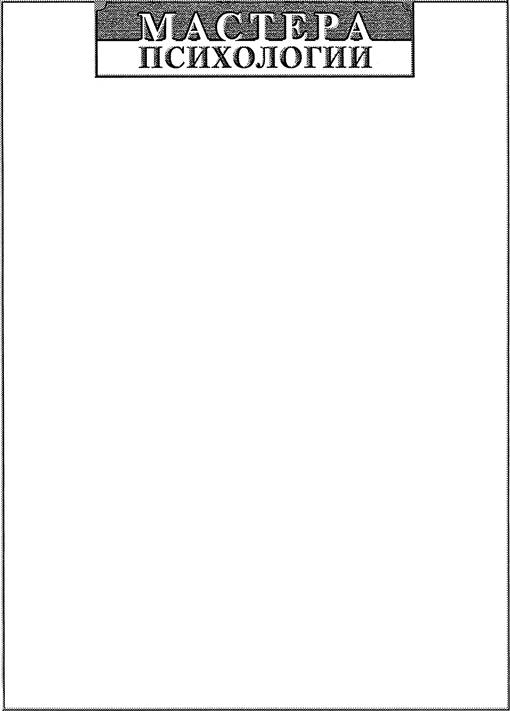
Ronald Blackburn
The Psychology of Criminal Conduct
Theory, Research and Practice
JOHN WILEY & SONS, LTD
Chichester • New York • Weinheim • Brisbane • Singapore • Toronto
Рональд Блэкборн
психология
КРИМИНАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
упптеро
Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж
Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев • Харьков • Минск
2004
ББК 88.4
удк 159.9:34
Б7О
Б7О Психология криминального поведения Р. Блэкборн. — СМ.: Питер, 2004. — 496 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 5-318-00622-1
Научное исследование преступности — область, которая интересует представителей многих дисциплин, и каждая из этих дисциплин вносит свой вклад в ее понимание. Данная книга представляет собой учебное пособие, ориентированное на широкий круг специалистов. В первой ее части рассматриваются основные понятия из области уголовного права и криминологии, исследуется сущность преступной деятельности с точки зрения социологии, психиатрии и психологии. Вторая часть будет более полезна специалистам-практикам, поскольку в ней отражены специфические виды работы с различными типами пресупников. Еще одна особенность данной книги в том, что она учитывает интернациональный контекст и в ней описываются правовые системы, действующие в разных странах.
Книга может быть рекомендована широкому кругу психологов, включая тех, кто обучается юридической психологии и криминологии, а также другим специалистам в области психического здоровья и
уголовного права.
ББК 88.4 удк 159.9:34
|
|
Chichester, West Sussex РО19 1 UD, England |
|
lSBN 0-471-96175-2 (англ.) |
О Перевод на русский язык ЗАО Издательский дом «Питер», 2004 |
|
lSBN 5-318-00622-1 |
ЗАО Издательский дом «Питер», 2004 |
Оглавление
Предисловие![]()
Глава 1. Преступность, криминология и
психология![]()
Введение![]() 10
10
Уголовное право и система уголовного
правосудия![]() . 12
. 12
Философские концепции наказания![]() .
21
.
21
Исследование преступности![]() 27
27
Философия науки и объяснение преступности![]() .
40
.
40
Психология и криминология![]() . 45
. 45
Глава 2. Показатели преступности:
количественный и качественный анализ преступлений![]() . 50 Введение
. 50 Введение![]() 50
50
Оценка преступности![]() 50
50
Юридическое преследование правонарушителей
. . . . . . . . . . . .![]() . 61 Демографические корреляты
преступности
. 61 Демографические корреляты
преступности![]() 66 пол
66 пол![]() 69 Общность и
преемственность в преступности и делинквентности
69 Общность и
преемственность в преступности и делинквентности![]() 73
73
Глава З. Классификация преступников![]() .
81
.
81
Введение![]() 81
81
Классификация в криминологии![]() 83
83
Классификации, получаемые теоретически![]() .
85
.
85
Эмпирические классификации![]() 89
89
Психиатрическая классификация и
антисоциальное поведение![]() . 95 Психопатическая личность и
расстройство личности
. 95 Психопатическая личность и
расстройство личности![]()
Глава 4. Социальные и средовые теории
преступности![]() . 111
. 111
Введение![]() 111
111
Социологические теории .![]() 112
112
Теории научения![]() 119
119
Перспектива рационального выбора![]() 130
Делинквентность как самопрезентация .
130
Делинквентность как самопрезентация .![]() . 137
. 137
Глава 5. Индивидные и комплексные теории
преступности![]() . 139
. 139
Введение![]() . 139
. 139
Психоанализ и преступность![]() .
139 Теория криминальности Айзенка
.
139 Теория криминальности Айзенка![]() 145
145
Когнитивная теория развития![]() 158
158
Комплексные теории![]() 164
164
Глава 6. Биологические корреляты
антисоциального поведения![]() . 168
. 168
Введение![]() 168
168
Генетика и криминальность![]() 169
Конституциональные исследования
169
Конституциональные исследования![]() 176
176
Оглавление
![]()
Психофизиологические и биохимические
исследования![]() . 178 Дисфункция мозга и антисоциальное
поведение
. 178 Дисфункция мозга и антисоциальное
поведение![]() 189
189
Глава 7. Семейные и социальные корреляты
преступности![]() . 198
. 198
Введение![]() 198
198
Семейные структуры и взаимодействия![]() 198
Влияние школы и группы сверстников .
198
Влияние школы и группы сверстников .![]() . 213
. 213
Работа и вступление в брак![]() 221
221
Защитные факторы![]() . 223
. 223
Глава 8. Отличительные особенности
преступников![]() . 226
. 226
Введение![]() . 226
. 226
Интеллект, учебные достижения и
познавательная деятельность![]() . 227
. 227
Самоконтроль и импульсивность![]() .
233 Аттитюды, ценности и убеждения
.
233 Аттитюды, ценности и убеждения![]() 239
239
Социокогнитивные и межличностные навыки .![]() .
248
.
248
Глава 9. Агрессия и насильственные
преступления![]() . 255
. 255
Введение![]() . 255
. 255
Определение насилия и агрессии .![]() .
255
.
255
Формы насилия![]() . 258 Теории агрессии
. 258 Теории агрессии![]() .
262
.
262
Антецеденты агрессии![]() . 273
. 273
Личность и агрессия![]() 281
281
Цикл насилия![]() 290
290
Глава 10. Преступление и психическое
расстройство![]() . 297
. 297
Введение![]() . 297
. 297
Психическое расстройство и медицинская
модель![]() . 298
. 298
Закон и психическое расстройство![]() .
зоз
.
зоз
Преступники с психическими
расстройствами![]() . зоз Психическое расстройство и
преступление
. зоз Психическое расстройство и
преступление![]() . 319 Психическое расстройство и насилие
. 319 Психическое расстройство и насилие![]() .
324 Лишение свободы и психическое здоровье .
.
324 Лишение свободы и психическое здоровье .![]() . 330
. 330
Глава 11. Сексуальные отклонения и половые
преступления![]() . 337
. 337
Введение![]() . 337
. 337
Половые девиации![]() . 337
. 337
Половые преступления и лица, совершающие
их![]() . 341
. 341
Теории сексуальной девиантности . . .![]() .
345
.
345
Эксгибиционизм![]() . 348
. 348
Сексуальная агрессия![]() . 350
. 350
Половые преступления против детей![]() .
363
.
363
Глава 12. Судебная психология и преступник![]() .
371
.
371
Введение![]() . 371
. 371
Психологи и полицейские расследования . .![]() .
372
.
372
Психологи и уголовные суды![]() .
378 Предсказание в криминологии
.
378 Предсказание в криминологии![]() . 386
. 386
Клиническое предсказание опасности![]() 393
393
Оглавление 7
![]()
Глава 13. Психологические вмешательства при работе с преступниками 402
Введение ![]() . 402
. 402
Психологические услуги для преступников . ![]() .
405
.
405
Психодинамические и гуманистические
вмешательства . ![]() . 409
. 409
Прикладной анализ поведения ![]() . 413 Когнитивная
модификация поведения
. 413 Когнитивная
модификация поведения ![]() . 422
. 422
Глава 14. Лечение опасных преступников ![]() .
436
.
436
Введение ![]() . 436
. 436
Проблемы лечения судебно-психиатрических
популяций ![]() 436
436
Лечение лиц, совершивших половое
преступление ![]() . 438
. 438
Органические методы лечения ![]() 440
440
Вмешательства, применяемые в работе с агрессивными преступниками 447
Лечение психопатии и расстройств личности![]() 455
455
Глава 15. Эффективность и этика вмешательства![]() .
466
.
466
Введение![]() . 466
. 466
Первичная и вторичная профилактика![]() 466
«Ничто не работает» — действительно ли это так?
466
«Ничто не работает» — действительно ли это так?![]() . 476
. 476
На пути к успешному вмешательству![]() .
479
.
479
Ролевые конфликты и этические проблемы психологов, работающих
в системе уголовной юстиции ![]() 486
486
Предметный указатель ![]() . 491
. 491
Предисловие
Когда Фрейзер Уоттс предложил мне написать для клинических психологов книгу об антисоциальном поведении, мне показалось, что это хорошая идея. В течение нескольких лет я читал стажерам, специализирующимся в области клинической психологии, лекции о криминальном поведении и применении психологии в судебной практике и уже давно испытывал неудобства из-за отсутствия учебника, в котором всесторонне освещались бы все необходимые темы. Кроме того, поскольку за последнее десятилетие существенно расширился круг психологических услуг, предоставляеМЫХ правонарушителям с психическими расстройствами, в настоящее время возрастает количество клинических психологов, работающих в области, которая находится на стыке систем уголовного правосудия и психического здоровья. Поэтому мне казалось, что настало время восполнить этот пробел в психологической литературе на данную тему.
Если бы я представлял себе, насколько сложна эта задача, мой энтузиазм не был бы столь горячим, в частности потому, что в конце концов я написал учебник с более широкой тематикой, чем планировалось вначале. Когда я стал собирать воедино наиболее важные базовые сведения, необходимые клиническим психологам, которые готовятся к профессиональной работе с преступниками, мне стало ясно, насколько искусственны наши научные и административные категории. Правонарушители, которых направляют в психиатрические учреждения, не представлйют собой четко определенной группы ни с точки-зрения имеющихся у них психических расстройств, ни с точки зрения совершенных ими преступлений; в то же время профессиональные интересы и проблемы психологов, работающих в этих учреждениях, часто оказываются такими же, как у их коллег, работающих в исправительных и воспитательных учреждениях. Чтобы понять, каким образом расстройство душевной деятельности иногда способствует совершению преступлений, необходимо также учитывать множество других факторов. Кроме того, не существует четкой границы между психологическими методами изучения преступности и работы с преступниками и методами, которые используют представители других наук о поведении и социальных наук. Поэтому клинические психологи, работающие с правонарушителями, должны обладать подготовкой как в области прикладной криминологии, так и в области психиатрии.
Таким образом, главной целью этой книги является обобщение теоретической информации и эмпирических данных, составляющих основу клинической психологической практики, однако я попытался представить эту информацию в более широком контексте психологии преступности. Я также время от времени вторгался на территорию социологов, юристов, философов и психиатров, однако полностью признаю, что не являюсь специалистом в этих областях. Некоторые из моих концепций, несомненно, являются недостаточно четкими или слишком упрощенными. Тем не менее я ставил перед собой цель не столько ответить на вопросы, которые встают при попытках объяснить преступное поведение или провести вмешательство, сколько привлечь к ним внимание. Кроме того, я пытался показать, что практическая работа пси-
Предисловие 9
![]()
хологов неизбежно зависит не только от достижений в области теоретической и экспериментальной психологии, но и от общей интеллектуальной атмосферы, в которой ведется эта работа.
Книга состоит из двух частей. В первой части рассматриваются основные понятия из области уголовного права и криминологии и исследуется сущность преступной деятельности с точки зрения социологии, психиатрии и психологии. Основные психологические теории подвергаются критической оценке и предлагается обзор исследований, посвященных биологическим, семейным, социальным и индивидуальным коррелятам правонарушений. Вторая часть посвящена темам, представляющим особый интерес для специалистов-практиков. Рассматриваются теоретические концепции и исследования, связанные с такими темами, как насилие, связь между психическими расстройствами и преступлениями, сексуальные преступления, а также оценивается вклад психологов в исследования в области уголовного права, прогнозирование и принятие судебных решений. В заключительных главах описываются психодинамическиЙ, поведенческий и когнитивный подходы к реабилитации правонарушителей, методы обращения с опасными преступниками, методы профилактики преступлений, оценка эффективности психологического вмешательства и этика его проведения.
В учебнике обобщается имеющаяся в настоящее время информация, поэтому он, в сущности, является обзором исследований и трудов других авторов. С моей стороны было бы глупо претендовать на то, что я был абсолютно объективен при отборе литературы, и в книге со всей очевидностью прослеживаются мои собственные склонности и предпочтения, в последнее время отдаваемые социально-когнитивному направлению в исследованиях и методах вмешательства. Тем не менее я надеюсь, что мне удалось избежать узкотеоретической направленности. Я также надеюсь, что благодаря столь широкой тематике книги она будет полезна широкому кругу психологов, включая тех, кто обучается юридической психологии или криминологии, а также другим специалистам в области психического здоровья и уголовного права, которые опираются на психологические концепции преступщсти.
![]() Хотя автор пишет книгу один, он испытывает влияние
других людей и получает от них поддержку, поэтому я с удовольствием выражаю
свою признательность нескольким людям. Среди преподавателей, коллег и
студентов, способствовавших возникновению и формированию моих научных
интересов, мне хотелось бы выделить Тони Блэка, который поддерживал меня в
начале моей клинической и исследовательской деятельности в госпитале Broadmoor,
и Гордона Треслера, чьи идеи, касающиеся психологии преступности, отличались
удивительной ясностью и разжигали мой собственный энтузиазм. Я также весьма
признателен Дэвиду Фарринггону, Клайву Холлину, Джеймсу Макгиру, Рону Таллочу и
Норману Уэтерику за то, что они не пожалели времени на чтение рукописи
отдельных глав, и за их ценные замечания, которые помогли устранить некоторые
недочеты. Излишне говорить о том, что они никоим образом не виноваты в тех
недостатках книги, которые не удалось устранить. Я также благодарен Фрейзеру
Уоттсу, редактору серии, и Уэнди Хадласс из издательствајо/гп Wiley 83 Sons за
то, что они не только с терпимостью относились к срыву сроков, но и
поддерживали и воодушевляли меня в периоды уныния. Наконец, я должен
поблагодарить мою жену, Селию, за поддержку и терпение в течение длительного
периода напряженной работы.
Хотя автор пишет книгу один, он испытывает влияние
других людей и получает от них поддержку, поэтому я с удовольствием выражаю
свою признательность нескольким людям. Среди преподавателей, коллег и
студентов, способствовавших возникновению и формированию моих научных
интересов, мне хотелось бы выделить Тони Блэка, который поддерживал меня в
начале моей клинической и исследовательской деятельности в госпитале Broadmoor,
и Гордона Треслера, чьи идеи, касающиеся психологии преступности, отличались
удивительной ясностью и разжигали мой собственный энтузиазм. Я также весьма
признателен Дэвиду Фарринггону, Клайву Холлину, Джеймсу Макгиру, Рону Таллочу и
Норману Уэтерику за то, что они не пожалели времени на чтение рукописи
отдельных глав, и за их ценные замечания, которые помогли устранить некоторые
недочеты. Излишне говорить о том, что они никоим образом не виноваты в тех
недостатках книги, которые не удалось устранить. Я также благодарен Фрейзеру
Уоттсу, редактору серии, и Уэнди Хадласс из издательствајо/гп Wiley 83 Sons за
то, что они не только с терпимостью относились к срыву сроков, но и
поддерживали и воодушевляли меня в периоды уныния. Наконец, я должен
поблагодарить мою жену, Селию, за поддержку и терпение в течение длительного
периода напряженной работы.
Рон Блэкборн
Ливерпуль, октябрь 1992
![]()
ГЛАВА 1
Преступность, криминология и психология
Введение
В этой книге описывается вклад психологии в наше понимание преступности и способы ее сдерживания. Информация излагается с точки зрения психологии не только как общественной науки и науки о поведении, но и как прикладной дисциплины, целью которой является разрешение проблем отдельных людей и социальных систем, частью которых являются эти люди. Это не означает, что преступность можно считать чисто психологическим явлением или что психология может дать ответы на главные вопросы, касающиеся сдерживания и профилактики преступности. Эти вопросы невозможно разрешить в рамках какой-либо одной дисциплины. Любые заявления о том, что найдены «научные» решения «проблемы преступности», также не соответствуют действительности, поскольку виды поведения, которые общество считает необходимым наказывать с помощью законов, а также отношение к правонарушениям зависят от нормативных этических систем. Наука может снабжать эти системы информацией, но не может заменить их.
Представители многих научных дисциплин проявляют интерес к преступности. Первые попытки научного Объяснения преступности, основанные на многовековых философских дебатах, были предприняты в конце XIX в. в связи с быстрым развитием биологических и социальных наук. В исследование преступности внесли свой вклад антропологи, статистики и экономисты, и все же наиболее важные теории были созданы социологами, психологами и психиатрами. Однако, несмотря на то что сферы интересов этих дисциплин частично совпадают, эти теории были созданы в атмосфере взаимного игнорирования, если не антипатии. В этом частично отражаются давние идеологические споры между теми, кто считает причиной преступности порочность, изначально присущую некоторым людям, и теми, кто объясняет преступления развращающим влиянием несправедливого общества. Тем не менее даже в рамках отдельных дисциплин никогда не было ясности по поводу того, следует ли осуждать или романтизировать преступника.
Интерес психологов к преступности и праву возник с момента становления психологии как эмпирической дисциплины. Лайтнер Уитмер, пионер клинической психологии, читал курс лекций о криминальном поведении в университете штата Пенсильвания еще до основания первой психологической клиники в 1896 г. (McReynolds, 1987), а Г. Стэнли Холл описал исследования несовершеннолетних
Введение 1 1
![]()
правонарушителей в солидной книге о подростках, опубликованной в 1904 г. Эмпирическое исследование поведения в суде привлекло всеобщий интерес вскоре после публикации книги Мюнстерберга Оп The Witness Stand («Свидетельские показания») в 1908 г. Клиника Уитмера, которая была открыта в 1909 г. и получила название Чикагского института подростковой психопатии, стала образцом первой клиники по перевоспитанию малолетних правонарушителей. Первыми сотрудниками этой клиники стали психиатр Уильям Хили и психолог Грейс Ферналд. Со временем педагогические, клинические и тюремные психологи стали оказывать систематические услуги судам, пенитенциарным учреждениям и отдельным правонарушителям, и в первой половине ХХ столетия в американских университетах больше всего диссертаций по криминологии было написано- психологами (Brodsky, 1972). Тем не менее интерес к преступности всегда проявляли лишь немногие психологи.
Однако за последние два десятилетия интерес к работе в системе правосудия возрос (Monahan, Loftus, 1982), о чем свидетельствует основание секции психоломи и права как в Британском психологическом обществе, так и в Американской психологической ассоциации и издание специальных журналов, а также более дюжины книг по проблемам юридической психологии (см., напр.: Haward, 1981; Muller, Blackman & Chapman, 1984; Weiner, Hess, 1987). Психологов интересует не только поведение свидетелей, потерпевших или сотрудников правоохранительных органов — правовые ситуации оказались плодородной почвой для проверки теорий, касающихся таких проблем, как узнавание и память, принятие решений или изменение аттитюдов. Хотя в британских судах психологи реже выступают в качестве экспертов, чем в Америке, им отводится определенная роль как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве. Кроме того, психологи участвуют в правовом процессе, занимаясь отбором и подготовкой полицейских и мировых судей, разработкой методов снятия стресса у работников полиции и консультированием органов правового надзора по таким вопросам, Как, например, допрос свидетелей-детей или использование полиграфа в качестве «детектора лжи».
Прикладное использование психологии в осуществлении правосудия сейчас опирается на сведения, относящиеся практически ко всем специальным областям экспериментальной и прикладной психологии, и столь многогранно, что все его аспекты невозможно объединить под общим названием или осветить в одной книге. Психолого-правовые исследования ориентированы скорее на обеспечение правопорядка и систему уголовного судопроизводства, чем на изучение криминального поведения, и эта двойная цель отражена в названии Отдела криминологической и юридической психологии, образованного в Британском психологическом обществе в 1977 г. для отражения сходных интересов нескольких дисциплин. Однако главной целью этой книги является описание психологических концепций криминального поведения и применения психологических принципов и методов в работе по перевоспитанию правонарушителей. Поэтому главное внимание уделяется криминологической психологии, а более общие аспекты, находящиеся на стыке психологии и права, рассматриваются только в тех случаяхт, когда они имеют отношение к пониманию криминального поведения.
Преступность — это правовое понятие: «преступлением (или правонарушением) называют нарушение правовых норм, за которым может последовать уголовное преследование и возможное Наказание» (Williams, 1978). Криминология изу-
12 1.
![]()
чает такие действия, а также законы, согласно которым они считаются преступными, и средства, которыми общество пытается сдерживать и предотвращать их. Однако уголовное право не связано с четко очерченной областью человеческого поведения, поэтому преступления невозможно выделить в отдельную категорию поведенческих феноменов. Более того, криминология не является единой дисциплиной. Психологи и психиатры исследуют криминальное поведение, чтобы выявить индивидуальные человеческие склонности, в то время как социологи изучают преступность, поскольку она многое может рассказать об обществе. Остальная часть этой главы посвящена рассмотрению сущности уголовного права, уголовного правосудия и криминологии.
Уголовное право и система уголовного правосудия
Уголовное право — это свод законов, в которых даются определения преступлений и указывается то, как следует поступить с преступниками. Большая часть права Англии и Уэльса, США и стран Британского Содружества воплощена в законах, принятых законодателями, но ведет свое происхождение от общего права (соттоп [аш), т. е от права, общепринятого в Англии после объединения с норманнами и существующего как традиция судебных решений. Эти правовые системы отличаются друг от друга и от систем, принятых в Шотландии и в континентальных европейских странах, и в законодательствах различных американских штатов тоже имеются различия. Тем не менее во всех развитых странах законом карается поведение, которое в англо-американском праве описывается как государственная измена, убийство, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах, воровство, ограбление, кража со взломом, поджог и изнасилование. Эллис (Ellis, 1987) предполагает, что эта универсальная озабоченность причиняющим вред поведением имеет под собой эволюционную основу, поскольку все животные, живущие группами, отрицательно реагируют на причинение вреда членам своей группы.
Закон определяет последствия определенных действий; в нем оговаривается, что эти действия повлекут за собой законное наказание. Тем не менее запрещенные законом действия и полагающиеся за них наказания различны, и сформулировать определение закона так же трудно, как определение здоровья и болезни.
По своим функциям уголовное право похоже на другие системы правил. Как писаные, так и неписаные правила регламентируют поведение людей во многих ситуациях и способствуют достижению общих целей, регулируя деятельность членов группы. Когда люди, например, играют в различные игры, участвуют в работе комитетов, разговаривают или вступают в какие-либо отношения, их поведение подчиняется похожим на правила неписаным законам, которые продиктованы обычаями, традициями и нравами определенной социальной группы. Социологи и социальные психологи называют такие правила нормами, под которыми понимают принятые стандарты, т. е. обычные, ожидаемые, допустимые способы действия, воплощенные в убеждениях и обычаях, разделяемых членами группы. Без подобных стандартов какие-либо действия невозможно было бы квалифициро-
1 З
![]()
вать как отклонения от нормы, нарушения традиций или антиобщественные поступки.
Тем не менее понятие нормы не подразумевает ограничения регуляторов поведения каким-то одним видом убеждений или единым стандартом (Gibbs, 1972). Обычаи — это просто распространенные и ожидаемые формы поведения, в то время как некоторые нормы, такие как половая мораль, содержат в себе оценку поведения и предписывают, какое поведение приемлемо. Кроме того, внутри социальной единицы редко достигается полное согласие в оценках, ожиданиях или других нормативных элементах, и нормативные оценки обычно зависят от ситуации, а также от возраста, пола или статуса участников ситуации. Поэтому только в редких случаях можно сказать, что какая-либо форма поведения является единственно возможной нормой для всех членов группы без исключения.
Некоторые философы права утверждают, что законы — это просто обобщенные прогнозы решений, которые будут приняты судами при рассмотрении соответствующих дел, но Мангейм (Mannheim, 1965) считает их нормативными в той степени, в какой они являются императивами, предписывающими гражданам, как они должны поступать. Сазерленд и Кресси (Sutherland, Cressey, 1970) выделяют четыре характеристики, отличающие уголовное право от других форм социальных императивов. Во-первых, оно имеет политический характер, т. е. законы приняты государством и их исполнение обязательно для всех его граждан. Во-вторых, в законах преступлениями считаются опреДеленные действия; например, в Законе о краже (Theft Act), принятом в 1968 г., сказано, что «человек виновен в совершении кражи, если он бесчестно присвоил имущество, принадлежащее другому человеку, с намерением навсегда лишить владельца этого имущества». В-третьих, законы оДинаково применяются ко всем подпадающим под их юрисдикцию гражданам, независимо от статуса. В-четвертых, в законах предусматриваются карательные санкции, которые могут принудительно применяться уполномоченными представителями государства. Хотя во многих случаях правопорядок обеспечивается без принуждения и некоторые законы редко применяются, возможность принудительного применения является наиболее характерной особенностью законов по сравнению с другими нормативными правилами (Gibbs, 1972).
В таком случае, к выполнению какого рода правил и норм принуждает нас право? Ясно, что некоторые нормативные стандарты соблюдаются и без угрозы законного наказания за их нарушение. Например, законы в минимальной степени касаются соблюдения обычаев и траДиций, которые поддерживаются неформально, хотя традиции, касающиеся одежды, регламентируются законами против «непристойных действий». Законы некоторых стран также обеспечивают соблюдение традиций расовой сегрегации, в то время как в других странах она запрещена. Религия исторически оказывала влияние на право, хотя сейчас, после секуляризации государства, оно ослабело. Некоторое религиозное влияние сохранилось, но в основном потому, что оно отвечает чьим-либо коммерческим или политическим интересам. Например, в Великобритании и Америке религиозные фундаменталисты объединились с коммерческими фирмами и активно выступают против отмены законов, запрещающих торговлю по воскресеньям, поскольку эти законы способствуют ослаблению деловой конкуренции. В последнее время в большинстве западных стран приняты законы об абортах, гомосексуальности, контроле рож-
14 1.
![]()
даемости или самоубийствах, противоречащие доктринам господствующих в этих странах религий. В христианских странах Десять заповедей всегда лишь примерно очерчивали круг действий, которые должны осуждаться государством. Например, с точки зрения закона супружеская измена считается преступлением только в некоторых штатах США, однако во всех моногамных обществах полигамия является уголовно наказуемой.
Уже давно ведутся дебаты о связи права с моралью. Издавна существуют юридические различия между правонарушениями mala in se, т. е. поступками, дурными по своей природе, и mala prohibita, т. е. действиями, которые считаются преступными потому, что это выгодно государству. Это разграничение связано с давним философским разграничением между естественным правом и положительным, или только человеческим, правом (Mannheim, 1965). Концепция естественного права — это попытка сформулировать универсальные нравственные нормы с привлечением понятия о «божественных» или «идеальных» законах, т. е. об основных человеческих добродетелях. Развитие науки положило конец поиску такого универсального критерия, но, тем не менее, представления о «правах» и «справедливости» подразумевают существование некоторых базовых неюридических принципов, к которым должны апеллировать законы.
Вопрос о том, Должен ли закон принуждать к соблюдению морали, выплыл на поверхность после того, как в 1957 г. комиссия Уолфендена внесла предложение не считать уголовным преступлением гомосексуальное поведение взрослых людей, если оно имеет место без свидетелей и по обоюдному согласию. Некоторые юристы, согласившиеся с Джоном Стюартом Миллем, считали, что главная функция уголовного права — это предотвращение причинения вреда людьми другим людям, и законы не должны вторгаться в частную жизнь, требуя соблюдения нравственных норм. Другие возражали, что уголовное право основано на нравственности и должно по-прежнему обеспечивать соблюдение моральных принципов. Очевидно, что участники этих дебатов исходят из различных допущений о роли права в обществе, а сами дебаты отражают отсутствие консенсуса по вопросу о функциях права. Конечно, в основе многих законов лежат моральные запреты, особенно те, которые касаются сексуального поведения, употребления наркотиков или азартных игр, из-за чего многие правонарушения являются преступленими без жертвы, т. е. без причинения вреда другим людям. Однако Мангейм (Mannheim, 1965) предполагает, что хотя право и мораль — это частично пересекающиеся наборы нормативных стандартов, между ними можно провести четкую границу. В частности, в законах говорится главным образом о явных действиях и выполнении правил, а не о скрытых мотивах, и они запрещают совершать определенные поступки, а не испытывать желание их совершить. Тем не менее в некоторых случаях бездействие также является преступлением, например, если человек не кормит собственных детей.
Поэтому, как система норм и правил, право частично совпадает с другими нормативными элементами, регулирующими поведение. Уокер (Walker, 1987) обобщил социальные функции права, выделив четырнадцать функций. Это защита людей от преднамеренного или непреднамеренного нанесения вреда или эксплуатации; предотвращение «противоестественного» или оскорбительного поведения; поддержание общественного порядка; защита собственности и социальных институтов, таких как брак; предотвращение недопустимого поведения в общест-
![]()
венных местах; сбор государственных доходов; защита государства; осуществление «обязательных прав», таких как посещение школы детьми; предотвращение необоснованной дискриминации и осуществление правосудия. Хотя Уокер считает, что главной задачей законов является обеспечение общественного благополучия и поддержание порядка, ясно, что не существует единого критерия, позволяющего определить, какое поведение должно с необходимостью подпадать под уголовное право.
При столь высокой степени культурной и исторической относительности права неудивительно, что юристам трудно выявить общие черты преступлений — их единственной общей характеристикой является то, что это действия, влекущие за собой законное наказание. Преступления — это правонарушения, направленные против общества, в отличие от гражданских правонарушений (Деликтов), направленных против отдельных лиц. Гражданские судебные процессы возбуждаются пострадавшей стороной, а не государственными чиновниками, и заканчиваются возмещением ущерба, а не наказанием. Это разграничение не является жестким, поскольку от правонарушителя, обвиняемого в тяжком преступлении, могут также потребовать возместить потерпевшему ущерб по гражданскому иску.
Хотя все преступления являются действиями, наносящими вред обществу, к ним относятся не только особо опасные формы поведения, но и поступки, причиняющие незначительный ущерб, поэтому юридические последствия преступления для правонарушителя могут быть различными — от смертного приговора до штрафа. Тяжкие и мелкие преступления традиционно разграничивают, называя первые фелониями (тяжкими уголовными преступлениями), а вторые — судебно наказуемыми проступками (misdemeanour). С 1967 г. в Великобритании разграничивают преступления, подлежащие судебному рассмотрению по обвинительному акту (indictable), и «суммарные» преступления (то есть подлежащие упрощенному судопроизводству, осуществляемому без участия присяжных), но это в основном процедурные разграничения, зависящие от того, в какой судебной инстанции слушается данное дело. Большинство преступников судят в низших или дисциплинарных судах (т. е. судах упрощенного [суммарного] производства), таких как магистратский суд или суд шерифа, и только дела о тяжких преступлениях слушаются в судах более высоких инстанций с участием жюри присяжных (в настоящее время в Англии это Суд короны [уголовное отделение Высокого суда правосудия]).
Между преступлениями нельзя провести четкие разграничения по критериям социального неодобрения. Для того чтобы поведение считалось противоречащим закону, оно должно сначала получить негативную оценку хотя бы одного человека, т. е. представителя законодательной власти, который предлагает принять данный законодательный акт, но с этой оценкой не обязательно соглашаются мноме. Например, закон запрещает грабеж, и, по-видимому, большинство населения также осуждает такие действия, но этого нельзя сказать о преступлениях без жертвы или о преступлениях, не содержащих элемента безнравственности, таких как нарушения правил дорожного движения. Беловоротничковыми преступлениями, т. е. нарушениями законов, регламентирующих предпринимательскую и коммерческую деятельность, а также профессиональными преступлениями против
1 б 1 .
![]()
организаций могут фактически быть действия, приемлемые в определенных деловых ситуациях, несмотря на их последствия для потребителей.
Хотя преступления не тождественны нарушениям норм морали, для установления вины подсудимого и применения уголовных санкций должны быть выполнены требования закона, которые основаны на моральных принципах. Основной общий принцип права выражен в латинском афоризме actus поп facit пит nisi mens sit rea (человек не виновен в действиях, совершенных без преступного умысла). Таким образом, неотъемлемыми элементами преступления являются созщтельное действие (acms теш) и намерение совершить это действие (mens rea). Это вполне определенные элементы, наличие которых необходимо доказывать. Условие наличия actus reus исключает из рассмотрения непроизвольные действия, совершенные, например, во время эпилептического припадка или в сомнамбулическом состоянии, и между действиями обвиняемого и вредными последствиями должна существовать причинно-следственная связь. По мнению некоторых юристов, условие наличия mens rea, или преступного умысла, означает, что по закону человек должен понести наказание только в том случае, если ему можно вменить в вину безнравственные побуждения. Однако, хотя это условие, по-видимому, было введено в общее право именно по этой причине, Харт (Hart, 1968) утверждает, что в настоящее время положение изменилось и, согласно современному законодательству, человек несет уголовную ответственность не за безнравственные, а за запрещенные законом действия. Закон исходит из морального принципа, согласно которому несправедливо наказывать людей за совершенные ими проступки, если у них не было другого выбора. Этот принцип отражает современную правовую точку зрения, согласно которой люди имеют право на свободу выбора своих действий, и составляет основу для учета оправдывающих обстоятельств (ошибка, несчастный случай, провокация, принуждение или невменяемость), при наличии которых человек, обвиняемый в совершении преступления, может быть признан невиновным.
Поэтому для привлечения человека к уголовной ответственности необходимо установить, что требования закона выполнены и человек подлежит наказанию. Однако термин «ответственность» (responsibility) создает некоторые проблемы, поскольку его используют в нескольких значениях в повседневном языке и в качестве юридического термина (Fincham, Jaspars, 1980). Некоторые авторы полатают, что уголовная ответственность эквивалентна «свободной воле» (МасТnald, 1955) или моральной ответственности (Wootton, 1959), и утверждают, что эта концепция устарела и не может быть использована при определении наказания для правонарушителей. Нечетко определенное понятие «ограниченной вменяемости» (diminished responsibility), появившееся в английском Законе об убийствах, принятом в 1957 г., кроме того, подразумевает, что ответственность зависит от психологической правоспособности, которая может быть различной. Проблема в том, что в понятии «юридическая ответственность» сливаются вместе несколько значений термина.
Харт (Hart, 1968) предлагает концептуальный анализ, выделяя четыре основных значения понятия «ответственность»: 1) каузальная ответственность (за результат совершенных действий); 2) ролевая ответственность (за выполнение определенных обязанностей или обязательств, связанных с определенной ролью); З) ответственность, обусловленная компетенцией (способность понимать,
![]()
рассуждать и управлять своим поведением); 4) ответственность в силу обязанности (liability) (за определенные последствия). Харт подразделяет последнюю на юридические (законное наказание) и моральные обязанности (осуждение или похвала). В юридической практике наиболее важную роль играет ответственность в силу обязанности, кбторая по существу означает, что человек обязан ответить на обвинение или опровергнуть его, а в случае если его вина будет доказана — понести законное наказание. Другие значения термина «ответственность» являются критериями или условиями возбуждения этого процесса. Таким образом, человек может быть привлечен к юридической ответственности при условии, что он совершил какое-либо действие или бездействовал, будучи при этом психологически правоспособным.
Поэтому демонстрация наличия тет rea является условием привлечения к юридической ответственности, но критерии для идентификации этого элемента преступления всегда были и остаются нечеткими. Например, в американском законодательстве критериями убийства при отягчающих обстоятельствах являются наличие предварительно обдуманного злого умысла и намерения убить. В 1962 г. Американский институт права разработал типовой уголовный кодекс, в котором предлагалось свести элементы теш rea к доказательствам того, что человек действовал целенаправленно, сознательно, неосторожно или небрежно, и английская законодательная комиссия предложила такие же рекомендации. Тем не менее юридическая концепция человеческого поведения резко отличается от КОНЦеПций некоторых школ психологии, поскольку в центре внимания находится состояние ума (или намерение) обвиняемого. Для бихевиористов, например, подразумеваемые намерения не имеют каузального значения. Под ними понимают просто вербальные обозначения для переменных, от которых зависит поведение, и они являются лишь побочными продуктами внешних непредвиденных обстоятельств (Skinner, 1978). Поэтому некоторые психологи соглашаются с Вуттоном (Wootton, 1959), который считает, что следует исключить условия теш rea из законов и рассматривать только то, что сделал правонарушитель, стремясь предотвратить повторное совершение этих действий (Black et al, 1973; Feldman, 1977; Blackman, 1981; Crombag, 1984). Однако такая утилитарная точка зрения подразумевает, что профилактические меры можно разработать научными методами или исходя практических соображений, игнорируя решающую роль культурных норм. В некоторых странах, например, предотвращают преступления, отсекая преступнику руку! Кроме того, в законах учитываются намерения, о которых судят на основе повседневных процессов атрибуции, а с точки зрения современной социальной психологии эти процессы оказывают значительное влияние на поведение (Fincham, Jaspars, 1980; Bandura, 1986; Ajzen, 1987).
Если рассматривать только поступки человека, не задаваясь вопросом о том, почему он их совершил, то невозможен будет учет смягчающих обстоятельств. Это приведет к требованию строгой ответственности (независимо от наличия вины), которое уже распространяется на двоеженство и двоемужество, изнасилование по статутному праву (statutory пре) (т. е. половую связь с лицом женского пола, не достигшим совершеннолетия) и преступления, подрывающие «общественное благополучие», такие как нарушение правил дорожного движения и продажа недоброкачественных пищевых продуктов. Строгая ответственность исключает нормы дистрибутивной (распределительной) справедливости из принятия
судебных решений, и при любом расширении перечня правонарушений, за которые следует привлекать к строгой ответственности, система наказания станет излишне суровой.
Санкции применяются к членам группы в том случае, если совершенные Ими нормативные нарушения заслуживают сильного неодобрения или мешают достижению групповых целей. Несоблюдение обычаев и конвенций чаще всего влечет за собой неформальные санкции, такие как порицание или остракизм, но в некоторых группах, а также в бесписьменных обществах наказанием за нарушение обычаев или этических правил может быть изгнание из группы.
Система гражданского права появляется тогда, когда возмещением ущерба начинают заниматься официальные лица, имеющие законные полномочия, и многие считают, что уголовное право возникло в результате развития гражданского права, когда некоторые правонарушения стали рассматриваться как преступления против общества, а не против лиц, и наказывать за них стало государство. Правовые санкции могут быть введены в том случае, если большинство общества испытывает опасения по поводу определенного поведения или резко возражает против нарушения каких-либо ценимых обычаев или традиций (Sutherland, Cressey, 1970). Чтобы это было возможно, в группе должен быть достигнут консенсус по вопросу о том, за какое поведение в законе должно быть предусмотрено наказание. Однако, согласно социологической теории конфликтов (Quinney, 1974), развитые общества состоят из групп с несовместимыми интересами. Законы принимаются для защиты групповых интересов людей, обладающих властью или имеющих влиятельных сторонников. Таким образом, правящие группы охраняют свои интересы за счет неимущих, чье поведение становится мишенью для предусмотренных в законах наказаний. Даже в тех случаях, если какое-либо поведение — например, убийства, словесные оскорбления и угрозы действием или. изнасилования — запрещается якобы в интересах всего общества, эти законы сформулированы избирательно, так что подобное поведение членов доминирующей группы остается безнаказанным. В английском законодательстве закон, запрещающий сексуальное насилие, например, лишь недавно был распространен на сексуальное принуждение в браке.
Некоторые законы, несомненно, были приняты для защиты интересов определенных групп. Английские законы о нарушении прав владения, например, были введены в XV в. для защиты складов, принадлежавших представителям развивающегося торгового класса, а в более поздние времена были приняты законы против кражи скота, угона автомобилей, а также против расовой и половой дискриминации. Тем не менее радикальные криминологи, анализирующие социальную структуру и конфликты с позиций марксизма, утверждают, что уголовное право появилось в конце Средних веков потому, что победила не просто группа с определенными интересами, а экономическая и социальная этика индивидуализма, под влиянием которой в дальнейшем сформировались функции права в капиталистическом обществе (Taylor, Walton & Young, 1973). При таком одностороннем объяснении, по-видимому, недооцениваются другие факторы, оказывавшие влияние на развитие права в эпоху Средневековья, поскольку протестантской этике всегда приходилось приспосабливаться к влиянию других религиозных и моральных факторов. Например, в XIII в. системой правосудия руководили духовные лица, и через них каноническое право англиканской церкви оказывало значительное влияние на развитие общего права (Dreher, 1967). К XIV в., когда получил распространение термин «преступление» («crime») и установились базовые принципы современного уголовного права, закон уже испытывал сильное влияние моральных факторов.
Действующая система права — это не просто перечень письменных запретов, и многое зависит от агентов уголовного правосудия: полицейских, судебных чиновников и администрации исправительных учреждений. Например, иногда судебные решения по некоторым делам становятся частью свода законов; полицейские очень редко применяют некоторые статьи законов или не применяют вовсе и в то же время ревностно следят за соблюдением других. Эти агенты обладают значительной дискреционной властью при проведении арестов, предъявлении иска и вынесении приговора, в результате чего могут происходить искажения законов и нарушение принципа равенства граждан перед лицом закона. В самом деле, высказано предположение о том, что из-за роста преступности в США система уголовного правосудия работает с таким напряжением, что преобладает «приоритетное правосудие» (Stone, 1984).
Пунитивная функция уголовного правосудия основана на праве государства применять санкции к тем, кто нарушает уголовный кодекс. Законное наказание осужденному правонарушителю может состоять в причинении физической боли, лишении имущества, свободы или прав; должностное лицо, наделенное законными полномочиями, осуществляет наказание, которое может принимать форму смертной казни, телесного наказания, содержания в исправительном учреждении, денежного штрафа или ограничения свободы передвижения. Хотя меры наказания уголовных преступников обычно ассоциируются с тюремным заключением, менее 5 0/0 взрослых правонарушителей отправляют в тюрьму. За первое преступление большинство преступников приговаривают к денежному штрафу, общественным работам, условным срокам заключения или отпускают на поруки, и менее трети из них впоследствии осуждаются повторно.
Тюремное заключение используется в качестве наказания относительно недавно, и до начала XVIII в. в темницах и тюрьмах находились главным образом преступники, ожидающие суда или публичного наказания. В XVIII в. квакеры стали реформировать «исправительные дома», и в 1820-е гг. в Филадельфии и Нью-Йорке были основаны первые тюрьмы, которые стали прообразами современных исправительных учреждений. Однако только к концу столетия сформировалась точка зрения, согласно которой в тюрьмах преступников следует перевоспитывать. В 1846 г. в Массачусетсе был открыт первый реформаторий для малЬлетних правонарушителей, а в Великобритании в 1854 г. был принят Закон об исправителЬных школах для несовершеннолетних преступников (Reformatory
Schools Act), после которых появились Approved Schools — одобренные судом школы (с 1971 г. они называются Community Нота).
Таким образом, цель суда по делам несовершеннолетних — решить, каким образом можно помочь ребенку или перевоспитать его. Однако при этом ребенок оказывается лишенным права на надлежащую правовую процедуру, т. е. права быть представленным защитником, отказаться давать показания против самого себя и требовать перекрестного допроса свидетелей. В 1960-е гг. Верховный суд США принял ряд решений, которые способствовали признанию прав детей, что отразилось на характере законов о несовершеннолетних и судебных процедур (Binder, 1987). С другой стороны, и в Америке (Austin, krisberg, 1981), и в Великобритании (Tutt, 1984) предпринимаются попытки свести к минимуму юридическое вмешательство посредством, например, использования таких мер, как постановка малолетних правонарушителей на учет в полиции или направление их на перевоспитание по общественным программам без суда. В Объединенном Королевстве такое направление развития наиболее заметно в Шотландии, где после доклада Килбрандона 1964 г. правосудие по делам несовершеннолетних было декриминализировано и суды для несовершеннолетних заменены системой менее формального разбирательства. Что касается взрослых преступников, то в Шотландии, наоборот, больше тюремных заключенных, чем в любой другой западноевропейской стране, за исключением Северной Ирландии.
Термины «исправительное учреждение», «реформаторий» и американская концепция «коррекционной системы» напоминают о моральных принципах, оказавших влияние на развитие системы наказаний. Политика наказания никогда не была формально ориентирована на выполнение какой-либо одной функции, и практика вынесения приговоров обычно зависит от политического климата. Некоторые юристы утверждают, что наказание необходимо, чтобы продемонстрировать социальное осуждение правонарушений, но Харт (Hart, 1968) отмечает, что эту функцию выполняет уголовное законодательство, а не наказание. Тем не менее наказание по приговору суда применяется с несколькими целями, которые обосновываются с использованием трех философских концепций, а именно возДаяния, утилитаризма и исправления (Веап, 1981).
Принцип соразмерности наказания тяжести причиненного вреда лежит в основе lex talionis (закона равного возмездия), но законное воздаяние отличается от мести тем, что наказание осуществляет государство, а не потерпевший. Наказание является выражением морального неодобрения государством нарушений закона, а степень его суровости определяется нормативными представлениями о беспристрастности и справедливости. Это точка зрения Канта, который считал, что к преступникам следует относиться как к разумным людям, которые осознают и предвидят последствия своих действий, и что наказание помогает правонарушителям сохранить чувство собственного достоинства.
Хотя многим либералам этот принцип кажется привлекательным, поскольку он является единственным приемлемым обоснованием наказания, он по своей сути консервативен. Он подразумевает индивидуальную ответственность и наличие социального консенсуса по вопросу о том, какое поведение является нравственным. При его использовании не принимаются во внимание как неблагоприятные условия тюремного заключения, так и индивидуальные различия в том, как люди переносят наказание. Тем не менее эта модель принята в нескольких американских штатах, где отказались от использования приговоров к неопределенной мере наказания (Austin, krisberg, 1981; Hudson, 1987); она также завоевывает признание в Великобритании, где вынесение приговоров к неопределенной мере наказания никогда не использовалось широко. Например, в Билле об уголовном судопроизводстве, принятом в 1991 г., говорится, что главная задача политики определения наказания — добиться, чтобы «наказание соответствовало преступлению».
Концепция утилитаризма, возникшая в эпоху Просвещения, легла в основу классической школы криминологии. В XVIII в. наказания были излишне суровыми, и за одинаковые преступления могли назначаться различные наказания, поскольку не существовало правил надлежащего ведения судебного процесса, а судьи при вынесении приговора не руководствовались концепцией соблюдения прав человека (Toch, 1979). Желая изменить такое положение вещей, сторонники утилитаризма разработали четкую теорию законного наказания, основанную на концепциях рационализма и общественного договора.
С точки зрения концепций воздаяния и утилитаризма внимание должно быть сконцентрировано на преступлении, а не на преступнике. Однако эти два философских подхода подразумевают использование совершенно различных критериев выбора степени суровости применяемого наказания, поскольку то, что полезно с точки зрения общества, не обязательно бывает справедливым. Для сторонников утилитаризма наказание является средством достижения цели и ориентировано на будущее, а не на прошлое. Индивидуальные привилегии не принимаются во внимание. Функция наказания — удержать отдельного правонарушителя от повторения криминальных действий (индивидуальное, или специальное преДупреждение) или устрашить потенциальных правонарушителей, чтобы они не совершили преступления (общее преДупрежДение). Таким образом, из философии утилитаризма следует необходимость устрашения, которую можно обосновать с помощью психологической теории влияния фактического или возможного наказания или с помощью социологической теории социального контроля.
1 .
![]()
Хотя эти взгляды оказали существенное влияние на развитие уголовного правосудия, такие упрощенные модели трудно применять на практике; кроме того, применение наказания без учета обстоятельств совершения преступления и возможных последствий отбывания преступником срока заключения показалось судьям чрезмерной строгостью. В конце XIX в., когда юристы модифицировали классические правовые принципы, введя понятия «смягчающие вину обстоятельства» и «частичная ответственность», началась эпоха неоклассицизма. Фуко Соиcault, 1978) считает, что развитие неоклассицизма было обусловлено потребностью выявить опасных для общества лиц. Несмотря на сохранение классических представлений о свободной воле и ответственности, центр внимания переместился на преступника как конкретного человека. Как отмечают Тейлор с коллегами (Taylor et al., 1973), «неоклассицисты наделили рационального человека классицистов прошлым и будущим».
Одновременно с индивидуализацией наказания в соответствии с принципами неоклассицизма в конце XIX в. появилась философия реабилитации преступников (Martin, Sechrest & Rednbr, 1981). Существовавшие ранее концепции исправления преступников были объединены с детерминизмом новых позитивистских наук. С точки зрения средневековой церкви для исправления преступник должен раскаяться и искупить свои злодеяния страданием, а также обещать в будущем не грешить. Квакеры XVIII в. также считали, что уединение дает преступнику возможность обдумать свои прошлые дурные дела и исправиться. Концепция исправления отвечала целям развития системы правосудия для несовершеннолетних, поскольку юридическое вмешательство рассматривалось как возможность не допустить, чтобы ребенок стал преступником.
В Великобритании Комиссия Гладстона в 1895 г. рекомендовала в течение срока лишения свободы проводить воспитательную работу с правонарушителями, пытаясь сделать их физически и морально более совершенными, чем они были до заключения в тюрьму. В качестве средств перевоспитания заключенных использовалось рбучение этике и предоставление им возможности трудиться и учиться. Однако в то время как исправление предполагает добровольность, реабилитация проводилась в основном посредством введения психоаналитического лечения в тюремной системе. Кроме того, психодинамические теории оказали влияние на развитие службы надзора за условно осужденными.
Реабилитация преступников проводится на основе предположения о том, что преступление является следствием порочности или дезадаптации преступника. Поэтому в центре внимания находится преступник как индивидуум, а не его преступление. Реабилитация не является альтернативой наказанию, поскольку закон должен не только не позволять ранее осужденным преступникам совершать повторные преступления, но и рпособствовать тому, чтобы люди вообще не совершали правонарушений, а законные санкции дают возможность и средства, чтобы помочь человеку приспособиться к обществу. Тем не менее срок лишения свободы может быть неопределенным, чтобы предоставить преступнику достаточно времени для изменения, а освобождение может зависеть от «выздоровления», т. е. от уменьшения опасности этого человека для общества, которое оценивают «эксперты», такие как психиатры или психологи.
![]()
Хотя идея исправления основана на нравственных убеждениях людей, живших в викторианскую эпоху, правые политики резко критикуют реабилитацию, считая ее чрезмерно «мягким вариантом»; левые партии также выступают против неопределенных сроков лишения свободы, считая такие приговоры нарушением прав человека. Кроме того, реабилитация часто служит предлогом для увеличения срока содержания под арестом или опеки без проведения какого-либо терапевтического вмешательства (Allen, 1959). В 1962 г. Американский институт права разработал типовой уголовный кодекс, в котором цели закона были сформулированы следующим образом: «предупредить поведение, которое по закону содержит состав преступления» и «способствовать исправлению и реабилитации правонарушителей». Однако в 1970-е гг. накопились данные, свидетельствовавшие о том, что программы реабилитации являются малоэффективным способом снижения рецидивизма (Martinson, 1974; Brody, 1976) и что заявления клиницистов о том, что они способны правильно определить степень опасности преступника для общества, не подтверждаются фактами (Monahan, 1981). Социологи также утверждали, что практика «терапии» отдельных правонарушителей или семей отвлекает внимание от социального неравенства, которое является одной из главных причин преступлений (Balch, 1975). Таким образом, реабилитацию не только стали считать малоэффективным принудительным методом исправления преступников, но и вообще признали нецелесообразной.
Цели политики наказания изменились, и вместо исправления преступников ставится задача осуществления наказания и устрашения. Однако только будущее покажет, сколь устойчивы эти тенденции. Хадсон (Hudson, 1987) считает, что использование модели восстановления справедливости не сделало систему законного наказания более справедливой и, как мы увидим в главе 15, идея реабилитации жива.
Хотя к лишению свободы приговаривают менее 5 0/0 осужденных правонарушителей, эта мера наказания является наиболее жестким способом предотвращения преступлений, если не считать смертную казнь. Законное наказание преследует несколько различных, причем конкурирующих, целей, поэтому не существует единого мнения по вопросу об оправданности тюремного заключения и о достигаемых с его помощью результатах, и многие утверждают, что оно оказывает в основном негативное влияние (Bartollas, 1990). Например, высокие показатели повторного осуждения преступников, ранее отбывших срок заключения, говорят о том, что тюрьма не перевоспитывает и не устрашает, и, согласно распространенному мнению, пребывание в тюрьме не только является «школой преступлений», но и оказывает вредное влияние на физическое и психологическое благополучие заключенных.
После того как идея реабилитации была дискредитирована, возникла необходимость в переоценке задач исправительных учреждений и результатов, которые можно надеяться получить с их использованием. С точки зрения философии воздаяния, преступника лишают свободы главным образом для того, чтобы наказать его за содеянное зло; в тюрьме должны быть обеспечены гуманные условия содержания и режим изоляции от общества, чтобы правонарушитель не мог совершить новых преступлений. Однако задача реабилитации не была полностью исключена
1.
![]()
из ![]() наказания преступников. Моррис (Morris,
1974) считал, что целью лишения свободы должно быть воздаяние и устрашение и не
следует пытаться перевоспитывать преступников. Тем не менее он полагал, что
следует предлагать заклоченным участие в программах реабилитации на
добровольной основе. По его мнению, руководящими принципами лишения свободы
должны быть помощь в изменении, а не принудительное исправление, и оценивание
годности к жизни на свободе с помощью градуированных тестов вместо опоры на
прогнозы чиновников администрации по вопросам условно-досрочного освобождения.
Однако другие авторы придают главное значение утилитарным целям тюремного
заключения. Например, Кларк (Clarke, 1985) считает, что факты свидетельствуют о
неоправданности попыток изменить людей, поэтому более практично использовать
наказание с целями устрашения, лишения преступника возможности совершить повторное
правонарушение и ситуационного предотвращения преступлений.
наказания преступников. Моррис (Morris,
1974) считал, что целью лишения свободы должно быть воздаяние и устрашение и не
следует пытаться перевоспитывать преступников. Тем не менее он полагал, что
следует предлагать заклоченным участие в программах реабилитации на
добровольной основе. По его мнению, руководящими принципами лишения свободы
должны быть помощь в изменении, а не принудительное исправление, и оценивание
годности к жизни на свободе с помощью градуированных тестов вместо опоры на
прогнозы чиновников администрации по вопросам условно-досрочного освобождения.
Однако другие авторы придают главное значение утилитарным целям тюремного
заключения. Например, Кларк (Clarke, 1985) считает, что факты свидетельствуют о
неоправданности попыток изменить людей, поэтому более практично использовать
наказание с целями устрашения, лишения преступника возможности совершить повторное
правонарушение и ситуационного предотвращения преступлений.
В Великобритании показатели повторного осуждения в течение двух лет после освобождения из тюрьмы остаются относительно стабильными с 1970-х гг. и составляют примерно 60 0/0 для взрослых мужчин и более 40 0/0 для женщин, причем наиболее высокие показатели относятся к группам молодых и неоднократно отбывавших срок правонарушителей (BottomleY* Pease, 1986). По оценкам Зембла (Zamble, 1990), в течение последних двух десятилетий в Канаде коэффициенты повторного осуждения в течение трех лет после освобождения из тюрьмы также сохраняют постоянство на уровне от 40 до 5096. Эти цифры не позволяют заключить, что лишение свободы явно оказывает устрашающее влияние (глава 4). Тем не менее большинство осужденных впервые не совершают повторных преступлений (Andenaes, 1974; Walker, Farrington & Tucker, 1981), что свидетельствует о том, что на некоторых правонарушителей тюремное заключение может оказывать устрашающее или исправляющее влияние. Хотя результаты некоторых исследований показывают, что как способ снижения уровня рецидивизма тюремное заключение менее эффективно, чем меры наказания без взятия под стражу (Newton, 1980), по-видимому, эффективность меры наказания зависит от типа правонарушителя. Например, Уокер и Фаррингтон (Walker, Farrington, 1981) в течение шести лет вели наблюдение за английскими бывшими заключенными и обнаружили, что у большинства рецидивистов тип наказания почти не оказывал влияния на вероятность совершения повторного правонарушения — независимо от типа предыдущего наказания более 85 0/0 из них были осуждены снова. Однако среди тех, кто был наказан за свое первое преступление, показатели повторного осуждения были выше для условно осужденных или условно освобожденных на поруки преступников по сравнению с преступниками, приговоренными к тюремному заключению или штрафу. Поэтому, хотя многие считают тюрьмы школами преступности, фактические данные не позволяют сделать однозначный вывод о криминализирующем влиянии тюрьмы; возможно, лишь самые неопытные преступники приобретают в тюрьме новые криминальные навыки (Walker, 1983).
Тюремное заключение явно выполняет функцию ограничения право- и Дееспособности (incapacitation) преступника, поскольку его временно лишают возможности совершить новые преступления против общества, за исключением других заключенных и персонала тюрьмы. Поэтому представляет интерес вопрос о возможном влиянии на уровень преступности увеличения сроков заключения, как общего (коллективное ограничение в правах), так и для отдельных групп пре-
![]()
ступников (селективное ограничение в правах). Поскольку тюремное заключение прерывает криминальную карьеру, то его ограничивающее влияние зависит от индивидуального уровня криминальной активности и соотношения между длительностью срока заключения и длительностью криминальной карьеры. В исследованиях ограничения право- и дееспособности в связи с лишением свободы изучаются истории преступлений, совершенных заключенными, и оценивается влияние различных сроков заключения на уровень преступности (Brody & Tarling, 1980; Blumstein, 1983; Farrington, 0hlin & Wilson, 1986).
Данные о снижении уровня преступности, связанном с удлинением сроков заключения, варьируются в широких пределах, поскольку зависят от принятых исследователем допущений о среднегодовом количестве преступлений, совершаемых отдельными правонарушителями; о том, в какой степени отбывающие срок заключения преступники будут замещены другими, чтобы удовлетворить «рыночный» спрос на криминальную деятельность; и о количестве преступлений, совершаемых незадержанными преступниками. Однако увеличение сроков заключения неизбежно сопровождается увеличением количества заключенных в тюрьмах. Например, Броуди и Тарлинг (Brody, Tarling, 1980) исследовали две выборки английских заключенных на сроки менее одного года и выяснили, что при обязательном увеличении минимального срока заключения до 18 месяцев количество совершенных ими преступлений снизилось бы на 17—25 0/0, однако сроки пребывания в тюрьме при этом возросли бы более чем в четыре раза. По их оценкам, уменьшение сроков заключения на 6 месяцев привело бы к увеличению количества осужденных на 1,60/0 и к уменьшению времени пребывания в тюрьме на 40 0/0.
Селективное ограничение в правах правонарушителей с высокой криминальной активностью или особо опасных преступников имеет смысл, однако проблема в том, как их выявить заранее. Броуди и Тарлинг (Brody, Tarling, 1980) обнаружили, что хотя на долю небольшой группы из 52 опасных преступников приходилось относительно больше преступлений с применением насилия, совершенных после освобождения, при увеличении сроков заключения на пять лет только 9 из них не совершили бы насильственных преступлений снова. Эти данные согласуются с другими результатами, свидетельствующими о том, что чрезвычайно трудно прогнозировать степень опасности преступника (глава 12). Таким образом, встает вопрос о справедливости и законности политики ограничения право- и дееспособности. Кроме того, влияние увеличения сроков заключения на уровень преступности в целом незначительно из-за того, что большинство правонарушителей не приговаривают к тюремному заключению.
В связи с тем, что преступления не составляют естественных или однородных поведенческих категорий, при формулировании определения предмета криминоломи и попытках построения теории «преступления» или «криминального поведения» возникают определенные трудности. Дополнительные проблемы связаны с тем, что многие преступления остаются нераскрытыми или незарегистрированными, а осуждение того или иного преступника может зависеть от необъективно-
1 .
![]()
сти системы уголовного правосудия (глава 2). Поэтому уже довольно давно ведутся дебаты о том, какие явления должны быть главным предметом изучения криминологии (Mannheim, 1965; Bottomley, 1979; Young & Matthews, 1992).
Основной вопрос состоит в том, должна ли криминология ограничиться изучением только тех действий, которые с точки зрения закона относятся к категории преступлений (легализм), или она должна также изучать антисоциальное поведение, которое является вредным, но не противоречит законам (антииегализм). Некоторые из первых криминологов придерживались антилегалистской точки зрения и предлагали использовать понятие «естественное преступление», подразумевая под ним антисоциальное поведение, которое все считают вредным. Селлин (Sellin, 1938) также утверждал, что терминология научной дисциплины не может быть предписана законом и что в исследованиях «норм поведения» используются универсальные категории. Аналогичного мнения придерживаются Готтфредсон и Хирши (Gottfredson, Hirschi, 1990), которые полагают, что преступления — это лишь одна из нескольких форм поведения, влекущего за собой социальные санкции, и обусловлены той же причиной, что девиантность, различные пороки и безответственность — несдерживаемым эгоизмом.
Многие социологи пошли по этому путл рассматривая преступность как часть более общей категории Девиантности, или нарушения норм. Некоторые психологи и социологи также считают, что, исследуя преступность, не следует ограничиваться только изучением поведения, влекущего за собой уголовное преследование, поскольку представители влиятельных групп, таких как деловые корпорации или полиция, реже подвергаютсА преследованию за криминальные действия (Sutherland, 1945; Monahan, Novaco & Geis, 1979; Вох, 1983). Более того, некоторые исследователи полагают, что при идентификации антисоциального поведения следует ориентироваться на концепции прав человека и что криминоЈюгия должна также изучать такие феномены, как империализм, расизм или сексизм (Schwedinger, Schwedinger, 1970). Еще одно возражение против выбора криминального поведения в качестве содержательного объекта изучения связано с концепцией навешивания ярлыков в социологии девиантности. Согласно краткой формулировке этой концепции, «девиантность — это качество, присущее не поведению как таковому, а взаимодействию между человеком, совершающим действие, и теми, кто на это реагирует» (Becker, 1963). С этой точки зрения при исследовании девиантного поведения главную роль играет выбор его определения и реакции на него, особенно со стороны представителей правоприменяющих органов. Как это ни парадоксально, но, таким образом, главное внимание уделяется тем правонарушителям, которые были законно осуждены.
Выступая в защиту легализма, Вэмбери (Vambery, 1941) возразил, что заявления об отсутствии научной базы для разграничения криминального и некриминального поведения могут способствовать принятию деспотических законов в тоталитарных обществах. Его активно поддержал Тэппан (Таррап, 1947), считавший, что представления об антисоциальном поведении основаны на изменчивых ценностных суждениях, которые менее точны, чем юридические определения преступлений. Он утверждал, что преступная с точки зрения закона деятельность дает богатый материал для изучения и что «преступниками являются только те люди, которым суд вынес обвинительный приговор». Тем не менее в настоящее время многие исследователи считают делинквентными действия, которые по за-
![]()
кону наказуемы, но не привлекли внимание правосудия, а стали известны по данным самоотчетов (глава 2). Уэлфорд (Welford, 1975) приводит менее строгие доводы в защиту легализма, считая, что некоторые действия криминальны по своей сути, поскольку их осуждают везде, и что подходящими объектами изучения для криминологов являются не преступления без жертвы или статусные правонарушения, а тяжкие преступления. Тем не менее такая точка зрения представляет собой избирательную форму легализма.
Байндер (Binder, 1988) отмечает, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению, но сам не соглашается с психологами, которые отождествляют антисоциальное поведение с делинквентностью, и подчеркивает, что определение делинквентности нельзя формулировать с использованием неюридических терминов. Тем не менее в центре полемики находится вопрос о концептуальных границах преступления как поведенческого явления. Социологи, занимающиеся теорией конфликтов, и радикальные криминологи считают, что нельзя игнорировать преступность как общественное явление. Хартьен (Hartjen, 1972), например, утверждает, что юридические определения криминальных действий зависят от мощных групповых интересов и при исследовании преступности следует отдавать приоритет анализу политического развития уголовного права. Эта точка зрения послужила основой для развития социологии права, т. е. исследования законотворчества вместо изучения нарушений закона. Это явно политическое направление исследований ставит задачу «осознать, какие изменения необходимо внести в уголовный кодекс, и добиваться их осуществления» (Bottomley, 1979). Таким образом, криминология становится скорее нормативной, чем научной дисциплиной, или, по словам Рока (Rock, 1979), «формой светской теологии».
Тем не менее, хотя криминальные с точки зрения закона формы поведения психологически неоднородны, им свойственна одна общая черта — нарушитель закона знает, что его поведение влечет за собой законное наказание. Поскольку в этом отношении нарушение закона качественно не отличается от других форм социально наказуемых нарушений правил, таких как мошенничество, нарушение правил закономерно является содержательным предметом теоретического исследования криминологической психологии. Например, воровство или акты агрессии со стороны маленьких детей не считаются криминальными действиями, но, как будет показано далее, имеют общие с ними предпосылки и связаны с последующей делинквентностью. Это не означает, что можно приравнивать антисоциальное поведение к преступлению и делинквентности, поскольку любое сходство должНо устанавливаться эмпирическим путем. Тем не менее, хотя определение преступления должно основываться на юридической концепции, криминологи не могут быть связанными такой концепцией.
Все научные наблюдения несут теоретическую, а теории — ценностную «нагрузку», хотя психологи не сразу признали этот факт (kurtines, A'lvarez & Azmitia, 1990). Точно так же представления людей о причинах преступности и борьбе с ней являются частью концептуальных систем, связывающих политическую идеологию, нравственные доводы и личностные характеристики, и относятся либо к группе консервативных, либо к группе либеральных убеждений (Carroll et al., 1987). Хотя прямая связь между идеологическими системами и формальными
1.
![]()
теориями преступности и уголовного правосудия обнаруживается не всегда, тем не менее последние основываются на явных или неявных предположениях о природе человека и общества. Поэтому разные криминологические теории имеют различные философские обоснования, и можно выделить классическое, неоклассическое, позитивистское и антипозитивистское направления.
Как уже говорилось выше, пассическая школа криминологии возникла с появлением философии утилитаризма. Однако неоклассицисты подвергли сомнению истинность предположения о том, что человеческое поведение всегда рационально и является объектом свободного выбора, и осознали необходимость рассмотрения индивидуальных обстоятельств совершения преступления. Неоклассическая ревизия составляла основу практики уголовного правосудия в течение всего ХХ в., однако в криминологии, наоборот, преобладал позитивизм.
С точки зрения позитивизма гуманитарные науки должны использовать методологию естественных наук и заниматься исследованием положительных «фактов», а не метафизических проблем. Как и в психологии, в криминологии позитивистский подход подразумевает, что человеческое поведение подчиняется естественным законам. Начало позитивистской криминологии было положено в XIX в. в работах статистиков, однако итальянский врач и антрополог Ломброзо использовал биологизаторский подход к объяснению криминального поведения. В своей работе Гиото delinquente («Человек преступный»), опубликованной в 1876 г., он утверждал, что криминальное поведение обусловлено врожденными импульсами, а наиболее распространенный тип правонарушителя — это так называемый «прирожденный преступник». Такой человек биологически примитивен и является «атавистическим» пережитком, унаследовавшим черты первобытных людей. Считалось, что для него характерны «стигмы» первобытности, такие как низкий лоб, выступающие надбровные дуги и челюсть, и асимметрия черт, а также психологические стигмы, такие как нечувствительность к боли, отсутствие нравственного чувства и безудержное стремление к удовольствиям. Хотя впоследствии Ломброзо предположил, что к «врожденным преступникам» относится лишь меньшинство правонарушителей, он выделил категорию «криминалоидов», девиантность которых обусловлена давлением внешних обстоятельств и окружения на их «слабую натуру».
Позитивисты возражали против классической доктрины свободной воли и ответственности, утверждая, что применение соразмерных преступлениям наказаний не защищает общество от опасных преступников, поскольку не устраняет причин преступлений. Они предлагали ученым сосредоточить внимание не на преступном деянии, а на индивидуальности преступника, поскольку у большинства преступников обнаруживаются патологии характера. Предметом изучения стала криминальность как предрасположенность к совершению преступлений. Ранние позитивисты полагали, что политика применения наказаний должна быть нацелена на изменение правонарушителя или на лишение его возможности совершить преступление, а не на наказание за определенные проступки, и Ломброзо выступал за назначение неопределенных сроков заключения. Считалось, что врожденных преступников исправить невозможно, однако остальных можно перевоспитать, и для отделения последних от опасных преступников возникла необходимость в методах классификации и вмешательства. В результате повысился статус «экспертов», которые могли выполнять такую работу.
![]()
До Первой мировой войны главную роль в развитии криминологии играли позитивисты, работавшие в союзе с социальными статистиками и психиатрами. Гарланд (Garland, 1985) отмечает, что благодаря разразившемуся в то время кризису в британской политике применения наказаний политики осознали богатые возможности научного подхода 'к борьбе с преступностью. Хотя некоторые позитивисты склонялись к тому, что преступность обусловлена внешними причинами, более приемлемой для 'государственной системы была точка зрения Ломбро30, придававшего больше значения индивидуальной патологии, чем социальным условиям. Несмотря на то что в Великобритании до 1950-х гг., когда были основаны первая университетская кафедра и Исследовательский отдел министерства внутренних дел, отсутствовала институциональная база для криминологических исследований, британская криминология развивалась в основном благодаря деятельности психиатров и психологов. В США, наоборот, основной вклад в развитие криминологии вносили социологи-позитивисты, возможно, в связи с большей готовностью американской культуры к возложению вины на социальный порядок (Binder, 1988). Одним из следствий этого является заметный этноцентризм в криминологической литературе, выраженный в такой степени, что иногда кажется, будто преступность — это изобретение американского общества!
В 1950-е гг. позитивизм в философии и социальных науках подвергся критике. С позиций логического позитивизма не удалось создать адекватные критерии для развития науки, поскольку не принималась во внимание когнитивная деятельность ученого и социальные факторы, оказывающие влияние на научные теории (Brown, 1977). В принципах позитивизма усомнились психологи (Heather, 1976), а в криминологии критика исходила от социологов гуманистического направления (Matza, 1964), конфликтологов (Quinney, 1974) и от радикальных криминологов (Taylor et al., 1973). Критики считали, что позитивизм дегуманизирует общество, способствует осуществлению несправедливой политики наказаний под видом реабилитации и связан с неравноправной социальной системой. В частности, главными мишенями критики стали детерминизм, индивидуализация, коррекционализм и отношение к девиантности как к иррациональному поведению. Критики утверждали, что, принимая детерминизм, позитивисты считают людей пассивными, отказывая им в способности выбирать и творить. Кроме того, позитивисты рассматривают отдельных людей и социальные группы как дискретную совокупность отдельных организмов, игнорируя процессы взаимодействия между ними. Концентрируя внимание на индивидуальности правонарушителя, позитивисты некритично принимают существующий в обществе status quo и полатают, что достигнут нравственный консенсус, который нарушают преступники. Кроме того, рассматривая девиантность индивидуумов и семей как патологию, позитивисты полагают, что в законе сформулированы основные критерии нормальности, и игнорируют политические и экономические факторы, оказывающие влияние на законотворчество. Далее, стремясь найти причины преступности, позитивисты не принимают во внимание значение девиантных действий, которые с точки зрения правонарушителя могут являться разумным способом решения какой-либо проблемы.
В качестве альтернативы позитивизму радикальные криминологи предлагали политизированный подход, который ставит своей целью социальные изменения в социалистическом направлении. Этот подход допускает «мягкий детерминизм»,
1 .
![]()
а девиантность рассматривается как результат сознательного выбора, совершенного под влиянием изменяющихся экономических и политических потребностей развитого индустриального общества. Предметом изучения криминологии должны быть такие феномены, как социальный контекст криминальных действий, реакции других людей на эти действия, реакции девиантных людей на отвержение обществом и формирующее влияние политических и исторических факторов на диалектическое взаимодействие между индивидуумом и обществом. Радикалы не предлагали каких-либо конкретных рекомендаций, касающихся деятельности системы уголовного правосудия в период до построения справедливого общества.
Радикальная криминология подвергается критике со стороны социологов, включая тех, которые симпатизируют политической позиции радикалов (Schichor, 1980; Colvin, Pauly, 1983). Последних упрекают в преувеличении роли политических факторов и «патологизации» общества, романтизации образа преступника и использовании ошибочного допущения о неограниченной свободе людей, обладающих властью и авторитетом. Кроме того, радикальные криминологи излишне увлекаются созданием идеологических трактатов, пренебрегая эмпирическими исследованиями, и результаты их упрощенных исследований взаимосвязи между преступностью, уголовным правосудием и капитализмом не подтверждаются фактическими данными о различиях в уровнях преступности в капиталистических странах. Более того, радикальная криминология основана на предпосылках, которые делают ее субъективной нефальсифицируемой теорией.
Янг (Young, 1986) признает, что радикальная криминология оказалась малоплодотворным подходом, объясняя это победой «левого идеализма», который является «позитивизмом наоборот» в том смысле, что игнорируется как преступление, так и личность преступника., Он утверждает, что необходима новая «радикальная реалистическая криминология», чтобы выработать «серьезное отношение к преступности» и признать ее последствия для незащищенных людей. Сторонники этого более прагматического подхода, или левого реализма (Young, Matthews, 1992), ставят те же политические цели и принимают те же основные допущения о причинах преступности, что и их предшественники-радикалы, и не предлагают новой теоретической позиции. Тем не менее они стремятся согласовать свой подход с традиционными социологическими теориями преступности, в то же время утверждая, что это «парциальные» теории и преступность надо рассматривать как взаимодействие между правонарушителем, потерпевшим, государством и обществом. Они также считают, что следует стремиться к более тесной интеграции криминологической теории с практическим решением проблем права и охраны порядка, отдавая особый приоритет профилактике преступлений, демократизации системы уголовного правосудия и устранению последствий преступлений для потерпевших. Тем не менее они по-прежнему враждебно.относятся к либеральным реформам и индивидуализму и не признают никаких методов, кроме социологического анализа.
Против позитивизма возражали не только радикальные критики традиционной криминологии, но и представители нескольких других направлений. Одним из них было возрождение классицизма и интереса к рациональному принятию решений и устрашению преступников (Cornish, Clarke, 1986), а другим — принятие модели «восстановления справедливости» (Von Hirsch, 1976). Сторонники более либеральных подходов пытались свести к минимуму вмешательство уголовного
![]()
правосудия посредством декриминализации преступлений без жертвы и перевоспитания молодых праврнарушителей по общественным программам (Tutt, 1984). Тем не менее философией основного направления в криминологии и в психоломи остается позитивизм. Готтфредсон и Хирши (Gottfredson, Hirschi, 1987) провели повторный анализ критики позитивизма и полагают, что хотя ранние позитивисты с энтузиазмом поддерживали определенные теории, стратегии наказания преступников или политические идеологии, они не сохранили верности строго позитивистским убеждениям. Готтфредсон и Хирши описывают современный позитивизм как «научный подход к преступности, в котором научность характеризуется методами, методиками или процедурными правилами, а не наличием самостоятельной теории или точки зрения», и не считают его несовместимым с классическими теориями выбора. Однако остается неясным, можно ли рекомендовать позитивизм в качестве методологии. Этот вопрос будет обсуждаться далее.
Как уже отмечалось выше, классицистов и антипозитивистов интересуют криминальные Действия (acts), в то время как позитивисты концентрируют внимание на склонности (tendency) индивидуума к совершению преступлений. Это различие имеет большое значение при рассмотрении причин «преступности», однако в то же время является источником недоразумений. Оно имеет отношение к психологической дискуссии на тему «человек—ситуация», и поскольку криминология исследует причийную роль человека и ситуаций, то эта дискуссия заслуживает определенного внимания.
В центре дискуссии находится вопрос о целесообразности использования конЦеПЦИИ личностных черт, да и самого понятия личности для объяснения криминального поведения. Смысл термина «личность» всегда оставался не совсем ясным, поскольку в повседневной жизни под личностью подразумевают совокупность человеческих качеств, благодаря которым люди отличаются друг от друга. Можно сказать, что человек имеет «интересную» или «антиобщественную» личность (или ею является). В этом контексте личность — это оценочная абстракция, но ее часто овеществляют и представляют как мистический объект, существующий независимо от социального поведения, эмоций, когнитивных процессов и любых других факторов. Создатели теорий личности концентрируют внимание на аспектах психологического функционирования, которыми, по их мнению, обусловлены различия между людьми, и предлагают множество различных определений «личности». Однако, как отмечают Холл и Линдсей (Hall, Lindzey, 1970), подобные определения диктуются теорией и «невозможно сформулировать определение личности, не приняв какой-либо теоретической позиции, с которой эта личность будет рассматриваться». Таким образом, строго говоря не существует такой «вещи», как личность, и более уместно говорить о ней как об области исследований. В широком смысле психология личности — это дисциплина, изучающая поведенческие закономерности, которые отличают одного человека от другого (т. е. склонности/диспозиции или черты), а также процессы и структуры, которыми эти закономерности обусловлены согласно принятым теоретическим постулатам.
2 Зак 364
Мишель (Mischel, 1968) заключил, что концептуализация личности в терминах «широких диспозиций реагирования» не подтверждается эмпирическими данными. Бихевиористы восприняли это как аргумент в пользу ситуационного контроля поведения, хотя более распространена точка зрения, согласно которой поведение зависит от взаимодействия человек—ситуация. В дальнейшем Мишель изменил свою позицию (Mischel, 1984), и с расцветом интеракционизма спор затих, но многие психологи по-прежнему настороженно относятся к Концепциям личностных черт: Тем не менее вопрос об их полезности имеет не только эмпирическое, но и концептуальное значение (Alston, 1975; Levy, 1983).
С другой стороны, если под «поведением» подразумевается склонность, то оно явно является качеством человека; это нечто, всегда присущее этому человеку и зависящее от его прошлой истории. Такие термины, как «общительный» или «агрессивный», имеют тот же статус, что «страдающий агорафобией» или «педофил». Все эти термины описывают внутренние склонности или способности человека, которые проявляются только при подходящих условиях. В некоторых случаях ситуация определяет, поступит ли человек в соответствии со своей склонностью, но он имеет эту склонность независимо от того, находит ли она выражение в действии. В этом отношении дискуссию на тему «человек—ситуация» ведут две стороны, преследующие противоположные цели: экспериментаторов интересуют реакции на специфические ситуации, а клиницистов и теоретиков, развивающих теории черт, — стиль жизни.
В зависимости от того, является ли поведение действием или склонностью, его следует объяснять по-разному. Конкретное действие является функцией как от ситуации, так и от человека. Ситуация необходима, чтобы создать условия и возможности для совершения действия, но только человек обладает способностью произвести это действие. Однако когда человек действует в соответствии с какой-либо своей склонностью, ситуация является не причиной, а просто удобным случаем для проявления этой склонности. В качестве аналогии можно сказать, что в воде реализуется свойство соли растворяться, но растворимость обусловлена химическими свойствами соли, а не контактом с водой.
Впрочем, конкретные действия вызывают психологический интерес только как образцы некоторого более общего класса поведения, поскольку наука не изучает уникальные и неповторимые явления. В отдельном случае конкретное действие представляет интерес постольку, поскольку у человека имеется предрасположенность к его повторению. Если «ситуационный анализ» показывает, что А ударил в школе Б, защищаясь от беспричинного нападения, и у А нет привычки драться, то поведение А вполне понятно. С другой стороны, если А уже в который раз бьет учеников в школе, то мы должны выяснить, почему у А столь агрессивные наклонности. Бихевиористы возражают, что если такое «поведение» имеет место только в школе, то это «специфическая реакция», а не черта личности. Но предметом изучения является предрасположенность. Это может быть более узкая склонность, чем те, которые обычно описывают в терминах личностных черт, однако, как отмечает Элстон (Alston, 1975), если все дело в ширине черт, то довольно просто их сузить. Именно так решили бы проблему интеракционисты. Таким образом, вместо того чтобы описывать людей как «агрессивных», более целесообразно выделить тип реакции, демонстрируемой в определенной ситуации, например, «вербально агрессивен в ответ на критику». Тем не менее это остается описанием личностной черты. Следовательно, нет ничего проблематичного в использовании личностных черт для описания склонностей, так как диспозиционные термины обязательно присутствуют во всех высказываниях юридического характера.
Поскольку черты имеют отношение к способностям (capacities), а не к инвариантному поведению, то их недостаточно для объяснения конкретных действий, и необходимо привлекать сведения об убеждениях или ожиданиях человека, связанных с данной ситуацией. В этом главный пафос критики Мишеля. Однако если поведение в различных ситуациях в среднем сохраняет постоянство, то это следует объяснять обобщенными тенденциями (или, иначе говоря, склонностями). Чтобы объяснить происхождение этих склонностей, специалисты в области теории личности все чаще привлекают когнитивно-мотивационные переменные (01weus, 1979; Epstein, 0'Brien, 1985; Cantor, 1990).
Существуют разные теории криминального поведения: в одних центральным понятием является преступность, т. е. совокупная криминальная деятельность, в других — преступления, т. е. конкретные криминальные действия или события, а в третьих — криминальность, т. е. склонность к совершению таких действий (Hirschi, Gottfredson, 1988; Gottfredson, Hirschi, 1990). Большинство психологических теорий «преступности» являются попыткой объяснения криминаль- ности, т. е. активного участия в криминальной деятельности, а не самих криминальных действий. Примером этого служит работа Айзенка (Eysenck, 1977), который рассматривает криминальность как «непрерывную черту того же типа, что интеллект, рост или вес». У людей, многократно совершающих криминальные действия, эта черта чаще всего выражена в крайней степени, и исследовательский интерес вызывает вопрос о происхождении антиобщественных наклонностей этих индивидуумов. Наличие у человека этой черты, выраженной в доста- точной степени, является необходимой, а по мнению некоторых исследователей, и достаточной причиной криминальных действий, но психологи уделяют мало внимания самим действиям и контекстам, в которых они совершаются. Таким образом, психологи сосредоточиваются на Дистальных причинных факторах. Такого рода объяснения называют «историческими» или «генетическими» (Burt, 1925; Sutherland, Cressey, 1970).
Тем не менее из предыдущего обсуждения должно быть ясно, что противопоставление «ситуаций» и «склонностей», или проксимальных и дистальных факторов как причин «преступности», является ложной дихотомией. Понятно, что ранние семейные переживания как таковые не могут быть причиной совершения конкретного криминального акта взрослым человеком. Понятно также, что у некоторых людей имеются сильные.криминальные склонности, которые могут быть обусловлены только особенностями их биографий, а не непосредственной ситуацией. Проявление этих склонностей в конкретном действии также не может быть «вызвано» ситуацией, поскольку для действия необходимо, чтобы субъект деяния обладал способностью его совершить и считал определенные ситуации «провоцирующими» или «соблазйительными». Как отмечают Сазерленд и Кресси (Sutherland, Cressey, 1970), проксимальные факторы неотделимы от опыта предшествующей жизни преступника, поскольку «человек интерпретирует ситуацию в соответствии с приобретенными им в прошлом наклонностями и воз-
МОЖНОСТЯМИ>>.
Столь же ложной дихотомией можно считать утверждение о том, что «криминогенные социальные условия» являются более вероятной причиной криминальности по сравнению с «диспозиционными» переменными (Напеу, 1983). Социальные условия относятся к числу факторов, которыми объясняются имеющиеся у человека склонности, но сами по себе эти условия не являются причиной криминальных действий, поскольку люди по-разному реагируют на одни и те же условия. Это не означает, что социальные условия или обстоятельства не имеют отношения к объяснению криминального поведения, однако надо ясно понимать, что имеется в виду под «объяснением», и об этом мы вкратце поговорим далее.
Ранние позитивисты, изучавшие биографические характеристики преступников, столкнулись с проблемой — они обнаружили слишком много предпосылок преступного поведения. Например, Берт (Burt, 1925) выявил более 170 характеристик, описывающих семью, личность и социальное окружение несовершеннолетних правонарушителей. Он заключил, что делинквентное поведение обусловлено множеством причин и найти единственную причину, скорее всего, не удастся. Таким образом, разные правонарушители испытывают влияние различных криминогенных факторов, и решающую роль играет чрезмерное количество таких факторов или их сочетание. Этот результат не противоречит здравому смыслу, поскольку одно и то же событие, например дорожно-транспортное происшествие, может быть обусловлено несколькими различными обстоятельствами. Однако он вызвал длительные дебаты об относительных достоинствах использования «многомерных» и «одномерных» теорий преступности. Примером первого подхода является Кембриджское исследование делинквентного развития (в дальнейшем я буду называть его просто Кембриджским исследованием). Целью этого исследования был поиск предикторов делинквентности, который не имел под собой какой-либо теоретической базы (или основывался сразу на нескольких теориях) (West, 1982; Farrington, West, 1990). В нем участвовала выборка лондонских мальчиков, за которыми велись долгосрочные наблюдения, и был выявлен ряд индивидуальных и социальных коррелятов делинквентности. Однако при таком подходе возникает опасность неограниченного эклектизма и недооценки влияния теории на результаты наблюдений.
Альтернативой является одномерная теория, которая может объединять в себе несколько факторов или переменных. Например, Треслер (Trasler, 1978) предполагает, что общей характеристикой преступников является их неспособность воздерживаться от совершения запрещенных действий, поэтому следует изучать связанные с этим психологические процессы и биологические и социальные факторы, оказывающие на них влияние. Однако преступная деятельность складывается из столь разнородных поведенческих феноменов, что существование единой причины, объясняющей все преступления, кажется маловероятным. Одним из решений этой проблемы может быть снижение неоднородности криминального поведения посредством деления правонарушителей или правонарушений на типы или подгруппы, и эту стратегию выбирают многие исследователи (глава З). Готтфредсон и Хирши (Gottfredson, Hirschi, 1990) подвергают этот подход критике на том основании, что все преступления образуют концептуальное единство и допускают единое общее объяснение. Однако события, характеризующиеся концептуальным единством на одном уровне абстракции, могут тем не менее относиться к различным классам на другом уровне, и, как отмечает Уокер (Walker, 1987), поиск единой теории преступности столь же нецелесообразен, как поиск единой теории болезней.
Как свободная воля, так и детерминизм — это понятия, не имеющие общепринятых определений, но основными теоретическими позициями являются жесткий детерминизм, мягкий детерминизм и либертарианизм (Sappington, 1990). Жесткий детерминизм подразумевает, что человеческое поведение полностью определяется факторами, находящимися вне сферы сознания человека, и говорить о выборе бессмысленно. Это точка зрения классического психоанализа и радикального бихевиоризма. В данном случае детерминизм отождествляется с предсказуемостью, и предполагается, что, зная настоящее, можно прогнозировать будущие последствия. Но ни в психологии, ни даже в естественных науках не обнаружено данных, свидетельствующих о возможности универсального детерминизма.
Предположение о том, что любое поведение обусловлено только внешними причинами, порождает еще одну трудность — становится невозможным обдуманное намерение. Ученые, стоящие на позициях детерминизма, не могут считать свою собственную научную деятельность исключением, не подчиняющимся принципам детерминизма. Таким образом, ни проводимые ими эксперименты, ни сделанные из них выводы не могут быть объектом сознательного выбора. Некоторые, однако, утверждают, что рациональность не противоречит детерминизму, потому что сами варианты, из которых может выбирать человек, не подлежат выбору (Norrie, 1986).
Последний аргумент согласуется с точкой зрения, которую называют мягким детерминизмом, — она допускает совместимость свободы с детерминизмом. Таким образом, люди могут выбирать, но из ограниченного числа вариантов. Хотя детерминизм связан с позитивизмом, многие позитивисты приняли эту точку зрения, которая теперь не вызывает полемики в психологии. Гарланд (Garland, 1985) отмечает, что некоторые криминологи-позитивисты раннего периода считали свободную волю иллюзией, которая тем не менее является движущей силой человеческих действий, а в дальнейшем эту точку зрения стали разделять и некоторые психологи. Она позволяет сохранить принцип ответственности, в результате чего позитивизм становится приемлемым для английских неоклассицистов.
Саппинггон (Sappington, 1990) считает последние либертарианские психологические теории попытками создать научную основу для концепции свободы воли. Поскольку люди обладают способностью создавать новые варианты и выбирать из них цели, которыми они руководствуются в своем поведении, то знание этих вариантов облегчает задачу научного прогнозирования. В рамках либертарианизма остаются нерешенньши две существенные проблемы — всегда ли человеческий выбор полностью самостоятелен и допускает ли научную проверку традиционный критерий «мог поступить иначе». Однако расхождения во взглядах между психологами и юристами, по-видимому, не столь значительны, как полагают бихевиористы.
Нет основания считать, что преступления каждого типа имеют свои особые предпосылки или что определенные факторы всегда ЯВЛЯЮТСЯ причиной конкретных форм криминального поведения. Однако эта проблема возникает из-за стремления позитивистов выявить каузальные предпосылки, следствием которых являются криминальные действия. На самом деле в рамках позитивизма понятия причина и объяснение имеют не тот смысл, который им приписывают обычно. Чтобы понять, каковы границы возможностей позитивизма и альтернативных подходов, необходимо разобраться в терминологии.
Концепция причины не особенно широко используется в современной науке, однако Харре (Harre, 1985) различает два основных ее значения. Во-первых, причину отождествляют с порождающим фактором. В этом значении причина — это способность или возможность произвести следствие. Следствие получается благодаря действию порождающего механизма, который делает его возможным. Например, порох взрывается потому, что имеет особый химический состав, а детонатор нужен лишь для того, чтобы сДелать возможной реализацию этой способности. Таким образом, следствие является естественной необходимостью. Во-вторых, причину отождествляют с временнбй последовательностью. В этом значении причина — это просто событие, которое во времени предшествовало следствию, и связь между причиной и следствием имеет чисто статистический характер. Такое употребление понятия причины следует из философии Дэвида Юма, утверждавшего, что природа организмов и объектов непостижима. Мы не можем понять сути вещей и взаимосвязёй между ними и познаем лишь «устойчивые связи между сенсорными впечатлениями». Любая причинно-следственная связь — это просто умозаключение, выведенное из предположения о том, что будущее похоже на прошлое. Таким образом, причина в значении «порождающий фактор» является просто логической необхоДимостью, а значит — иллюзией.
Юмовская концепция причины стала основой эмпиризма и играет важную роль в философии позитивизма. Вопрос о том, «почему» возникают те или иные связи между событиями, метафизичен и поэтому неуместен. Следует отметить, что в данном контексте объяЬнение не имеет отношения к порождающим меха-
Философия науки и объяснение
![]()
низмам. Кроме того, объяснение симметрично прогнозированию, и единственное различие между ними состоит в том, что объяснение указывает в прошлое на причину известного следствия, а прогнозирование предсказывает будущие следствия данной причины.
Позитивизм пользуется особым влиянием в психологии и безоговорочно принят радикальными бихевиористами. В то время как Скиннер предпочитает заменить термин «причинно-следственная связь» «функциональной связью» между зависимой и независимой переменными, в обоих случаях «просто утверждается, что различные события, как правило, происходят совместно в определенной последовательности» (Skinner, 1953). Прогнозирование производится посредством анализа этих связей, а манипулирование причинами позволяет осуществлять контроль над поведением. Зуррифф (Zurriff, 1985) также считает бихевиоризм психологическим вариантом позитивизма, а практическим критерием валидности этой теории — возможность прогнозирования поведения и контроля над цим.
В философии науки существует несколько направлений критики позитивизма, которые можно объединить в две группы — антинатурализм и реализм (BhasКат, 1979; Manicas, 1987). Радикальные криминологи критикуют позитивизм потому, что в их концепции поведения человек является активным субъектом. Они сомневаются в целесообразности использования дедуктивного аспекта позитивизма для объяснения преступлений как поведенческих событий. Это сложный вопрос, но я вкратце коснусь некоторых точек зрения, появившихся в философии, психологии и криминологии в последнее время.
К антинатуралистам принадлежат философы науки неовитгенштейнианской школы (см.: keat, 1971), утверждающие, что методы естественных наук непригодны для исследования человеческого поведения. Эти философы особенно резко возражают против применения юмовской концепции причинности к человеческому поведению. Они считают, что человеческие поступки не поДчиняются закономерностям, а продиктованы желанием людей слеДовать правилам. Закономерности в поведении возникают благодаря преднамеренной деятельности людей, отражающей их способность сознательно контролировать собственное поведение, приводя его в соответствие с правилами. Некоторые из этих философов считают, что позитивистская версия науки приемлема для естественных наук, но отвергают допущение о независимости результатов наблюдений от теории. Они обосновывают отказ от этого допущения психологическими причинами, считая, что познаваемые «факты» диктуются теорией и обретают смысл, только пройдя через призму теоретических концепций, уже имевшихся у наблюдателя прежде (Hanson, 1958). Таким образом, отрицается бихевиористское разграничение между «наблюдаемыми» и не допускающими прямого наблюдения явлениями, поскольку мы интерпретируем поведение до того, как описываем его. С антинатурализмом связана герменевтическая традиция, считающая задачей социальных наук интерпретацию социальных значений действия посредством понимания (verstehen).
Взгляды, согласно которым задачей науки является понимание, а не объяснение на основе законов, следуют из самой ранней критики позитивизма. В психологии она была высказана Олпортом в форме разграничения между номотетическим и иДиографическим подходами к исследованию личности. Это было понято как про-
![]()
тивопоставление объяснения поведения на основе общих законов, применимых ко всем людям, пониманию уникальных атрибутов индивидуума. Холт (Holt, 1962) отказался от этой дихотомии, считая ее ложной и утверждая, что для уникального описания необходим уникальный словарь неологизмов. Он счел оба термина бесполезными. Тем не менее это разграничение сохраняется. Марсил (Marceil, 1977) полагает, что Олпорт смешивает теорию (индивидуумы обладают уникальными атрибутами) с метоДом (исследование индивидуумов, а не групп), и хотя Олпорт намеревался использовать термин «идиографический» в теоретическом значении, на самом деле он использует его в другом смысле, подразумевая исследование отдельного случая. Тем не менее в психологии похожие на законы общие утверждения применяются к соответствующим конкретйнььи случаям, а исследования отдельных случаев все-таки могут считаться номотетическими, как, например, функциональный анализ в клинической психологии (0wens, Ashcroft, 1982).
Антинатуралистский анализ концепции объяснения проведен Уокером (Walker, 1987). Он отвергает позитивисТское предположение о наличии симметричной связи между объяснением и прогнозированием, указывая на объяснения, не связанные с прогнозами, например, объяснения инженера, касающиеся причин обрушения моста. Он проводит различие между вероятностными (likelihood) объяснениями, т. е. общими законами или вероятностными утверждениями науки, и возможностнььии (possibility) объяснениями. Последние, в сущности, являются историческими нарративами, в которых причинам придается особое значение, но каждое из последовательности событий может быть объяснено на основе различных законов, или вероятностны; объяснений. Вероятностные объяснения подходят для регулярных событий, но де годятся для нерегулярных или неожиданных, таких как преступления. По мнению Уокера, все обобщения, полученные социальными науками, обычно являются корреляциями низкого уровня; с их помощью редко можно определить необходимые и еще реже Достаточные условия криминального события. Поэтому социальные науки и в особенности Криминология должны искать возможностные объяснения.
По мнению Уокера, неразумно ожидать, что объяснение преступлений может быть «научным». Боттомли (Bottomley, 1979) также считает, чхо в криминологии чаще всего требуется дать ретроспективное объяснение конкретного случая или группы случаев, которое сделает их интетигибельными (т. е. доступными пониманию), причем «эта интеллигибельность будет совместима с субъективным значением этого поведения для продемонстрировавших его людей». Для этого необходим анализ мотивов и причин, с помощью которого можно получить объяснения, не привлекая эмпирические обобщения. При таком подходе в центре внимания находится криминальное событие и допускается непредсказуемость многих случаев криминального поведения.
Аргументы Боттомли сродни доводам некоторых клиницистов. Т. Мишель (Mischel, 1964), например, утверждал, что разработанная Келли теория личных конструктов согласуется с метафорой следования правилам и, чтобы понять конструкты пациента, необходимо встать на его точку зрения. Таким образом можно объяснять и прогнозировать поведение, в то время как общие законы или доступное клиницисту знание статистических устойчивых связей не дают такой возможности, потому что в них не отражены собственные правила пациента.
Философия науки и объяснение
![]()
Поэтому как Боттомли, так и Мишель считают нецелесообразным использование общих законов для объяснения человеческих действий. Тем не менее нет очевидных оснований считать, что понимание действия и его объяснение на основе общих принципов взаимно исключают друг друга. Кроме того, хотя действия правонарушителя могут следовать из его своеобразных личных правил, кажется маловероятным, что их невозможно объяснить в рамках общих теоретических моделей формирования, использования и изменения собственных правил людьми. Такие теоретические модели могут дать вероятностные объяснения, не принимая позитивистской формы, и эту точку зрения развивает философия критического (или трансцендентального) реализма.
Реалистическая точка зрения на науку предложена Бхаскаром (Bhaskar, 1979), и ее значение для психологии оценивают многие авторы (Locke, 1972; Wetherick, 1979; Manicas, Secord, 1983; Secord, 1983; Manicas, 1987). Реалисты соглашаются с позицией антинатуралистов в том, что при объяснении человеческого поведения следует рассматривать человека как субъекта, но считают позитивистские взгляды на науку неправильщми. Естественные и социальные науки исследуют различные предметы, но используют общие методологические принципы. Главными объектами реалистической критики являются юмовская концепция причинности и ее значение в приложении к причинному объяснению.
Реализм начинается с положения о том, что мир состоит из реальных, хотя и не всегда доступных для наблюдения объектов, которые порождают материальные следствия, поскольку обладают причинной спой генерировать эти следствия. Задачей науки является построение теоретических моделей этих каузальных свойств и эмпирическое подтверждение правильности моделей. Каузальные предпосылки (антецеденты) позитивистских законов — это просто активизирующие или «разрешающие» условия, которые позволяют возможностям объекта реализоваться. Они участвуют в объяснении только как неотъемлемые части каузального процесса. Таким образом, кроме ответа на вопрос «как?» причинное объяснение включает ответ на вопрос «почему?». Тем не менее объяснение отличается от прогнозирования, поскольку причинные силы существуют в форме способностей или склонностей, реализующихся только в присутствии активизирующих условий. Мир, находящийся за стенами лабораторий, является открытой системой, поэтому наличие активизирующих условий не поддается надежному прогнозированию. Таким образом, целью науки является не прогнозирование или контроль, а объяснение, и критерием полезности теории должна быть не фальсифицируемость, а, скорее, ее объяснительная сила.
Причинные силы, позволяющие людям воздействовать на мир, локализованы в сознании и в способности создавать модели мира, рассуждать и мыслить. Мотивы, намерения и убеждения являются причинами в генеративном, неюмовском смысле, и их исследование требует внимательного отношения к повседневному языку, которым пользуются люди, объясняя свое поведение. Хотя порождающие механизмы поведения можно искать на физиологическом или социологическом уровнях; это не приводит к дуализму или редукционизму. Человеческий разум зависит от мозга, но является «реальной эмерджентной способностью материи,
1 .
![]()
которая обладает реальной, но тем не менее ограниченной независимостью» (Bhaskar, 1979).
Реалистическая стратегия теоретической и эмпирической науки радикально отличается от позитивистской и претендует на более правильное описание деятельности ученых. В приложении к объяснению преступлений она значительно отличается от антинатуралистического подхода. Во-первых, недостаточно понять действие через его субъективное или символическое значение, так как при этом не выявляются убеждения и мотивы, являющиеся причиной действия. Следовательно, такое объяснение не будет причинным. Во-вторых, различие между номотетическим и идиографическим подходами считается ложным. Психология — это номотетическая наука, но для объяснения поведения индивидуума необходимо не только использовать причинные законы и исследовать биографию и личные характеристики этого индивидуума, но и субъективно проинтерпретировать данную ситуацию. Как отмечает Секорд (Secord, 1983), при этом подразумевается, что роли психологов-теоретиков и прикладных психологов различны. Лабораторные эксперименты позволяют получить адекватное общее объяснение способностей й каузальных возможностей людей, но это сведения лишь о том, что люди могут делать, а не о том, что они будут делать в открытом мире. Реализация возможностей зависит от наличия активизирующих и ограничительных условий, к которым относятся неспособность к действию й обязательства (liabilities). Задачей прикладных психологов является выявление внутренних и внешних условий, позволяющих осуществить возможности, идентифицированные в экспериментальном исследовании. В психологическом исследовании преступления реалистический анализ подразумевает, что в фокусе объяснения находятся намерения, цели и системы убеждений правонарушителей, условия их развития и личные и ситуационные характеристики, которые их активизируют.
Реалистическая точка зрения согласуется с мнением Боттомли, который придает главное значение пониманию криминальных событий и непредсказуемости многих преступлений. Тем не менее реалисты также настаивают на причинном объяснении с привлечением характеристик субъекта криминального деяния. Такое исследование отличается от позитивистского, так как позитивисты используют неясную концепцию реализации криминального поведения и неспособны четко определить, что именно они пытаются объяснить. Для иллюстрации Хирши (Hirschi, 1978) приводит позитивистский анализ концепции причины в объяснении делинквентности. Он не согласен с тем, что причина является СПОЙ, считая ее просто «истинным коррелятом» делинквентности. Главными причинами делинквентности являются такие факторы, как половая и расовая принадлежность, возраст, принадлежность к социально-экономическому классу или школьная успеваемость. Тем не менее ХИРШИ довольно непоследователен, поскольку далее он утверждает, что разграничение между «причинами, произвоДящими следствие... и причинами, преДотвращающими следствие» условно (курсив мой. — Авт.). Позднее он заявляет, что делинквентный акт «вызывают все причины, присутствующие в момент его совершения», но добавляет, что предпочитает теории, в которых «непосредственными причинами делинквентных актов считаются желания действующего лица и его оценка ситуации», и что «такие причины позволяют узнать намерения и мотивы». Таким образом, в предлагаемой Хирши концепции причины как коррелята не разграничиваются возраст, половая принадлежность
![]()
и успеваемость, с одной стороны, и желания и оценка ситуации, с другой. Критика с позиций реализма с очевидностью показывает, что только желания и оценки произвоДят действие, поскольку они являются как обоснованиями (reasons) действий, так и их причинами. Возраст, половая принадлежность или успеваемость не могут произвести действие, хотя и создают условия, благодаря которым человек имеет определенные желания и убеждения.
Позитивистское смешение причин с активизирующими условиями особенно очевидно в криминологических прогностических исследованиях (глава 12). Такие факторы, как возраст и половая принадлежность, являются предикторами лишь склонности к совершению противоправных действий. Чтобы объяснить, как развивается такая склонность, необходима теория, объясняющая, что значит быть молодым чернокожим мужчиной, принадлежащим к, рабочему классу, и т. д., но все равно необходимо выявить условия, позволяющие этой склонности реализоваться в форме противоправного действия. В течение более ста лет эта склонность играла главную роль в позитивистских объяснениях преступлений, но не была четко отграничена от самих противоправных действий. Однако Хирши и Готтфредсон (Hirschi, Gottfredson, 1988) недавно заявили, что «мы должны провести различие между двумя важными концепциями — преступлением, т. е. событием, и криминальностью, т. е. характеристикой человека... это разграничение... напоминает нам, что криминальность не обязательно находит выражение в преступлении и что для совершения преступления недостаточно только преступника». Их теория остается позитивистской, но эта концепция криминальности имеет нечто общее с реалистическим понятием возможности (или склонности), которая может осуществиться или не осуществиться в реальном мире.
Целью этого краткого экскурса в область современной философии науки было выяснить, какая теория позволяет наиболее адекватно объяснять преступления. Хотя философия не может наполнить научные теории содержанием, она дает методологические правила, позволяющие определить, какие методы и знания являются научными. Как будет показано далее, до сих пор большинство психологических теорий криминального поведения были позитивистскими, но когнитивные психологи и специалисты в области теорий социального научения проявляют все больше интереса к способностям, от которых зависят действия людей (Trower, 1984; Bandura, 1986). Точ (Toch, 1987) считает, что изучение преступности должно проводиться посредством исследования индивидуальных случаев. Поведение индивидуума следует объяснять с учетом его мотивов и намерений и с использованием общих принципов теории социального научения и психоанализа. Хотя Точ называет этот подход «дополненным позитивизмом», он является шагом к отказу от механистического детерминизма.
Психологов и психиатров традиционно интересовало, какие люди становятся преступниками и почему, а социологи исследовали соответствующие сегменты населения. Поэтому создается впечатление, что для объяснения преступности необходимо научное разделение труда. Однако представители этих трех дисциплин, работающие в области криминологии; всегда боролись между собой за право называться «мудрейшими» и испытывали взаимное недоверие. Эта антипатия отра-
1.
![]()
жается, например, в том, что криминологи называют клинические методы работы с правонарушителями «коррекционализмом» и высокомерно отвергают психологические точки зрения на делинквентность как «пережиток мягкотелости, имеющий второстепенное значение для развития криминологии и социальной политики» (Parker, Giller, 1981). Лилли, Каллен и Болл (Lilly, Cullen & Ball, 1989), а также Янг и Мэттьюз (Young, Matthews, 1992), наоборот, резко критикуют психологические подходы, считая их слишком тесно связанными с политикой, на том сомнительном основании, что попытки понять конкретного преступника способствуют торжеству консервативных идеологий и практик применения наказаний. Эти авторы отрицают, что преступность имеет отношение к обществу. Подобный антагонизм является заблуждением. В нем отражается узкодисциплинарный империализм, отрицающий правомерность психологического исследования преступности, однако ни психология, ни социология неспособны дать независимые объяснения криминального поведения.
Причины раздоров связаны с происхождением этих трех дисциплин. Психиатрия произошла от «психологической медицины» середины XIX в. и утвердилась как профессия в Европе и Америке к началу ХХ в., когда психология и социоломя стали самостоятельными научными дисциплинами. Психиатры не только создали множество базовых концепций, которые в дальнейшем были заимствованы развивающейся новой наукой — криминологией, но также добивались введения психиатрической экспертизы всех обвиняемых, которые должны предстать перед судом (Garland, 1985). Однако британские психологи не проявляли большого интереса к исследованию преступности, поскольку стремились главным образом упрочить позиции психологии как экспериментальной науки, не зависящей от философии. Хирншоу (Hearnshaw, 1964) проследил историю развития психологических исследований делинквентности и обнаружил, что первая книга на эту тему, изданная в 1853 г., написана Мэри Карпентер, женой выдающегося психолога, однако до появления в 1925 г. влиятельной работы Берта (Burt, 1925) большинство психологических исследований преступников проводили тюремные врачи.
Тем не менее психологи принимали участие в основании Института делинквентности в 1931 г., а впоследствии — Клиники психопатии (позднее переименованной в Клинику Портмена; Glover, 1960), что отражает тот факт, что психоанализ развивался более быстрыми темпами, чем академическая психология. В начальный период развития британской криминологии психиатрия оказывала на него более сильное влияние, чем психология, и Вуттон (Wootton, 1959) даже называет это развитие «однобоким».
В США психология и психиатрия также оказывали влияние на раннее развитие криминологии, о чем свидетельствует интерес к таким темам, как исправление несовершеннолетних правонарушителей (Над, 1904), уровни интеллекта преступников (Goddard, 1914) и психодинамическая теория (Healy & Bronner, 1936). Однако это влияние стало ослабевать по мере развития социологических подходов в ЧИКаГСКОМ университете, и примерно с 1930 г. социология заняла доминирующее положение в американской криминологии. Уилер (Wheeler, 1962) считает, что это было обусловлено, с одной стороны, отсутствием у психиатров интереса к другим академическим дисциплинам и, с другой стороны — стремлением социологов упрочить научную репутацию своей дисциплины и избежать ее ре-
![]()
дующи к психологии. Значимым следствием этого стремления было развитие в рамках социологии особой разновидности социальной психологии, целью которой являлось объяснение индивидуального криминального поведения. Полученные в этой области результаты весьма напоминали психологические или психиатрические объяснения, однако социологи пытались замаскировать это сходство.
Некоторые полагают, что различия во вкладах этих дисциплин в криминоломю связаны с использованием разных еДиниц анализа. Блау (Таи, 1981), например, полагает, что исследование показателей преступности должно находиться в сфере компетенции социологов, которые изучают сравнительные уровни и распределения правонарушений, связывая их с социальными структурами, экономическими или экологическими факторами. Исследование отДельных преступников — дело психологов, которые устанавливают взаимосвязи между криминальным поведением и личными атрибутами и биографиями правонарушителей или ситуациями совершения преступления. Однако в результате происходит смешение единиц анализа с объяснительными факторами (Bottomley, 1979). Суммарные показатели правонарушений не следует рассматривать в отрыве от характеристик людей, совершивших эти правонарушения. Например, наличие корреляции между преступностью и уровнями нищеты или долями людей, проживающих в трущобах, не означает, что бедность или плохие жилищные условия непосредственно вызывают криминальное поведение, поскольку связь может быть опосредована индивидуальными характеристиками, которые коррелируют с этими условиями. Кроме того, наличие корреляции между суммарными показателями еще не означает, что между этими факторами существует корреляция на индивидуальном уровне — такой вывод был бы «экологической ошибкой» (Robinson, 1950). Кроме того, корреляция между личностными характеристиками и совершением правонарушений может быть обусловлена макросоциальными явлениями, измерение которых не проводилось. Поэтому социологические и психологические механизмы могут оказывать влияние как на общие показатели преступности, так и на действия отдельных преступников. Разделение труда между социологами и психологами следует проводить по типу объяснительного фактора — либо это общественные структуры, либо качества индивидуумов.
На практике подходы к исследованию преступности, используемые этими дисциплинами, во многом совпадают, поскольку социологи также изучают характеристики индивидуумов, такие как установки и индивидуальное поведение, в форме данных самоотчетов о делинквентности. Кроме того, существует область общих интересов, являющаяся предметом изучения социальной психологии или микросоциологии. Секорд (Secord, 1986) различает три вида социальной психологии в рамках социологии: 1) психологическая социология, изучающая взаимосвязи между макросоциальными явлениями и индивидуальными характеристиками, такими как социальные роли; 2) символический интеракционизм, исследующий смысловые значения взаимодействий в зависимости от социальной ситуации и рассматривающий эти значения как скорее социальный, чем индивидуальный продукт; и З) этнометоДология, которая также изучает, как субъекты действия интерпретируют ситуации, но придает главное значение уникальности смыслов, зависящих от контекста. Последние две дисциплины используют в основном субъективные методы наблюдения и подчеркивают важность «исторической природы человеческого действия, зависящей от ситуации, связанной с куль-
1 .
![]()
турой и насыщенной особенностями языка». Все эти направления сыграли важную роль в развитии социологии девиантности, но до недавних пор психологические подходы к исследованию преступности основывались главным образом на психодинамической теории или на поведенческих моделях, полученных в результате исследования научения у животных, а не на социально-психологических теориях.
Однако, несмотря на внимание к групповым процессам, социальная психология в рамках социологии придает большое значение объективному экспериментированию и, так же как социология, проявляет интерес к индивидууму. Это равнозначно неявному одобрению методологического инДивиДуализма, т. е. философской точке зрения, согласно которой социальные явления могут быть обусловлены диспозициями, убеждениями, ресурсами и взаимоотношениями отдельных людей. Отсюда следует, что социология занимается исследованием групп, выводя их характеристики из характерных особенностей составляющих их индивидуумов, однако в настоящее время многие философы науки отвергают эту позицию (Маnicas, 1987). Представитель коллективистского направления Бхаскар (Bhaskar, 1979) утверждает, что общество — это не просто творение составляющих его людей, поскольку некоторые структуры существовали еще до того, как эти люди родились. Общество является абстракцией, которая проявляет себя только в человеческих поступках, но в поступках всегда выражаются и используются социальные формы, такие как язык, экономические условия или классовая структура. Таким образом, общественные явления существуют реально и оказывают влияние на•людей, которые внесли вклад в их создание. С этой точки зрения социоломя изучает не групповые явления, а процессы, посредством которых социальные структуры создают условия для человеческих поступков. Предметом изучения психологии должны быть когнитивные и эмоциональные качества людей, позволяющие им вступать в отношения с социальным миром, который формирует эти качества, но сам испытывает влияние человеческих действий.
Такая Точка зрения на психологию наиболее ясно выражена в реципрокном детерминизме социально-когнитивной теории, рассматривающей людей как субъектов действия, которые имеют заранее обдуманные намерения, мотивы и поступают в соответствии со своими убеждениями, а личностные факторы, поведение и факторы среды взаимодействуют между собой и влияют друг на друга (Bandura, 1986). Реципрокный детерминизм отличается от однонаправленного детерминизма бихевиористов, считающих поведение Движением пассивного тела, а не Действием человека, имеющего определенные намерения и цель (McGinn, 1979). Моррис с коллегами (Morris et al., 1987) утверждают, что современный бихевиоризм допускает взаимодействие между человеком и внешней средой, но бихевиористы прикладного направления принимают однонаправленный средовый детерминизм из прагматических соображений, потому что могут изменить только среду, чтобы повлиять на поведение. Тем не менее Зуррифф (Zurriff, 1985), выступая в защиту бихевиоризма, полагает, что концепция действия не вписывается в бихевиористскую теорию, поскольку на языке свободных действий и на языке реакций «мир категоризируется различными способами и получающиеся при этом системы нелегко связать между собой». Это здравая оценка границ применимости бихевиоризма для объяснения человеческого социального поведения, а соответственно и для исследования криминального поведения.
![]()
Психологические теории преступности остаются в основном индивидуалистическими. Тем не менее при психологическом исследовании преступности невозможно обойти вопросы, касающиеся природы человеческих поступков или взаиМООТНОШеНИЙ между человеком и обществом. Например, в некоторых теориях делинквентность объясняется с привлечением законов социального научения, но, по наблюдениям Колвина и Паули (Colvin, Pauly, 1983), процессы формирования поведения под влиянием вознаграждений и наказаний складываются под влиянием социальных структур, от которых зависит схема подкрепления и его доступность для людей, занимающих разное социальное положение. Поэтому социологические и психологические теории преступности дают неполные объяснения одних и тех же явлений.
![]()
ГЛАВА 2
Показатели преступности:
количественный и качественный анализ преступлений
С начала XIX в. криминологи уделяют большое внимание статистическому анализу распространенности правонарушений. Так же как эпидемиология в медицине, эти исследования мотивированы необходимостью сдерживания преступности и ее профилактики и позволяют получить интересующие социологов данные о демографических и экологических коррелятах преступности. Психологи обычно пренебрегают эпидемиологией, частично из-за того, что по сравнению с контролируемыми экспериментами полевые исследования имеют более низкий статус, а также из-за того, что в эпидемиологии неявно используется медицинский способ мышления (Cooper, Shepherd, 1973). Тем не менее такие данные являются необходимым дополнением к исследованиям индивидуального криминального поведения, так как психологические теории должны учитывать известные характеристики населения и естественную историю преступности.
До начала 1950-х гг. сведения о преступности поступали в основном из официальных источников информации, но о существовании «темной фигуры» незарегистрированной преступности и невыявленных преступников было известно уже давно. Сомнения в правильности официальной статистики стали причиной более широкого использования альтернативных источников, включая полуофициальные данные, такие как документация страховых компаний, отчеты наблюдателей, внедренных в делинквентные группы, биографии преступников и in .situ («на месте» — лат.) наблюдения за криминальной деятельностью, такой как совершение магазинных краж. Однако кроме официальных учетных данных чаще всего используются самоотчеты правонарушителей или потерпевших, полученные посредством выборочных опросов населения. В этой главе описываются методы идентификации преступлений и преступников и характеристики правонарушителей, которые можно выявить с их использованием.
Для многих целей преступность оценивают посредством подсчета количества криминальных событий или правонарушителей, хотя ясно, что определение события как преступления или человека как преступника зависит от сложных процессов принятия решений. Уровень преступности — это суммарное количество преступлений на единицу населения, но этот показатель зависит от распространенноспш (prevalence), т. е. количества людей, когда-либо в своей жизни совершивших преступление, и частоты — аналога «заболеваемости» (incidence), то есть количества преступлений, приходящихся на одного правонарушителя (Farrington, 0hlin & Wilson, 1986). При использовании этих эпидемиологических терминов учитывается тот факт, что различия в уровнях преступности между различными группами или во времени могут отражать изменения распространенности, частоты или обоих этих показателей.
Классификацию преступлений или правонарушителей по типам обычно проводят с использованием официально принятых категорий правонарушений, хотя для удобства они могут быть объединены в группы, например преступления против собственности или против личности. Однако правовые категории являются лишь грубым первым приближением поведенческих категорий, поэтому их ценность для психологических исследований весьма ограничена. В главе З описываются различные варианты научной классификации правонарушений.
Преступления также различают по степени тяжести. О степени тяжести преступлений часто судят по вреду, причиняемому правонарушениями данной категории, однако Терстоун (Thurstone, 1927) разработал психометрическую шкалу для оценки тяжести преступлений, а Селлин и Вольфганг (Sellin, Wolfgang, 1964) продолжили работу в этом направлении. Они обнаружили, что судьи, сотрудники полиции и студенты колледжей были способны оценивать степень тяжести правонарушений, используя шкалу наименований или шкалу отношений, причем их оценки были весьма близкими — они считали наиболее тяжкими преступления, связанные с нанесением телесных повреждений и материального ущерба. Репликации свидетельствуют о высокой степени согласованности оценок, полученных с использованием различных методов (Walker, 1978), с участием представителей различных социальных групп (Rossi et al., 1974) и культур (Normandeau, 1970), а также в разное время (krus, Sherman & krus, 1977), что указывает на наличие во всех западных обществах нормативного консенсуса по вопросу о степени тяжести правонарушений. Эти результаты имеют значение для оценки относительных ролей консенсуса и конфликта в уголовном праве, а также для разработки политики вынесения приговоров и распределения ресурсов между органами уголовного правосудия. Тем не менее оценки степени тяжести правонарушений зависят от возраста и образовательного уровня участников исследований, и не исключено, что роль консенсуса несколько преувеличена из-за артефактов построения шкал и процессов измерения (СиККеп et al., 1985). Исследования когнитивных репрезентаций актов агрессии также свидетельствуют о том, что «тяжесть» преступления не является одномерной характеристикой, поскольку люди не просто пользуются непрерывной шкалой тяжести правонарушения, а проводят различия между деяниями по степени их оправданности, наличию провоцирующих факторов и по вероятности совершения (Forgas, 1986).
Правительства большинства западных стран ежегодно публикуют данные криминальной статистики. В Англии и Уэльсе эта статистика составляется по ежемесячным отчетам органов полиции Министерству внутренних дел. В эти отчеты включаются сведения о зарегистрированных правонарушениях, подлежащих учету (или преследованию по обвинительному акту) и классифицируемых по восьми категориям (табл. 2.1). В США аналогичные данные публикуются с 1930-х гг. в издании ФБР под названием Unifonn Crime Reports (UCR). Правонарушения делятся на два разряда, причем к первому разряду относятся более тяжкие, или индексные, правонарушения (index offences) (табл. 2.2). Различия между более и менее «тяжкими» преступлениями довольно условны, и в Великобритании в числе прочих правонарушений подлежат регистрации преступления против собственности, из которых более трети связаны с ущербом в размере менее $25. Однако в Америке кражи на сумму менее $50 относятся к преступлениям второго разряда.
Таблица 2.1
Подлежащие учету правонарушения, зарегистрированные полицией в Англии и Уэльсе в 1988 г.
|
Категория правонарушения |
Правонарушений, тыс. |
Процент- ная доля от общего кол-ва |
Уровень в расчете на 100 000 населения |
Изменения в уровне с 1979 г., % |
Показатель раскрываемости, % |
|
Насилие против личности |
158,2 |
4,3 |
315 |
|
75 |
|
Сексуальные преступления |
26,52 |
|
53 |
+20,5 |
75 |
|
Роббери (грабеж с насилием или разбой) |
|
|
63 |
+152,0 |
23 |
|
Берглэри (ночная кража со взломом) |
817,8 |
22,0 |
1628 |
+47 |
29 |
|
Кража |
1931,3 |
52,0 |
|
|
34 |
|
Мошенничество и подлог |
133,9 |
3,6 |
266 |
+10,8 |
71 |
|
Нанесение имущественного ущерба (criminal damage) |
593,9 |
16,0 |
1182 |
|
|
|
Прочие |
22,7 |
|
45 |
+150,0 |
96 |
|
Всего |
3715,8 |
100,0 |
7396 |
+43,4 |
35 |
|
Источник: Эти данные основаны на сведениях, опубликованных в Criminal Statistics England €3 Wales 1988 (Ноте 0ffice, 1989), и адаптированы к целям данного издания с разрешения Контролера государственной канцелярии Ее Величества (Лондон). |
|||||
|
Категория пра- вонарушения |
Правонарушений, тыс. |
Процентная доля от об- щего кол-ва |
Уровень в Расчете на 100 000 населения |
Изменения в уровне с 1979 г., 96 |
Показатель раскрываемости, % |
|
Тяжкое убийство и простое умышленное убийство |
20,9 |
|
8,4 |
|
70 |
|
Изнасилование с применением физической силы |
92,5 |
|
38 |
+8,4 |
52 |
|
Роббери (грабеж с насилием или разбой) |
543,0 |
3,9 |
221 |
+1,1 |
26 |
|
Нападение при отягчающих обстоятельствах |
910,0 |
6,5 |
370 |
+ 29 4 |
57 |
|
Берглэри (ночная кража со взломом) |
3218,1 |
23,1 |
1309 |
-13,4 |
|
|
Похищение имущества, кража |
7205,9 |
55,3 |
3135 |
+4,5 |
20 |
|
Угон транспортных средств |
1432,9 |
10,3 |
583 |
+15,3 |
15 |
|
Всего |
13923,1 * |
100,0 |
5664 |
+1,8 |
21 |
|
* Исключая поджоги. Источник: United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (1989), Uniform Crime Repots 1988, Washington, DC: US Printing 0ffice. |
|||||
Из-за различий в определениях преступлений при сравнении показателей преступности в разных странах возникают трудности, но в ОША имущественные преступления также составляют более 75 0/0 от общего количества правонарушений (табл. 2.2). В США общий уровень тяжких преступлений ниже, чем в Великобритании, и рост преступности за десятилетие, прошедшее с 1979 г., заметно меньше. С другой стороны, в США насильственные преступления составляют большую долю от общего количества правонарушений, и их уровни существенно выше, чем в Великобритании. Например, в 1988 г. уровни убийств и изнасилований в Англии и Уэльсе соответственно составляли 1,2 и 5,7 на 100 000 населения, а в США — и 37,6.
В таблицах приводятся также показатели раскрываемости, т. е. процентные доли преступлений, в совершении которых были заподозрены определенные лица и против которых возбуждены уголовные дела. В целом в 1988 г. в Великобритании было раскрыто более трети всех зарегистрированных преступлений, и, хотя в абсолютных цифрах количество раскрытых преступлений возросло, относительные показатели раскрываемости снижаются. Это не означает, что полиция стала работать менее эффективно. Выявление подозреваемого в большей степени зависит от содержания поступившего в полицию сообщения, чем от работы детективов, обычно изображаемой в художественных произведениях (Bottomley, Pease, 1986), и более высокая раскрываемость преступлений против личности связана с тем, что в этих случаях потерпевший может опознать преступника.
В 1988 г. количество выявленных преступников, совершивших тяжкие престуПЛеНИЯ, составляло чуть более 1 % от населения Англии и Уэльса. Однако по данным 1977 г. о распределении по возрастным группам правонарушителей, впервые обвинявшихся в преступлениях, принадлежащих к стандартному перечню (примерно совпадающему с перечнем правонарушений, подлежащих преследованию по обвинительному акту), Фаррингтон (Farrington, 1981) установил, что совокупная распространенность правонарушителей в населении составляет соответственно 11,7 и 2,1 % мужчин и женщин в возрасте до 17 лет; 21,8 и 4,7 % в возрасте до 21 года и 43,6 и 14,7 % в течение всей жизни. Эти оценки могут быть завышенными, но тем не менее они свидетельствуют о том, что люди, которые когда-либо на протяжении своей жизни могут быть осуждены за совершение преступления, составляют существенную часть населения. С другой стороны, лонгитюдные исследования говорят о том, что лишь меньшинство осужденных совершают повторные правонарушения. Вольфганг, Фиглио и Селлин (Wolfgang, Figlio & Sellin, 1972) обнаружили, что из 10 000 мальчиков, родившихся в Филадельфии в 1945 г., к 18 годам 35 0/0 подвергались аресту за правонарушения, не связанные с транспортными происшествиями, причем примерно треть составляли индексные преступления, но только 6 0/0 выборки стали рецидивистами. На их долю приходилось 52 0/0 всех правонарушений и более 700/0 всех тяжких преступлений с применением насилия. Опрос, проведенный английским Министерством внутренних дел (Ноте 0ffce, 1987), дал аналогичные результаты: почти треть из выборки английских мальчиков, родившихся в 1953 г., к 28 годам были осуждены за правонарушение, принадлежащее к стандартному перечню, но лишь 6 0/0 совершили 6 или более преступлений, и на их долю приходилось 70 0/0 всех обвинительных приговоров в этой группе. Весьма похожие результаты были получены в Швеции Статтином и Магнуссоном (Stattin, Magnusson, 1991).
Данные самоотчетов о криминальном поведении получают посредством проведения анонимных опросов или интервью, респонденты которых сообщают о своем участии в преступлениях, отвечая на вопросы, касающиеся совершения определенных поступков в течение указанного периода времени. Большая часть исследований такого рода посвящается подросткам, большинство из которых обычно сообщают о том, что когда-либо совершали незаконные действия, причем эти действия редко привлекали внимание полиции. Например, по данным Уильямса и Гоулда (Williams, Gold, 1972), 88 0/0 из выборки американских подростков в возрасте от 13 до 16 лет сознаются в том, что за предыдущие три года совершили одно или более правонарушений, но только 9 0/0 были задержаны полицией и лишь 3 0/0 делинквентных деяний повлекли за собой контакты с полицией.
Самоотчеты явно позволяют пролить свет на множество неизвестных полиции правонарушений, однако результаты некоторых исследований показывают, что респондентов, чьи самоотчеты получили высокие оценки, впоследствии чаще арестовывают, а респонденты, официально признанные делинквентами, получают более высокие оценки, чем респонденты, таковыми не считающиеся. Уэст и Фарринггон (West, Farrington, 1973) обнаружили, что почти половина респондентов, чьи самоотчеты получили высокие баллы, в возрасте 16 лет уже были официально осуждены, а для респондентов с низкими оценками этот показатель составил только 11 0/0. Из остальных респондентов с высокими оценками 44 0/0 были осуждены к возрасту 21 год, а из респондентов с низкими оценками — только 1596. В целом 70 0/0 респондентов, чьи самоотчеты получили высокие оценки, в конце концов были официально признаны делинквентами. Поэтому показатели делинквентности, полученные по данным самоотчетов, связаны с официальной статистикой делинквентности, и в нескольких исследованиях были получены коэффициенты корреляции, равные примерно 0,5 (Hindelang, Hirschi & Weis, 1981). С другой стороны, нельзя предполагать, что между этими показателями может существовать очень тесная корреляция. По результатам одного американского исследования, из 23 юношей, сообщивших о совершении не менее 20 индексных правонарушениЙ в течение трех лет, только один был арестован по обвинению в индексном правонарушении (Dunford, Elliott, 1984).
Шкалы самоотчетов содержат несколько источников ошибок измерения, и стандартизация содержания и количества пунктов, а также формата ответов до недавнего времени почти не проводилась. Вопросы касаются просто выборки из универсума потенциально незаконных форм поведения с акцентом на наименее тяжких деяниях, и суммарные оценки обычно распределяются весьма асимметрично. Кроме того, надежность оценок, по-видимому, снижается из-за проблем, связанных с припоминанием, хотя некоторые исследователи получают ретестовую надежность в пределах от 0,85 до 0,99 (Singh, 1979; Huizinga, Elliott, 1986).
Для некоторых целей данные самоотчетов имеют определенные преимущества по сравнению с официальными оценками и могут быть источником достоверной информации по изучаемым вопросам, однако это могут быть не те вопросы, на которые отвечает официальная статистика (Hindelang, Hirschi & Weis, 1979). Так, например, в официальных источниках приводятся в основном данные о самых тяжких преступлениях, а в самоотчетах сообщается о наименее тяжких. Тем не менее наибольшие расхождения между данными из этих двух источников наблюдаются, вероятно, в общих уровнях преступности, а не в распространенности правонарушителей.
Опросы о преступности (crime .sumeys) проводятся посредством выборочного интервьюирования населения и регулярно осуществляются в некоторых странах на локальном или общенациональном уровнях. Респондентов просят сообщить о том, приходилось ли им в течение предыдущих 6 или 12 месяцев стать жертрой преступления. В США первый общенациональный опрос, которым было охвачено 10 000 семей, проводился в 1967 г., а с 1972 г. проводятся ежегодные Национальные опросы о преступности (National Crime Survey — NCS), в каждом из которых участвует 132 000 американских семей (Block & Block, 1984). В Британских опросах о преступности (British Crime Surveys — ВСЯ 1982 (Ноиф & Mayhew, 1983), 1984 (Ноиф, Mayhew, 1985) и 1988 гг. (Mayhew, Elliott & Dowds, 1989) участвовало примерно 11 000 семей в Англии и Уэльсе и лишь 5000 в Шотландии; интервью проводилось с одним представителем каждой семьи, возраст которого превышал 16 лет.
В результате опросов о преступности обнаруживаются гораздо более высокие показатели виктимизации населения по сравнению с официальной статистикой. Например, Британский опрос о преступности 1982 г. выявил в четыре раза больше преступлений против дома (ночные кражи со взломом, угон автомобилей, вандализм) и в пять раз больше преступлений против личности (словесное оскорбление и угроза физическим насилием, грабеж с насилием или разбой, кражи личного имущества, сексуальные преступления), чем было зарегистрировано полицией, хотя треть всех сообщений о виктимизации касалась угона или повреждения транспортных средств или краж из автомобилей. Эти показатели преступности могут быть заниженными. Во-первых, из опросов исключены некоторые категории правонарушений, такие как магазинные кражи или преступления без жертв, а во-вторых, потерпевшие, по-видимому, не сообщают интервьюерам о некоторых преступлениях, особенно о тех, которые касаются семейных ссор. Тем не менее большую часть незарегистрированных преступлений составляют мелкие правонарушения, наносящие незначительный физический, моральный или материальный ущерб или вовсе его не наносящие.
Однако «темная фигура» незарегистрированной преступности частично обусловлена тем, что полиция при регистрации жалоб действует по собственному усмотрению. Например, по данным BCS 1988 г. в статистику преступности было включено лишь 75 0/0 краж из автомобилей, 65 0/0 ночных краж со взломом и 38 0/0 ограблений, о которых было заявлено потерпевшими. Одной из причин того, что полиция регистрирует не все поступившие заявления, могут быть различия в классификации происшествий, однако Боттомли и Пиз (Bottomley, Pease, 1986) указывают на три основные причины, по которым происшествие может остаться незарегистрированным в качестве преступления. Во-первых, жалоба может быть ложной, ошибочной или заявитель впоследствии от нее отказывается. Во-вторых, сотрудники полиции могут счесть происшествие мелким, решить, что виноваты сами потерпевшие, предположить, что преступление вряд ли будет раскрыто, или правонарушителем может оказаться ребенок. В-третьих, из-за нечеткости официальных определений состава преступлений несколько правонарушений могут рассматриваться как одно. Некоторые правонарушения списываются со счета из-за «отсутствия состава преступления», однако общий уровень таких происшествий в Англии и Уэльсе составляет лишь около 60/0. Однако в связи с различиями в организации работы полиции существуют региональные вариации в уровнях незарегистрированных или списанных со счета преступлений. Например, в графстве Ноттингемшир в течение нескольких лет регистрируется самый высокий в Англии уровень преступности, однако Фаррингтон и Даудс (Farrington, Dowds, 1985) обнаружили, что более высокими уровнями виктимизации объясняется меньше трети более высоких уровней зарегистрированной преступности. Это несоответствие обусловлено различиями в практике регистрации мелких преступлений и в степени готовности полиции принять письменное признание правонарушителя в совершении правонарушения.
В идеальном случае статистика преступности необходима для достижения нескольких целей, таких как формулирование социальной политики, оценка деятельности системы уголовного правосудия или построение теорий (Nietzel, 1979). Тем не менее ясно, что официальная статистика не дает надежных оценок количества событий преступления, поэтому некоторые утверждают, что ей не следует доверять. Бокс (Вох, 1981), например, утверждает, что официальные данные о криминальной активности недостоверны, поскольку они являются «отстоявшимся осадком всех тех дискреционных решений, из которых состоит осуществление правосудия...».
2
![]()
Это утверждение вызывает сомнение, так как достоверность — это не только вопрос степени, ее необходимо оценивать с учетом того, что измеряется и с какой целью. Блок и Блок (Block, Block, 1984) отмечают, что не существует «истинного» количества событий преступления, которое не зависело бы от процессов принятия решений потерпевшими или агентами уголовного правосудия, и в официальной статистике, самоотчетах и опросах о преступлениях отражены данные о неодинаковых явлениях. Тем не менее эти данные частично совпадают. Надежность, а следовательно, и действенность официальной статистики снижается за счет нескольких источников ошибок, но сравнения с данными опросов о преступности показывают, что, хотя официальные данные об общем уровне преступности сильно занижены, максимальные расхождения наблюдаются в категориях относительно мелких правонарушений, а в таких категориях, как убийства или угон автомобилей, эти расхождения незначительны или пренебрежимо малы. Хинделанг (Hindelang, 1974а) также показал, что данные опросов о преступности согласуются с такими показателями официальной статистики, как категории наиболее распространенных преступлений и географическое распределение преступлений, и что официальные данные являются достоверными оценками относительного распределения преступности. Если учитывать степень тяжести и частоту правонарушений, то данные самоотчетов и официальные данные также оказываются весьма близкими (Hrndelang et al., 1981). Поэтому нельзя считать официальную статистику абсолютно недостоверной; ее достоверность может быть достаточной для использования в некоторых целях.
Тем не менее следует помнить об описанных недостатках, особенно при исследовании динамики преступности. Во всех промышленно развитых странах, за исключением Японии, за последние три десятилетия произошел резкий рост преступности, особенно в Великобритании и США (Rutter, Glller, 1983). Тем не менее это повышение может иметь в основном иллюзорный характер, и тяжкие преступления были, по-видимому, более широко распространены в доиндустриальном обществе, чем в ХХ в. (Lane, 1974). Зарегистрированный с 1950-х гг. рост преступности может быть в такой же степени связан с процедурными факторами, такими как изменения в законодательстве, в какой с реальными изменениями в противоправном поведении. По оценкам Фаррингтона и Беннетта (Farrington, Bennett, 1981), например, после принятия в 1964 г. Закона о краже и в 1968 г. Закона об уголовной ответственности за нанесение ущерба (Cnminal Damage Act) количество обвинительных приговоров в Англии и Уэльсе возросло на 21 % в результате изменения классификации правонарушений, поскольку многие преступления, прежде не подлежавшие уголовному преследованию по обвинительному акту, стали преследоваться таким порядком. Зарегистрированный рост количества насильственных преступлений также может быть в какой-то степени обусловлен «расширением полицейской сети», так как снизился «порог», начиная с которого мелкое правонарушение считается насильственным преступлением (Bottomley, Pease, 1986). Хотя за последние два десятилетия количество тяжких преступлений с применением насилия (т. е. угрожающих жизни) в Великобритании увеличилось более чем в два раза, их относительное количество снизилось до 7 0/0 от общего количества насильственных преступлений, в то время как частота менее тяжкого насилия возросла в пять раз.
![]()
Рост показателей преступности также отражает изменения в количестве поступающих в полицию заявлений от потерпевших. С 1981 по 1987 г. количество известных полиции преступлений возросло на 41 0/0, но по данным BCS рост преступности за тот же период составил 30 0/0 (Mayhew et al., 1989) Расхождение между официальными данными об уровне преступности и числом зарегистрированных жалоб пострадавших в значительной степени объясняется возрастанием доли преступлений, о которых сообщается в полицию. Однако возрастание этой доли вместе с ростом числа фактически совершенных преступлений может привести к непропорциональному повышению уровня зарегистрированной преступности. Мэйхью с коллегами (Mayhew et al., 1989) исследовали данные о виктимизации за период с 1972 по 1987 г. и обнаружили, что количество ночных краж со взломом возросло на 20 0/0. Согласно статистике преступности, за тот же период рост этого показателя составил 125 0/0, но эта цифра отражает совместный эффект гораздо меньшего реального увеличения количества преступлений этого рода и существенно возросшего количества заявлений от потерпевших.
Реальный рост преступности за последние десятилетия не вызывает сомнений, однако, по-видимому, он меньше, чем показывает официальная статистика Возможно, что с 1970-х гг. уровень преступности несколько стабилизировался и даже снизился, особенно в категории правонарушений, совершенных несовершеннолетними (Bottomley, Pease, 1986). Социальные и экономические факторы, связанные с ростом преступности в период с начала 1950-х гг., в точности не установлены. Уилсон и Геррнштейн (Wilson, Herrnstein, 1985) полагают, что значительную роль могли сыграть изменения в отношении общества к таким ценностям, как самоконтроль и отсроченное вознаграждение, хотя вопрос о наличии выраженных изменений является спорным. Более вероятно, что рост преступности обусловлен такими факторами, как возрастание возможностей воровства и увеличение ценности похищенного, благодаря более широкому распространению магазинов самообслуживания и появлению большего количества автомобилей и других потребительских товаров. Еще одним фактором может быть изменение доли населения, принадлежащей к группе риска совершения правонарушений. Коуэн и Ленд (Cohen, Land, 1987), например, обнаружили, что в США изменения в уровнях убийств и угонов транспортных средств в период с 1946 по 1984 г. весьма близко соответствовали изменениям в доле населения, приходящейся на возрастную группу с 15 до 24 лет, а также изменениям в плотности населения, уровне безработицы и количестве заключенных в тюрьмах.
В добавление к проблемам официальной статистики как средству учета криминальных преступлений на идентификацию осужденных может также влиять несовершенство системы уголовного правосудия, обусловленное субъективным фактором (пристрастностью, заинтересованностью в исходе дела, предрассудками служителей закона). Помимо того, что многие преступники остаются невыявленными, многих подозреваемых суд не признает виновными, и юридическое признание человека преступником может в такой же степени зависеть от не предусмотренных законом (extra-legal) факторов, таких как социальный статус, расовая или половая принадлежность подозреваемого, в какой оно зависит от тяжести
![]()
преступления или неоднократного совершения
преступлений. Вопрос не только в том, являются ли известные полиции преступники
типичными представителями преступников вообще, но и в том, выполняет ли система
правосудия требования принципа справедливости в форме равенства всех граждан
перед законом. Сторонники теории конфликта и теории навешивания ярлыков
утверждают, что этот принцип не выполняется. Чемблисс (Chambliss, 1969),
например, считает, что агенты правосудия принимают необъективные решения,
поскольку предубеждены против представителей неимущих классов, и степень
тщательности расследования и строгость вынесенного приговора зависит от
классовой принадлежности подсудимого. ![]()
С момента, когда о преступлении становится известно, и до момента исполнения приговора множество людей принимают множество взаимосвязанных решений, составляющих цепочку с несколькими «узловыми» звеньями, причем как эти люди, так и принимаемые ими решения оказывают взаимное влияние друг на друга (Ebbesen, konecni, 1982; Bottomley, Pease, 1986). Эта цепочка состоит из сообщения о преступлении, его регистрации, выявления и ареста подозреваемого, его освобождения под залог или содержания под стражей, составления обвинительного заключения, признания виновности, вынесения приговора и его исполнения. Все эти решения зависят не просто от существующих правил и инструкций, но также от политики и потребностей данной организации и принимаются конкретными людьми, которые могут действовать по собственному усмотрению. Процесс против подозреваемого может быть прекращен в нескольких точках этой цепи, и лишь меньшинство подозреваемых в конце концов бывают осуждены. Широко известны примеры политических решений о прекращении преследования подозреваемых, особенно тех, которые являются агентами государства, а также то, что по сравнению с «обычными» преступлениями по «канцелярским» преступлениям (collar crimes) формальные уголовные судебные дела возбуждаются реже (Sutherland, 1945). Все эти факты говорят о том, что юридические решения иногда бывают необъективными и принимаются в пользу тех, кто обладает большей властью (Вох, 1983). Тем не менее, не установлено, существует ли систематическая необъективность, ущемляющая интересы неимущих.
В исследованиях, посвященных изучению работы сотрудников системы уголовного правосудия с правонарушителями, больше всего внимания уделяется трем типам решений: 1) арест подозреваемого; 2) дальнейшие действия полиции по отношению к задержанному и З) решения судов о выборе меры наказания. Исследования, проведенные в американских городах с участием наблюдателей, сопровождавших патрулирующих полицейских, позволили получить относительно четкое представление о факторах, от которых зависит арест. Арестом заканчивается меньшинство происшествий, по поводу которых вызывают полицию, и решение об аресте зависит от тяжести преступления и от желания истца, но также в некоторой степени — от характеристик подозреваемого. Например, Блэк и Рейсс (Black, Relss, 1970) наблюдали в трех городах 281 столкновение между полицией и несовершеннолетними, но только 15 0/0 из них завершились арестом, причем наиболее важным фактором оказалась степень тяжести правонарушения. Хотя были арестованы 21 % чернокожих и лишь 80/0 белых подозреваемых, это было
![]()
связано главным образом с тем, что чернокожие несовершеннолетние совершали более тяжкие правонарушения, а податели жалоб на них, которые чаще также были чернокожими, настаивали на аресте. Такие же результаты были получены другими исследователями (Lundman, Sykes, Clark, 1978).
Однако Пилявин и Брайер (Piliavin, Briar, 1964) обнаружили, что полицейские чаще останавливают чернокожих молодых людей, и у враждебно настроенных подростков с «крутой» внешностью и одеждой больше шансов быть арестованными. Блэк и Рейсс (Black, Reiss, 1970), а также Лундмен с коллегами (Lundтап et al., 1978) обнаружили, что арестованными могли оказаться как враждебно, так и миролюбиво настроенные молодые люди, но все же большинство подозреваемых держались в рамках приличия. Однако Смит и Вишер (Smith, Visher, 1982), проведя исследование в 24 американских городах, получили дополнительные доказательства влияния расовой принадлежности на решение об аресте. Чернокожих подозреваемых в среднем чаще арестовывали, как и тех подозреваемых, которые вели себя вызывающе; но даже если чернокожие также вели себя вызывающе, расовые различия сохранялись после введения контроля над такими переменными, как степень тяжести правонарушения и поведение подателя жалобы. Таким образом, при расследовании уличных происшествий решение об аресте подозреваемого зависит от непосредственного впечатления, произведенного подозреваемым на полицейского, и от существующих стереотипов делинквентной молодежи.
Задержанный подозреваемый в полиции может быть либо обвинен в совершении правонарушения, либо официально предупрежден, либо его случай будет рассмотрен неформально, и это зависит от решения сотрудников полиции. С начала 1960-х гг. британские полицейские стали шире использовать предупреждения, особенно имея дело с молодыми правонарушителями и лицами, совершившими мелкие имущественные или сексуальные преступления. Таким образом, возбуждается меньше судебных дел, хотя предупреждения обычно учитываются в публикуемой статистике. В Англии и Уэльсе доля правонарушителей, получивших предупреждения за подлежащие преследованию по обвинительному акту преступления, возросла с 100/0 в начале 1960-х гг. до 28 0/0 в 1988 г. (Ноте 0ffice, 1989а), особенно для возрастной группы от 10 до 13 лет (с 27 до 8696 для мальчиков и с 40 до 95 0/0 для девочек). Таким образом, возраст и половая принадлежность оказывают сильное влияние на решение о вынесении предупреждения задержанному, так же как история и степень тяжести его правонарушения, и большинство лиц, совершивших свое первое правонарушение, получают предупреждение (Farrington, Bennett, 1981; Tutt, 1984). Однако относительные количества предупреждений, выносимых в различных органах полиции, отличаются друг от друга, особенно для рецидивистов (Bottomley, Pease, 1986). Хотя эти расхождения в какой-то степени объясняются различиями в принятых в этих органах процедурах, характеристики правонарушителя также могут играть определенную роль. Ландау (Landau, 1981) проанализировал полицейскую документацию, связанную с решениями о немедленном выдвижении обвинения против несовершеннолетнего или о передаче дела в Бюро по делам несовершеннолетних (в этом случае вынесение предупреждения более вероятно), изучив 1444 решения, принятые в пяти лондонских отделах полиции. С решениями о выдвижении обвинения были связаны такие факторы, как предыдущие правонарушения, возраст, тип совершенного правонарушения и расовая принадлежность. Однако между типом пра-
![]()
вонарушения и расовой принадлежностью правонарушителя наблюдалось взаимодействие, и чернокожих подростков обвиняли в ночных кражах со взломом, применении насилия или нарушении общественного порядка чаще, чем в кражах и угонах автомашин.
Если полиция предъявляет правонарушителю обвинение, то он далее имеет дело с другими людьми, которые могут повлиять на юридический исход дела, — с адвокатами, инспекторами по надзору за условно осужденными или социальными работниками. В США обвиняемый может избежать риска быть приговоренным к суровому наказанию, если он согласится признаться в совершении менее тяжкого правонарушения, и эта практика приводит к тому, что большинство обвиняемых признают свою вину. Выигрыш от такой сделки между сторонами о признании подсудимым своей вины (в наименее тяжком из вменяемых обвинением преступлений), которая в Великобритании официально не признается, иногда может зависеть от статуса обвиняемого. Хотя Ньюмену (Newman, 1956) не удалось найти данные, подтверждающие это предположение, но на самом деле от социоэкономического статуса обвиняемого зависит уровень квалификации адвокатов, которых он может нанять, а соответственно может зависеть и исход дела. Инспекторы по надзору за условно осужденными и социальные работники также могут повлиять на приговор, поскольку они дают рекомендации суду. В английских судах по делам несовершеннолетних отчеты социальных работников играют определяющую роль при принятии решения о заключении под стражу (Tutt, 1984), а в таких отчетах неизбежно учитываются не предусмотренные законом переменные. Хейган (Hagan, 1975), например, обнаружил, что канадские инспекторы по надзору за условно осужденными представляли в суды менее благоприятные рекомендации, если правонарушители были более опасными, враждебно настроенными и принадлежали к этническим меньшинствам и низшим классам.
Между решениями различных судов обнаружены явные различия, касающиеся доли оправдательных приговоров, выбора различных мер наказания и длительности сроков заключения (Bottomley, Pease, 1986). В исследованиях, посвященных изучению степени суровости приговора, основное внимание уделяется расовой принадлежности и социоэкономическому статусу несовершеннолетних и взрослых правонарушителей, но получены противоречивые результаты. Томас и Кейдж (Thomas, Cage, 1977) проанализировали решения одного американского суда по делам несовершеннолетних и обнаружили, что при одинаковых степенях тяжести правонарушений и количествах предыдущих нарушений закона суды выносили более суровые приговоры обвиняемым мужского пола, чернокожим, исключенным из школы и детям разведенных родителей, хотя связь этих переменных с характером решений суда была относительно слабой. С другой стороны, Коэн и Клюгель (Cohen, Cluegel, 1978) исследовали решения двух американских судов по делам несовершеннолетних, где судьи руководствовались неодинаковыми принципами, и обнаружили, Что главными детерминантами степени суровости приговора были характер совершенного правонарушения и количество предыдущих нарушений закона, а расовая и классовая принадлежность не играли существенной роли. Аналогичные данные были получены в результате анализа приговоров английских судов (Crow, 1987). Тем не менее Петерсон и Хейган (Реterson, Hagan, 1984) полагают, что отношение судей к чернокожим правонаруши-
![]()
телям со временем изменилось и зависит в основном от характера совершенного правонарушения, причем в последние годы за преступления без жертв назначаются более мягкие наказания.
Уэлфорд (Welford, 1975) заключает, что данные исследований не свидетельствуют о наличии дискриминации при осуществлении охраны правопорядка и при назначении законного наказания И\ИСХОД юридического процесса определяется главным образом предусмотренными законом факторами. Однако Лиска и Таузиг (Liska, Tausig, 1979), проанализировавшие результаты 17 исследований, обнаружили данные, свидетельствующие о дифференциальном влиянии расовой принадлежности и в меньшей степени — СОЦИОЭКОНОМИЧеСКОГО статуса — на всех этапах судебного процесса. Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что не предусмотренные законом факторы могут играть и нередко действительно играют существенную роль, определяя, кто в конце концов будет официально признан делинквентом или преступником. Тем не менее влиянием характеристик правонарушителя объясняется лишь часть различий в судебных решениях, которые зависят также от социальных контекстуальных факторов, таких как местная организационная политика.
Вопросу о том, как характеристики правонарушителя влияют на решения судов, уделяется недостаточно внимания. Чаще всего исследователи предполагают, что у работников полиции и судей имеются классовые и расовые предрассудки, и эта точка зрения получает научное подтверждение. Например, у работников полиции обычно формируются негативные стереотипы преступников (Garrett, Short, 1975), а Колмен и Гормен (Colman, Gorman, 1982) исследовали выборку английских полицейских и обнаружили, что они более консервативны и авторитарны, чем испытуемые из контрольной группы. Тем не менее психологические особенности правонарушителей также могут оказывать влияние на решения полиции. Вернер с коллегами (Werner et al., 1975) обнаружили, что сотрудники полиции ожидают от молодежи вежливости, готовности к сотрудничеству и ответов на задаваемые вопросы, и после обучения делинквентных подростков соответствующим социальным навыкам полицейские давали им более благоприятные оценки. Фридмен с коллегами (Freedman et al., 1978) выяснили, что у делинквентов отсутствуют некоторые социальные навыки, в том числе они неадекватно реагируют, когда к ним обращаются полицейские.
Характеристики судей также могут играть существенную роль. Пейлис и Диворски (Palys, Dlvorski, 1984) установили, что наиболее вероятной причиной различий в приговорах являются цели, достижению которых судьи придают главное значение, такие как реабилитация или защита общества, и, соответственно, аспекты конкретных случаев, на которых они концентрируют внимание. Поскольку взгляды на борьбу с преступностью тесно связаны с идеологическими убеждениями и личностными переменными (Carroll et al., 1987), вариабельность приговоров может быть во многом обусловлена индивидуальными различиями. Однако организационные требования, по-видимому, ограничивают влияние личных характеристик судей. Тарлинг (Tarlmg, 1979), например, отмечает, что отдельные английские суды принимают весьма последовательные решения, даже если судьи меняются. Таким образом, необъективность может оказывать влияние во всех случаях, когда сотрудники системы уголовного правосудия имеют право поступать по собственному усмотрению, однако это право никогда не бывает неограниченным.
З Зак. 364![]()
![]()
Некоторые характеристики преступности надежно установлены. Уровень преступности выше в городах и в тех районах городов и поселков, где проживают бедные, и среди официально установленных правонарушителей больше молодых мужчин, а в США — чернокожих. Большинство делинквентов совершают правонарушения вместе с другими, и лишь меньшинство несовершеннолетних нарушают закон в одиночку, в то время как взрослые, наоборот, совершают преступления чаще всего без сообщников (Zimring, 1981). Тем не менее эти характеристики могут не обладать устойчивостью, и корреляты правонарушений, следующие из официальной статистики, не всегда совпадают с данными из альтернативных источников.
Много информации о демографических характеристиках правонарушителей получено в результате лонгитюдных исследований (Farrington, 0hhn & Wllson, 1986), и приведенные далее сведения взяты в основном из четырех наиболее значимых работ: 1) исследование 9945 мальчиков 1945 г. рбждения, принадлежавших к первой филадельфийской когорте (Wolfgang, Figlio & Selins, 1972); 2) исследование 13 160 мальчиков и 14 000 девочек 1958 г. рождения, принадлежавших ко второй филадельфийской когорте (Tracy, Wolfgang & Fig110, 1986); З) Кембриджское исследование с участием 411 лондонских мальчиков 1953 г. рождения (West, 1982; Farrington, West, 1990); 4) Национальный опрос молодежи (National Youth Suney), в котором участвовало около 1700 американских подростков, и были получены многократные оценки делинквентности по данным самоотчетов за период с 1977 по 1980 г. (Elhott, Huizmga & Ageton, 1985).
В криминологии традиционно предполагается, что среди лиц, нарушающих законы, несоразмерно высока доля людей с низким социоэкономическим статусом (СЭС). Эта точка зрения подтверждается результатами экологического исследования Шоу и Мак-Кея (Shaw, МсКау, 1942), которые проанализировали географическое распределение преступности в Чикаго и продемонстрировали, что самые высокие уровни преступности приходятся на беднейшие районы города. Эти исследователи рассматривали экологические переменные, такие как уровень доходов, уровень безработицы или доля семей, проживающих в трущобах, как результат процесса селективной сегрегации неимущих, причем высокие уровни преступности связаны с этими переменными через опосредующую переменную, которой является социальная дезорганизация в форме ослабления групповых или семейных связей. По мнению этих авторов, в дезорганизованных районах поддерживаются криминальные традиции, поскольку отсутствие доступа к ресурсам и неспособность достичь высокого статуса толкает людей на преступления, а сообщество не в состоянии контролировать поведение своих членов.
Корреляции на индивидуальном уровне несколько слабее, чем корреляции между социальными характеристиками районов и суммарными уровнями преступности (Robinson, 1950), однако обратная связь между уровнями преступности и СЭС согласуется с официальной статистикой преступности. Например, общенациональный обзор, проведенный в Великобритании в 1963 г., показал, что к 17 годам уже осуждены за уголовное преступление 13,8, 6,1, 4,2 и 0,8 0/0 юношей, принадлежавших к низшим слоям рабочего класса, высшим слоям рабочего клас-
Демографические корреляты преступности
![]()
са, низшим слоям среднего класса и высшим слоям среднего класса соответственно (Douglas et al., 1966). Лонгитюдное исследование, проведенное в Дании, также показало, что существует отрицательная, хотя и слабая корреляция между СЭС родителей и криминальностью их детей (McGarvey et al., 1981), в то время как в филадельфийских исследованиях различия между количеством юношей с низким и высоким СЭС, которые впоследствии были признаны делинквентами, составили 18 0/0 (когорта 1) и 19 0/0 (когорта 2)
В более ранних исследованиях самоотчетов были обнаружены гораздо более слабые классовые различия (см., напр.: Hirschi, 1969), и это очевидное расхождение заставило заподозрить, что в официальном процессе признания делинквентом присутствует необъективность (Вох, 1981). Однако Титтл, Виллмез и Смит (Tittle, Villemez & Smith, 1978), проанализировавшие 35 исследований, заметили, что, хотя средняя корреляция между классовой принадлежностью и делинквентностью по официальным данным была более тесной, чем по данным самоотчетов, связь между этими переменными постепенно ослабевала со временем, и в 1970-е гг. корреляция стала близкой к нулю. С другой стороны, Брейтуэйт (Braithwaite, 1981) рассмотрел большее количество исследований и заключил, что в подавляющем большинстве официальных данных наблюдаются классовые различия, в то время как в исследованиях самоотчетов они гораздо менее выражены.
Элиотт и Гуйзинга (Elliott, Huwinga, 1983) усомнились в методологической корректности ранних исследований самоотчетов. Они использовали шкалы для классификации правонарушений по видам и категориям, по отдельности исследуя распространенность и частоту преступлений, и обнаружили в данных Национального опроса молодежи выраженные классовые различия для наиболее тяжких преступлений против личности и собственности, особенно по частоте. Они полагают, что в ранних исследованиях присутствовали искажения из-за использования в них ограниченных выборочных и частотных распределений правонарушений. Тем не менее Уэйс (Weis, 1987), который провел повторный анализ данных, используя сходные методы шкалирования, обнаружил лишь слабую отрицательную корреляцию между классовой принадлежностью и делинквентностью — как по официальным данным, так и по данным самоотчетов. Изучался также вопрос о наличии расхождений между данными из этих двух источников. Хинделанг с коллегами (Hmdelang et al., 1981) заметили, что в тех исследованиях, где одновременно приводятся официальные данные и данные самоотчетов, степени корреляции между делинквентностью и классовой принадлежностью примерно совпадают и в обоих случаях близки к нулю.
Решающую роль играет используемый метод оценки классовой принадлежности. Торнберри и Фарнуорт (Tornberry, Farnworth, 1982) отмечают, что класс — это довольно расплывчатое понятие, и в большинстве исследований оценивается семейный социальный статус, обычно по профессии основного кормильца семьи. Они обнаружили, что для правонарушителей характерен более низкий личный статус во взрослом возрасте, особенно в смысле образовательного уровня и стабильности работы, но социальный статус родительской семьи не является предиктором нарушения закона ни у несовершеннолетних, ни у взрослых правонарушителей. Тем не менее связь между криминальным поведением и статусом семьи или уровнем доходов может оказаться нелинейной и существовать только в области крайних значений кривой распределения. В когорте рабочего класса Кем-
2
![]()
бриджского исследования экономическая депривация была предиктором ранней делинквентности, а по данным исследования самоотчетов калифорнийских школьников делинквентность связана с безработицей родителей, но не с их профессиональным уровнем (Hirsch1, 1969). При оценке классовой принадлежности по таким характеристикам, как отсутствие работы и статус человека, живущего на социальное пособие, также получаются более устойчивые корреляции с официальной статистикой и данными самоотчетов, касающимися насильственных преступлений (Brownfield, 1986) Поэтому любые классовые различия в уровнях преступности могут отражать вклад живущих в нищете «низших слоев общества».
Большая часть исследований на эту тему была проведена в США, и в других странах понятие «социальный статус» может иметь различные значения. Однако Раттер и Гиллер (Rutter, Glller, 1983) полагают, что, судя по имеющимся данным, в Великобритании, как и в Америке, связь между классовой принадлежностью и делинквентностью является менее сильной, чем считалось прежде. Остается неясным, какими опосредующими факторами обусловлена эта слабая корреляция между преступностью и СЭС. Многие социологи предполагают, что людей толкают на противоправное поведение жизненные трудности, возникающие из-за неравномерного распределения возможностей, и что проживание в бедных районах способствует восприятию криминальных традиций, в то время как психологи также связывают делинквентное поведение с интернализацией групповых и семейных ценностей (главы 4 и 5). Тем не менее Титтл (T1ttle, 1983) утверждает, что ни одна из основных криминологических теорий не предсказывает классовую дифференциацию преступности.
Криминология уделяет повышенное внимание делинквентности несовершеннолетних в силу того, что молодежь больше вовлекается и активнее участвует в преступной деятельности. Данные об арестах или судимостях представителей всех слоев общества показывают, что количество правонарушений, совершенных подростками и молодыми взрослыми, значительно выше среднего и кривые возрастного распределения преступности всегда резко идут вверх начиная с 10 лет, достигают максимума в период от 15 до 18 лет и более плавно снижаются после 21 года. В 1988 г , например, в Англии и Уэльсе в числе получивших предупреждение или признанных виновными в уголовном преступлении мужчин было больше всего восемнадцатилетних (7,696 популяции), по сравнению с уровнями 0,80/0 для десятилетних и 6,2 0/0 для двадцатилетних (Ноте (Псе, 1989а). Для женщин пик приходился на 15 лет ( 1,6 0/0 популяции), а в десять и двадцать лет уровни составляли 0,1 и 0,9 % соответственно. В США максимальное количество арестов за индексные преступления, входящие в UCR, приходится на возрастную группу семнадцатилетних как для мужчин (5,8 0/0), так и для женщин (1,2 0/0) (US Department of Just1ce, 1989).
Однако пики кривых распределения неодинаковы для различных видов преступлений, и в то время как в США максимальное количество имущественных преступлений совершают семнадцатилетние мужчины и шестнадцатилетние женщины, пик насильственных преступлений приходится на 18 лет у мужчин и на 24 года у женщин. Более ранние данные UCR также говорят о том, что ночные кражи со взломом, угоны автомобилей и вандализм — это «молодежные» престу-
пол
![]()
ПЛеНИЯ, пик которых приходится на середину юности, а уровни других преступлений, таких как мошенничество и присвоение чужого имущества или денег, достигают максимума позднее, во взрослом возрасте (Steffensmeier et al., 1989). По данным самоотчетов получается такая же картина, т. е. общий максимум преступности достигается в 15—17 лет, однако пики магазинных краж и мелкого воровства наблюдаются раньше, чем пики насильственных преступлений или мошенничества (Farrington, 0hlm & Wllson, 1986). Здесь говорится о максимумах распространенности преступлений. Уровни частоты мало исследованы и, возможно, зависят от возраста иначе.
Возрастное распределение преступности объясняют влиянием как биологических, так и социальных факторов, таких как изменение физической силы или поведенческое экспериментирование в период формирования личной идентичности. Поскольку в начале взрослого возраста наблюдается явная «спонтанная ремиссия», о чем говорит снижение распространенности преступлений в этот период, авторы лонгитюдных исследований уделяют особое внимание окончанию криминальных карьер. Однако Готтфредсон и Хирши (Gottfredson, Hirschi, 1990) подвергают критике такой выбор предмета исследования. Они утверждают, что возрастное распределение инвариантно относительно времени, культуры, половой принадлежности и расы, но отражает распределение совершенных преступлений, а не криминальных наклонностей. Они считают, что последние устойчивы и причины их возникновения одинаковы для всех возрастных уровней. Поэтому лонгитюдные исследования не позволяют получить больше информации о причинах криминальности, чем исследования методом поперечных срезов. Доводы этих авторов признаны неубедительными на том основании, что возрастное распределение неодинаково для различных преступлений или периодов времени (Farrington et al., 1986; Steffensmeier et al., 1989), но в этом контексте различие между криминальными деяниями и криминальными наклонностями заслуживает дальнейшего внимания.
пол
Половые различия относятся к числу наиболее важных характеристик зарегистрированной преступности. В 1988 г. в США за индексные преступления было арестовано в 3,7 раза больше мужчин, чем женщин, причем для имущественных преступлений этот коэффициент составил 3,1, а для насильственных преступлений — 7,7 (US Department of Justice, 1989). Самые низкие значения коэффициента приходились на возрастные группы от 10 до 14 лет (3,8) и старше 21 года (3,8), а самые высокие — на возрастную группу 17—18 лет (4,7). В Великобритании наблюдалась примерно такая же картина: среди людей, получивших предупреждение џли признанных виновными в совершении уголовных преступлений, мужчин в 5,6 раза больше, чем женщин (Ноте 0ff1ce, 1989а). Наименьшие различия также наблюдались в возрастных группах младших подростков (4,8 для возраста 10— 13 лет) и взрослых (5,3 для возраста старше 21 года), а наибольшие — в конце юношеского возраста (7,2 для возраста 17—20 лет). Во всех возрастных группах самые низкие значения коэффициента обнаруживаются для воровства и значительно более высокие — для ночных краж со взломом, ограблений и насилия. Воровство и мошенничество фактически составляют большую часть преступлений,
2.
![]()
совершенных женщинами, — в Великобритании около 80 0/0 во всех возрастных группах.
Эта разница между полами может отражать необъективность в регистрации и расследовании преступлений, совершенных женщинами, а не реальные различия. Утверждают, например, что мужчины ведут себя более «рыцарски», имея дело с женшинами-преступницами. С другой стороны, несовершеннолетним девушкам обычно чаще назначают опеку (custodial dispositzon) за нарушение «морали» и статусные правонарушения. В оценках делинквентности, по данным самоотчетов, обнаруживаются менее выраженные половые различия, чем в официальной статистике, и тот факт, что эти различия минимальны для таких традиционно «женских» видов правонарушений, как проституция, прогулы и побеги из дому, по-видимому, подтверждает предположение о необъективности данных (Cernkovich, (hordano, 1979; Canter, 1982а). Эти последние исследования также обнаруживают, что, хотя распространенность и частота правонарушений для мужчин выше, паттерн вовлеченности в преступления (упорядоченные по тяжести) сходен для мужчин и женщин. Тем не менее для более тяжких правонарушений коэффициенты половых различий (т. е. соотношения полов), определенные по самоотчетам, приближаются к данным официальной статистики (Hindelang et al., 1979). Оценки вовлеченности женщин в преступления против личности, по данным о виктимизации, также приблизительно совпадают с официальными показателями (Hindelang, 1979).
Исследователи не пришли к единому мнению по поводу причин большей криминальной активности мужчин. Поскольку различия наиболее выражены для тяжких преступлений против личности, то некоторые исследователи считают, что они обусловлены явными универсальными различиями между полами в доминантности, агрессивности и заботливости (nurturance), и решающими факторами являются телосложение или гормональный баланс. Эту гипотезу трудно фальсифицировать, однако вариации в уровнях женской преступности коррелируют со степенью подчиненности и бесправия (powerlessness), характерными для культурной роли женщины (Вох, 1983). Тем не менее различия в половых ролях возникают не чисто случайно, а, возможно, вследствие биологических различий (Cohen, Machalek, 1989). Кроме того, исполняя традиционные женские роли, женщины имеют ограниченный доступ в криминальные группы или к криминальным субкультурам, и возможность совершения преступлений у них ограничена (Steffensmeier, 1980). Тот факт, что среди женских преступлений преобладают магазинные кражи и подделки чеков, подтверждает правильность данной гипотезы.
Кроме того, для социализации женщин характерен более строгий родительский контроль и присмотр, а также более сильный акцент на «этике заботы» (Gilligan, 1982), и это может быть причиной большей конформности женщин. Как Ломброзо, так и Фрейд считали, что женщины, нарушающие закон, отвергают традиционные женские роли, но эта точка зрения не получила подтверждения в результате обзора исследований, проведенного Уидом (Widom, 1978а). Ею было обнаружено, что в семьях женщин-преступниц относительно высокие уровни стресса и что этих женщин обычно отличают невысокий образовательный уровень, низкий уровень интеллекта и расстроенные супружеские отношения. Предполагалось также, что для них характерен более высокий процент психопатологии, но количество проведенных сравнений правонарушителей мужского и
Пол
![]()
женского пола недостаточно, чтобы можно было определить, насколько причины женской преступности отличаются от предполагаемых причин мужской преступности. Тем не менее, по сравнению с мужчинами, у женщин биологическая предрасположенность может играть более значимую роль как причина девиантности (Wldom, Ames, 1988).
Поскольку уровень женской преступности повышается, некоторые утверждают, что женщины стали более агрессивными и антисоциальными. В Англии и Уэльсе среди получивших предупреждение или признанных виновными до достижения 17-летнего возраста лиц 1953 г. рождения мужчин было в 7,1 раза больше, чем женщин, однако для правонарушителей 1963 г. рождения это соотношение снизилось до 5,3 (Ноте 0fflce, 1987). Смит и Вишер (Srmth, Vlsher, 1980) проанализировали американские исследования, опубликованные с 1940 по 1975 г., и также обнаружили уменьшение разрыва между количеством правонарушителей мужского и женского пола. Однако такие изменения происходили уже с начала ХХ столетия, поскольку в Нью-Йорке это соотношение с 1902 по 1932 г. снизилось от 60:1 до 8:1 (Metfessel, Lovell, 1942). Тем не менее Стеффенсмейер (Steffensmeier, 1980) показал, что в США абсолютный разрыв между количеством правонарушителей мужского и женского пола на самом деле возрос для большинства преступлений и относительная доля правонарушителей-женщин увеличилась только для имущественных преступлений, таких как кражи, подлог и мошенничество. Этот вывод подтверждается результатами лонгитюдного сравнения показателей преступности в 31 стране (Утоп, Baxter, 1989). Данные из альтернативных источников, касающиеся возрастания уровня женской преступности, более противоречивы. Смит и Вишер (Smlth, Visher, 1980) обнаружили, что до 1975 г., по данным исследований самоотчетов, уменьшение разрыва было более заметным, чем по официальной статистике, но сравнение данных самоотчетов за 1977 и 1967 гг. (Canter, 1982а) показало, что возросла лишь распространенность употребления алкоголя и наркотиков, причем для обоих полов. Лауб (Laub, 1987) также сообщает, что результаты опросов о виктимизации с 1973 по 1981 г. указывают на снижение количества женщин, совершивших преступления против личности в возрасте от 12 до 17 лет, и лишь на небольшое возрастание этого показателя для старших возрастных групп. Таким образом, степень возрастания уровня женской преступности несколько преувеличивается, и произошедшие изменения касаются в основном традиционно женских преступлений, таких как магазинные кражи и подлоги с целью получения социальных пособий.
Высказывается мнение, что рост женской преступности связан с феминизмом и эмансипацией женщин (Adler, 1975). Таким образом, то, что женщины получили доступ к областям, которые традиционно были прерогативой мужчин, может приводить к расширению возможностей не только законной, но и противоправной деятельности. Тем не менее Фигуера-Мак-Донау (Frguera-McDonough, 1984) не обнаруживает в данных самоотчетов прямой связи между феминистской ориентацией и делинквентностью, и в последнее время уровни женской преступности в различных странах коррелируют скорее с уровнями индустриализации и общих экономических возможностей, чем с уровнями женского образования и долями женщин в рабочей силе (Утоп & Baxter, 1989). Хотя не исключено, что женское движение привело к менее «рыцарскому» отношению к женщинам со стороны системы охраны правопорядка, изменения в характере и степени участия
2
![]()
женщин в преступлениях отражают общее возрастание преступности и, по-видимому, не могут служить подтверждением гипотезы о появлении нового типа эмансипированной женщины-преступницы (Steffensmeier, 1980).
В начале ХХ в., когда происходила активная иммиграция чернокожих в США и их миграция в северные города, стали говорить о том, что доля представителей этнических меньшинств среди преступников непропорционально высока. Тем не менее данные за длительный период времени, полученные Шоу и Мак-Кеем (Shaw, МсКау, 1942), показали, что в городских районах с высокими уровнями преступности эти уровни сохраняются, несмотря на изменения в этническом составе населения Более поздние обзоры также свидетельствуют о том, что уровни делинквентности в Чикаго выше в тех районах, где происходит быстрое изменение расового состава населения, а не там, где прочно обосновалось чернокожее население (Bursik, Webb, 1982).
Тем не менее, согласно данным официальной статистики, в США доля чернокожих среди правонарушителей по-прежнему повышена, что особенно очевидно по составу заключенных в исправительных учреждениях. В настоящее время чернокожие составляют около 1 1 0/0 населения США, но в 1988 г. совершили 33 0/0 всех индексных преступлений против собственности и 47 % насильственных преступлений (US Department of Justice, 1989) Официальные данные из Лондона за 1987 г. также показывают, что по сравнению с белыми чернокожие афрокарибского происхождения чаще подвергаются аресту, особенно за насильственные преступления (Ноте 0fflce, 1989b). Этнические меньшинства также представляют 11,5 0/0 заключенных английских тюрем и только 5 0/0 общей популяции (Ноте 0fhce, 1986b).
Вопреки статистике в ранних исследованиях самоотчетов не было обнаружено данных о наличии расового дифференциала (Hirschl, 1969), что подтверждает предположение о том, что официальные данные преувеличены из-за предвзятости. Тем не менее Хинделанг с коллегами (Hindelang et al , 1979) заметили, что расхождения между официальными данными и исследованиями самоотчетов сглаживаются, если учитывать степень тяжести преступления, и по данным самоотчетов среди чернокожих выше доля лиц, совершивших тяжкие преступления с применением насилия. Этот вывод подтвердили Элиотт и Эйджтон (Elliott, Ageton, 1980). Хинделанг (Hlndelang, 1978) также обнаружил, что доля чернокожих, совершивших изнасилования и грабежи, одинаково высока по данным опросов о виктимизации и. UCR, однако между этими источниками имеются расхождения, касающиеся распространенности арестов за нападения, что говорит о том, что предполагаемая предвзятость официальных данных распространяется только на последний из упомянутых показателей. Более свежие американские данные из этих же источников совпадают в том, что указывают на повышенную долю чернокожих, совершивших тяжкие преступления, хотя исследования виктимизации свидетельствуют об уменьшении количества правонарушений, совершенных чернокожей молодежью в течение 1970-х гг. (Laub, 1987).
В Великобритании собрано недостаточно информации по этому вопросу. Раттер и Гиллер (Rutter, Glller, 1983) отмечают, что до начала 1970-х гг. уровни преступности среди чернокожих и переселенцев из Азии не были повышенными,
но более поздние данные указывают на их повышение для детей уроженцев ВестИндии Это подтверждают более свежие данные из Лондона (Ноте 0ffice, 1989b). Хотя постоянное население на 85 0/0 состояло из белых, а уроженцев Вест-Индии было только 5 0/0, на их долю приходилось 54 0/0 арестов за грабежи с насилием и разбои. С другой стороны, было обнаружено, что уровни преступности среди детей азиатского происхождения ниже, чем среди детей коренного белого населения (Mawby, McCulloch & Batta, 1979, 0uston, 1984). В США также отмечается, что в некоторых этнических группах, в особенности среди японцев, уровень преступности ниже среднего. Раштон (Rushton, 1990) провел сравнение интернациональных данных об убийствах, изнасилованиях и нанесении тяжких телесных повреждений, сгруппировав их по преобладающим в этих странах расам, и заключил, что, несмотря на наличие заметных межрасовых различий, самый низкий уровень преступности у монголоидов, самый высокий — у негроидов, а между ними находятся представители индоевропейской расы.
Теории криминального поведения обычно преследуют цель объяснить преступность вообще. Однако ясно, что распределение преступности по демографическим переменным зависит от категории и степени тяжести правонарушения. Кроме того, согласно популярным представлениям о преступниках, а также некоторым теориям, преступники специализируются в области преступлений определенного типа, и такие термины, как взломщик или насильник, указывают не просто на совершение конкретного деяния, а еще и на склонность к его повторению. В этом разделе обсуждаются различия между преступниками по типам или паттернам криминальной деятельности, а также ее частоте и продолжительности. Поскольку криминальные карьеры отличаются по типам и степеням активности, попытки создания общих теорий преступности, по-видимому, не могут быть особенно плодотворными.
Специализация или универсальность в совершении преступлений?
В нескольких многомерных статистических исследованиях самоотчетов несовершеннолетних о правонарушениях была предпринята попытка определить, действительно ли существуют специфические факторы или кластеры криминального поведения. Хинделанг и Вейс (Hmdelang, WelS, 1972) описывают проведенный ими кластерный анализ пунктов самоотчетов о правонарушениях. Они выделили семь кластеров (общая девиантность, нарушение правил дорожного движения/ прогулы, агрессия, кражи, умышленная порча имущества и два фактора употребления наркотиков), что говорит о том, что делинквентное поведение многомерно, однако наличие положительных корреляций между кластерами указывает на то, что они обусловлены общим фактором. Факторный анализ шкал самоотчета обычно дает общий фактор, в который вносят вклад большинство шкальных пунктов, и дополнительные факторы, объясняющие небольшую часть общей дисперсии (см. напр.: Gibson, 1971; Allsopp, Feldman, 1976; Hmdelang et al., 1981; Emler, 1984). Таким образом, криминальное поведение делинквентов, по-видимому, разнообразно и не ограничивается совершением правонарушений какого-либо одного типа.
Другие исследования говорят о том, что общий фактор делинквентного или криминального поведения в самоотчетах является частью более широкого измерения общей Девиантности. В исследовании с участием старшеклассников средней школы и студентов колледжа 0essor, Jessor, 1977) была обнаружена значимая общность между оценками проблемного употребления алкоголя, запрещенных наркотиков, преждевременного начала сексуальных отношений и делинквентного поведения, которые были связаны с личностными переменными, отражающими пренебрежение условностями. Осгуд с коллегами (0sgood et al., 1988) проанализировали аналогичные данные и получили для подростков, студентов колледжа и молодых взрослых результаты, подтверждающие справедливость гипотезы о существовании одного общего фактора пренебрежения условностями, а также продемонстрировали лонгитюдную устойчивость этих форм поведения. Таким образом, если для молодого человека характерна какая-либо форма социальнохнеодобряемого поведения, то для него обычно характерны и другие формы. Дальнемшее подтверждение этой гипотезы следует из Кембриджского исследования. По результатам интервью с респондентами в возрасте 18 лет было обнаружено, что делинквенты отличаются от неделинквентов по нескольким характеристикам, отражающим «антисоциальность» (татуировки, враждебные аттитюды, нестабильная занятость, асоциальные друзья, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, неумеренное курение, употребление алкоголя, азартные игры, употребление запрещенных наркотиков). Аналогичные характеристики были отличительными особенностями правонарушителей в возрасте 32 лет (Farrington, west, 1990).
Тем не менее дальнейшие наблюдения за членами второй филадельфийской когорты до достижения ими 26-летнего возраста более ясно указывают на наличие специализации, в особенности мужчин в области имущественных преступлений, женщин в области статусных преступлений и чернокожих мужчин в области грабежей и разбойных нападений (kempf, 1986). Холланд и Мак-Гарви (Holland, McGarvey, 1984) также обнаружили, что вероятности перехода высоки для ненасильственных преступлений, совершенных взрослыми, но низки для насильственных преступлений, что говорит об отсутствии специализации во втором случае. Медник и Кэндел (Mednick, kandel, 1988), наоборот, сообщают, что обнаружили специализацию, исследуя когорту датчан, за которыми велись наблюдения до 27-летнего возраста. Для правонарушителей, совершивших свое первое преступление, вероятности повторного совершения преступления с применением насилия оказались почти вдвое выше по сравнению с имущественными преступлениями, причем как для несовершеннолетних, так и для взрослых. Однако другие исследования криминальных карьер преступников, применяющих насилие, показывают, что, хотя некоторые из них часто используют насилие, большинство этого не делает и лишь немногие совершают только насильственные преступления (Weiner, 1989). Филадельфийские исследования также свидетельствуют об эскалации степени тяжести преступлений, совершаемых взрослыми рецидивистами (Wolfgang, 1983; Tracy, Wolfgang & Figlio, 1986), но этот вывод не относится к несовершеннолетним, а Холланд и Мак-Гарви (Holland, McGarvey, 1984) обнаружили, что вслед за преступлением с применением насилия более вероятно совершение преступления без применения насилия.
Таким образом, специализация в области определенной категории преступлений является скорее исключением, чем правилом, для несовершеннолетних, но для взрослых правонарушителей специализация несколько более характерна. Тем не менее, хотя правонарушители, вероятно, вообще предрасположены к нарушению социальных правил и не проявляют при этом избирательности, кажется маловероятным, что криминальные деяния выполняют взаимозаменяемые психологические функции. Как отмечает Элкер (Alker, 1972), совершенно различные реакции могут выполнять для индивидуума одинаковую функцию, и точно так же, одинаковые реакции могут выполнять различные функции для разных людей. Поэтому исследователи, придающие слишком большое значение юридическим определениям правонарушений, могут не заметить закономерностей в кажущемся разнообразии криминальных карьер.
В девиантном поведении также обнаруживается преемственность, причем в еще большей степени (0sgood et al., 1988; Farrington, 1992). Результаты ряда исследований указывают на связь между такими характеристиками антисоциального поведения в детстве, как большее разнообразие, раннее начало, высокая активность и кросс-ситуационное постоянство, и антисоциальным поведением в дальнейшем (Loebbr, 1982). В результате длительных наблюдений за трудными деть-
преступности
![]()
ми, чернокожими мужчинами и ветеранами войны во Вьетнаме было обнаружено (Robins, 1978), что злоупотребление алкоголем и наркотиками, насилие, трудности с работой и криминальное поведение у взрослых связаны с такими проблемами в детстве, как участие в драках, недопустимое сексуальное поведение, прогулы, употребление алкоголя и аресты в детстве и в подростковом возрасте Количество и степень разнообразия форм антисоциального поведения в детстве оказались 60лее надежными предикторами девиантности взрослых, чем специфические формы поведения как таковые. Исследовав три выборки, Робинс обнаружила, что от 23 до 41 % детей с антисоциальным поведением в дальнейшем были признаны антисоциальными взрослыми, в то время как большинство антисоциальных взрослых (от 65 до 82 0/0) в детстве считались антисоциальными детьми. Эти данные опять-таки говорят о «спонтанной ремиссии» для большинства, однако у значительного меньшинства проблемы с поведением сохраняются. Исследование Робинс оказало влияние на современные представления об антисоциальной или психопатической личности (глава З). Эти результаты согласуются со взглядами Готтфредсона и ХИРШИ (Gottfredson, Hirschl, 1990) в том, что указывают на существование устойчивой предрасположенности к криминальности, связанной в об, щим отсутствием самоконтроля. Однако Лебер (Loeber, 1990) полагает, что существуют три различных пути развития девиантно&ги. Первый из них — это агрессивно-универсальный (agresswe-versatzle) путь, от детских поведенческих проблем до насильственных преступлений в сочетании с имущественными преступлениями или без последних. Второй, неагрессивный путь начинается с поведенческих проблем неагрессивного характера и ведет к имущественным преступлениям. Третий, независимо образующийся путь — злоупотребление психоактивными веществами, хотя употребление психоактивных веществ связано с первыми двумя путями. Гиллмор с коллегами (Glllmore et al., 1991) сообщают данные о дифференциации этих проблем у младших подростков.
С точки зрения теории навешивания ярлыков, преемственность криминального поведения может быть слеДствием совершения правонарушения, поскольку официальная постановка несовершеннолетнего на учет как делинквента может способствовать дальнейшему развитию девиантности или «усилению девиантности», так как ребенок принимает девиантную идентичность Некоторые данные, свидетельствующие в пользу этой гипотезы, были обнаружены Фаррингтоном, Осборном и Уэстом (Famngton, 0sborne & West, 1978), так как по самоотчетам противоправная активность и враждебные аттитюды усиливались после первой судимости правонарушителей старше 18 лет. Однако этот результат не распространялся на тех, кто был впервые осужден до достижения 14 лет, а также на взрослых правонарушителей. Таким образом, маловероятно, что наблюдаемая преемственность правонарушений объясняется в основном влиянием навешивания ярлыков.
Авторы лонгитюдных исследований проявляют особый интерес к ранним предвестникам делинквентности, стремясь обнаружить прогнозирующие признаки для выявления группы риска, а также для установления возможных «причинных» влияний. Для делинквентов, как правило, характерны предшествующие проблемы с поведением и плохая успеваемость в начальной школе; семейные факторы —
![]()
такие как бедность, большая семья и криминальное поведение родителей в прошлом — также являются значимыми предикторами делинквентности. Теоретическое значение этих факторов будет исследовано в последующих главах, а сейчас нас интересует, насколько отличаются такие предвестники у правонарушителей с различными криминальными карьерами или уровнями криминальной активности. Для многих делинквентность несомненно является преходящим явлением, а для некоторых — более устойчивой характеристикой. Например, в первой филадельфийской когорте среди мальчиков, к 18 годам признанных делинквентами, 46 0/0 совершили лишь одно правонарушение, 35 0/0 были не хроническими (nonchronzc) рецидивистами, а 18 0/0 — хроническими рецидивистами (не менее пяти правонарушений); во второй когорте эти цифры составляли 42, 35 и 23 0/0 соответственно (Tracy et al., 1986). В английской выборке 55 0/0 мужчин и 78 0/0 женщин, осужденных до достижения 28-летнего возраста, совершили по одному правонарушению (Ноте 0fflce, 1987). Ясно, что и в теоретическом, и в практическом плане важно найти признаки, позволяющие отличить закоренелого, хронического преступника, постоянно нарушающего закон, от менее закоренелого преступника или делинквента, нарушающего закон по случаю.
Уэст (West, 1982) различает четыре вида криминальных карьер по таким основаниям, как время начала и беспрерывность совершения преступлений: 1) несовершеннолетние преступники, совершившие всего одно преступление; 2) преступники, поздно начавшие криминальную карьеру (latecomers); З) врёменные рецидивисты; 4) закоренелые, хронические рецидивисты. В результате Кембриджского исследования получены систематические данные о различиях между этими типами. Например, в биографических данных несовершеннолетних преСТУПНИКОВ, совершивших одно преступление, и Хеделинквентов были обнаружены лишь незначительные различия. С другой стороны, сравнение характеристик хронических рецидивистов, осужденных по крайней мере дважды до достижения совершеннолетия и один раз во взрослом возрасте, с характеристиками выборки в целом показало, что рецидивисты чаще других происходили из больших семей с низкими доходами, их родители чаще имели в прошлом судимости и, по оценкам учителей, эти дети в возрасте 10 лет имели более низкий уровень интеллекта и чаще нарушали дисциплину. Используя простой прогнозирующий признак, объединяющиЙ высокую недисциплинированность по оценкам учителей и криминальное прошлое родителей или сиблингов, удалось выявить 51 % тех, кто в дальнейшем стал хроническим рецидивистом, а 5 0/0 остальных членов выборки были отнесены к группе риска. Надо отметить, что 49 0/0 хронических правонарушителей не были выявлены по этому признаку (ложный отрицательный прогноз, или «пропуск цели»), а половина отнесенных по прогнозу к группе риска на самом деле не стали рецидивистами (ложный положительный прогноз, или «ложная тревога»). Такая доля ошибок классификации типична для прогнозирования делинквентности. Тем не менее у мальчиков с неблагоприятной семейной обстановкой, отнесенных к группе рису, но не ставших рецидивистами, в дальнейшем возникали другие социальные проблемы, и они, как правило, были безработными, находились в социальной изоляции и жили в плохих условиях (Farrington & West, 1990).
Раннее начало криминальной карьеры также является прогностическим признаком постоянных нарушений закона, и обычно рецидивисты первый раз под-
![]()
вергаются аресту в более раннем возрасте, чем правонарушители, совершившие только одно преступление (Loeber, 1982). При исследовании филадельфийских когорт были обнаружены близкие к единице отрицательные корреляции между количеством совершенных преступлений и возрастом, когда произошел первый контакт с полицией (Tracy et al., 1986), а по данным кембриджского исследования все 23 хронических правонарушителя (не менее 6 преступлений до достижения 25 лет) впервые были осуждены, еще не достигнув 15-летнего возраста (Титstein, Farrington & Moitra, 1985). Тем не менее не все делинквенты с ранним началом криминальной карьеры стали рецидивистами.
Блумштейн, Фаррингтон и Мойтра (Blumstein, Farrington & Moitra, 1985) попытались найти признаки, позволяющие отличить «неисправимых» (perszstors) от «исправившихся» (desistors) (временных рецидивистов). Проанализировав истории преступлений, использованные в четырех лонгитюдных исследованиях, они обнаружили, что вероятность еще одного ареста или осуждения возрастает с каждым последующим преступлением от первого до шестого, после чего ее значение стабилизируется на уровне примерно 0,8. Они утверждают, что возрастание вероятности отражает отсев «исправившихся» и увеличение доли «неисправимых» в популяции рецидивистов. Был составлен перечень из семи признаков, относящихся к детскому возрасту и связанных с плохим поведением„плохими социальными навыками, низким IQ и плохим родительским воспитанием. С использованием данных Кембриджского исследования было обнаружено, что по присутствию четырех из этих семи признаков можно выявить 65 0/0 «неисправимых» и 20 0/0 «исправившихся» , а 7 % неделинквентов отнести к группе риска хронических правонарушений. Хотя авторы упоминают о проблемах, связанных с ложными отрицательными и положительными прогнозами, они считают, что можно разработать подобный перечень признаков для выявления хронических рецидивистов в раннем возрасте. Однако Данфорд и Элиотт (Dunford, Elhott, 1984) критически относятся к использованию официальных досье для выявления профессиональных преступников. Они использовали данные самоотчетов, полученные в результате Национального опроса молодежи, и классифицировали профессиональных преступников по степеням тяжести преступлений, частоте их совершения и продолжительности криминальной карьеры. Хотя выделенные ими категории существенно различались по характеру досье и, кроме того, по оценкам делинквентного аттитюда, наиболее неисправимые и опасные преступники, определенные по самоотчетам, не попадали в категорию хронических преступников по официальным данным. Эти результаты. не согласуются с результатами Кембриджского исследования, однако они были получены по самоотчетам только за трехлетний период.
Обнаружены также различия между характеристиками «неисправимых» и «исправившихся», относящимися к более позднему возрасту. Осборн и Уэст (0sborne, West, 1980) провели интервью с хроническими преступниками, бывшими делинквентами, которые исправились к 19 годам, и неделинквентами и сравнили их социальное поведение в возрасте 24 года. В 18-летнем возрасте как «неисправимые», так и исправившиеся демонстрировали признаки большей социальной девиантности (нестабильность занятости, участие в драках, злоупотребление алкоголем, курением и пристрастие к азартным играм) по сравнению с неделинквентами. Однако в возрасте 24 года «исправившиеся» были значительно менее антисоциальны, чем «неисправимые», и приближались по этому показателю к не-
![]()
делинквентам, что указывало на изменение их стиля жизни. В возрасте 32 лет «исправившиеся» по-прежнему много пили и участвовали в драках, но по сравнению с «неисправимыми» имели более постоянное местожительство и более стабильную работу (Farrington, West, 1990).
В последнее время проведено несколько неконтролируемых исследований, включающих интервью с «исправившимися». Трейслер (Trasler, 1979), а также Уилсон и Гернштейн (Wilson, Herrnstem, 1985) полагают, что отказ от противоправных поступков является реакцией на изменяющиеся средовые подкрепления, и он происходит тогда, когда законопослушная деятельность становится 60лее вознаграждающей. С этой точкой зрения согласуются данные об изменениях в социальных связях и расширении и укреплении личных отношений, полученные по сообщениям молодых делинквентов (Mulvey, Larosa, 1986) и правонарушителей среднего возраста, постоянно совершавших мелкие нарушения закона (Shover, 1983), которые порвали с преступным прошлым. Тем не менее из интервью с 17 бывшими грабителями Кассон и Пинсонно (Cusson, Plnsonneault, 1986) заключили, что главным фактором является отсроченный сдерживающий эффект отрицательных последствий правонарушения. Данные этих трех исследований свидетельствуют о том, что отказ от совершения противоправных поступков обусловлен переоценуой личных целей и наличием социальной поддержки, способствующёй исправлению. В исследованиях такого рода кроме недостатков, связанных с использованием неконтролируемых ретроспективных данных, возникает проблема определения «исправления», поскольку правонарушители иногда в течение нескольких лет ведут добропорядочную жизнь, а затем вновь совершают преступление (0sborne, West, 1980).
Правонарушителям, поздно начавшим криминальную карьеру (latecomers) и совершившим первое преступление уже во взрослом возрасте, исследователи уделяют меньше внимания. Как отмечалось ранее, они менее многочисленны, чем хронические преступники, хотя в некоторых выборках составляют не менее четверти взрослых правонарушителей. Проведенное по данным Кембриджского исследования сравнение поздно начавших преступную карьеру правонарушителей с «неисправимыми», «исправившимися» и не имеющими судимостей мужчинами показало, что, хотя многие представители первой из перечисленных категорий имели низкий IQ в детстве, они реже происходили из неблагополучных семей или имели родителей с уголовным прошлым и по этим показателям приближались к не имеющим судимостей (West, 1982). С другой стороны, они чаще, чем не имеющие судимостей, нарушали дисциплину в школе, в возрасте 14 лет получали 60лее высокие показатели делинквентности по данным самоотчетов и имели более антисоциальные аттитюды в 18 лет. В 32 года они не отличались от не имеющих судимостей мужчин по уровню стабильности в семье и на работе, но были более склонны к злоупотреблению алкоголем, участию в драках и более подвержены психическим нарушениям (Farrmgton, West, 1990). Таким образом, им были свойственны некоторые характеристики «неисправимых», но они были менее склонны к постоянному совершению правонарушений.
![]()
ГЛАВА З
Классификация
преступников ![]()
Введение
Для развития любой науки необходимы дескриптивные аналитические схемы, с помощью которых выявляются черты сходства и различия между объектами и явлениями, составляющими изучаемую этой наукой область. Хотя основой многих криминологических исследований являются количественные данные о преступлениях и преступниках, такие схемы нужны для разработки теорий преступности, методов ее сдерживания и профилактики. В этом контексте термин «классификация>> имеет два значения. Во-первых, он обозначает системы, с помощью которых группируются объекты, а во-вторых — процесс отнесения индивидуальных объектов к классам определенной системы. Классификация, понимаемая во втором смысле, обычно является целью клинической оценки и диагностики, но в данной главе будут рассматриваться главным образом системы классификации, созданные для выявления различий между классами криминальных действий или совершающих их людей.
При разработке классификаций возникает ряд проблем, связанных со свойствами и структурной организацией классов, и большинство этих проблем можно проиллюстрировать на примере психиатрической классификации. Многие считают одной из основных проблем то, что «типизация» якобы влечет за собой навешивание негативных ярлыков и стигматизацию, а уникальность конкретного человека отрицается. Тем не менее классификация событий или людей является неотъемлемой частью любого языка, и стигматизация более вероятна при преобладании неформальной и оценочной стереотипизации, которое часто имеет место в исправительных учреждениях. Хотя при классификации объекта игнорируется его уникальность, она не отрицается — скорее, классификация служит целям, для которых общие черты играют более важную роль. Классификации необходимы в научной и профессиональной деятельности не только для коммуникации, но и для принятия решений и предсказания (Blashfield, Draguns, 1976; Brennan, 1987а).
Традиционной моделью является линнеевская классификация растений. Атрибуты, события или индивидуумов делят на классы в соответствии с некоторым общим принципом, таким как сходство по форме или функциям. Формулируются необходимые и достаточные критерии принадлежности к каждому классу и предполагается, что классы однородны и не пересекаются. Однако когнитивные исследования показывают, что классы, существующие в естественном языке и в науке, редко удовлетворяют этим требованиям (Rosch, 1978). Скорее, классы опре-
![]()
деляются по нескольким прототипическим признакам, которые присущи большинству, но не всем представителям этого класса. Например, «перья», «крылья» и «полет» — это прототипические атрибуты класса «птица»; атрибут «умеет плавать» менее прототипичен, и ласточка является более характерным представителем данного класса, чем утка. Эта характерная особенность классов получает все большее признание в психиатрической классификации благодаря использованию политетичных классов, принадлежность к которым устанавливается на основе соответствия объекта только некоторым из определяющих критериев (Cantor et al., 1980; American Psychiatric Association, 1987). При таком подходе однородность классов довольно относительна, поскольку не требуется, чтобы представители одного класса были идентичными — достаточно сходства между ними.
При традиционной монотетичной классификации объекты относят к дискретным категориям на основе дихотомических критериев (принцип «все или ничего»), но в отличие от беременности лишь немногие психологические характеристики принимают дихотомическую форму. Для описания таких концептуальных областей, как личные диспозиции или склонности к девиантным реакциям, лучше подходят измерения (dimensions), которые позволяют разграничить предельные случаи, но не дают дискретных классов. При иёпользовании измерений можно определить место каждого индивидуума на количественно измеримом континууме частоты или интенсивности, а это обеспечивает большую точность и гибкость при оценивании эмпирических связей (Eysenck, 1960; Hempel, 1965; Strauss, 1973). Однако независимые измерения, определяющие некую областБ, это отнюдь не то же самое, что взаимоисключающие категории, поскольку каждый индивидуум характеризуется положением относительно всех измерений (или осей координат). Поэтому классы можно формировать посредством группировки объектов со сходными значениями координат по нескольким измерениям, используя эмпирические методы, такие как иерархический кластерный анализ (Blashfield, 1980). При этом сохраняются естественные взаимосвязи между атрибутами и получаются политетичные категории, определяемые на основе континуальных, а не дихотомических критериев. Хотя психиатры сопротивляются использованию размерностного описания (dimensional description) вследствие предпочтения обыденного категориального мышления (kendell, 1975), категориальная классификация в психиатрии зачастую приводит к проведению искусственных границ между нормой и анормальностью.
Классификации создаются четырьмя способами. Во-первых, классы можно формировать по субъективным впечатлениям об иДеальных типах, представляющих модальные или прототипические характеристики членов группы, и это происходит в тех случаях, когда наблюдатель обнаруживает явную ковариацию атрибутов. Многие психиатрические классы, такие как введенное Клекли понятие «психопат» (Cleckley, 1976), появились именно таким образом. Во-вторых, их можно разграничивать по атрибутам, наиболее важным для какой-либо теории, как во фрейдовской теории неврозов. В-третьих, их можно формировать прагматически, сочетая переменные, интересующие исследователя в данный момент, как было сделано в Кембриджском исследовании, в котором для классификации криминальных карьер использовались временныё переменные (см. главу 2). В-четвертых, классы можно формировать эмпирически, с использованием методов многомерной статистики, и этот подход вызывает все больший интерес как в психопатологии (Lorr, 1982), так и в криминологии (Brennan, 1987а).
Классификация в криминологии
![]()
В любом случае классификационные концепты — это теоретические термины, которые необходимо подвергать эмпирической проверке (validation), и классификация, в сущности, является фундаментом любой теории. Независимо от характера классификации, ее адекватность зависит от надежных критериев, последовательного применения и теоретической релевантности для объяснения и предсказания (Hempel, 1965; Blashfield, Draguns, 1976). Многие классификационные системы не удовлетворяют этим требованиям, поскольку в них не используется общий принцип классификации. Например, в психиатрической классификации одни категории по-прежнему определяются по наблюдаемым дисфункциям (например, депрессивное расстройство), другие — по этиологии (органические личностные расстройства), а третьи — на основе теории (конверсионная истерия). Полученные таким образом классы не являются взаимоисключающими, и, хотя надежность психиатрической классификации в последнее время повысилась, множество используемых в психиатрии классов еще ждут своего обоснования.
Классификация в криминологии
Как преступления, так и преступники неодинаковы, и их классификация проводится для достижения трех основных целей. Первая из них — информационная поддержка управленческих решений в пенитенциарной системе. Чтобы обеспечить максимальную общественную безопасность, внутреннюю безопасность для персонала и заключенных и бесперебойную работу исправительных учреждений, необходимо распределять заключенных по исправительным заведениям разного типа в соответствии с их возрастом, полом, степенью опасности, длительностью срока заключения или потребностями в образовании и обучении. Кроме того, характеристики преступников учитываются при предсказании их опасности и их реакций на условно-досрочное освобождение (см. главу 12). Вторая цель — это информационная поддержка режимных (treatment) решений, т. е. для каждой категории преступников необходимо подобрать условия содержания, в которых наиболее вероятно успешное решение таких задач, как надзор, обучение или реабилитация. Третья цель — использование классификации для теоретического ПОНИлшНИЯ, например, при создании причинных теорий, объясняющих преступления определенной категории или описывающих правонарушителей. Маловероятно, что какая-либо классификация одинаково хорошо служит всем трем упомянутым целям, поэтому оценивать ее следует с точки зрения основной цели, для которой она предназначена.
Хотя многие теоретики и исследователи по-прежнему пользуются грубой дихотомией «делинквент»/«неделинквент» или «преступник»/«законопослушный гражданин», большинство исследователей осознают необходимость снижения неоднородности изучаемых правонарушителей. Во многих исследованиях проводятся прагматические разграничения преступного поведения на основе его очевидных измерений (dimensions), таких как частота совершения (рецидивист или правонарушитель, совершивший одно преступление), степень тяжести (наличие или отсутствие жертвы преступления), мотивы (корыстные или агрессивные) или объект (преступления против собственности или против личности). Однако если такая система классификации не опирается на теорию, ее ценность невелика.
![]()
С формально-юридической точки зрения, любая типология должна быть «привязана» к криминальному поведению (Morris, 1965), и лишь в немногих классификациях основное внимание уделяется преступлениям. Чайкен и Чайкен (ChaiКеп, Chaiken, 1984) предлагают прагматическую схему, разделяя криминальное поведение на восемь измерений: нападение (словесная угроза и угроза физическим насилием), роббери (грабеж с насилием или разбой), берглэри (ночная кража со взломом), торговля наркотиками, кражи, угоны автомобилей, мошенничество и подлог или подделка кредитных карточек. При дихотомизации каждого измерения опциями «да» или «нет» получилось, что 10 из 256 возможных конфигураций описывали 59 0/0 заключенных. Хотя этот подход дает однородные классы, количество возможных классов зависит от произвольных решений о количестве измерений (размерности) и их градации, и юридические описания правонарушений могут неадекватно отражать характеристики поведения или функциональную значимость преступления. Например, эмпирические исследования характеристик убийц (Blackburn, 1971а; McGurk, 1978) и водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения (Donovan, Marlatt, 1982), указывают на неоднородность личностных свойств внутри этих категорий.
Некоторые социологические классификации распределяют преступников по категориям в соответствии с социальными паттернами, связанными с совершением преступлений. Системы криминального повеДения (Sutherland, Cressey, 1970; Clinard, Quinney, 1973) описывают преступные действия с точки зрения их интегрирования в социальные традиции, объединяющие индивидуумов, с которыми идентифицирует себя преступник. Например, профессиональное воровство отличается от «любительского» воровства и других криминальных систем, например «беловоротничковых» преступлений, регулярностью совершения краж, принимающих форму мошеннических трюков, или карманных краж, наличием у преступников соответствующих технических навыков, высоким статусом воров среди преступников, наличием социальной сети, поддерживающей криминальную деятельность. С системами криминального поведения связана концепция ролевой карьеры, разграничивающая криминальные роли В соответствии с преступным поведением, обстановкой, в которой оно демонстрируется, криминальной карьерой и аттитюдами преступника к себе и к роли. Гиббонс (Gibbons, 1965) выделяет 9 типов ролевых карьер несовершеннолетних делинквентов и 15 — взрослых преступников, в том числе такие типы, как профессиональные воры, угонщики автомобилей ради удовольствия прокатиться (automobilejoyrider), буйные психопаты, совершающие оскорбление действием (psychopathic assaultist), и лица, совершающие ненасильственные половые преступления. Предложенная классификация не удовлетворяет таксономическим требованиям, так как отсутствует общий принцип классификации и классы не являются взаимоисключающими (Morris, 1965), поэтому неудивительно, что при попытках применения этих типологий оказывается, что лишь немногих преступников можно отнести только к одной категории. В настоящее время Гиббонс (Gibbons, 1988) считает подобную классификацию типов преступников «бесперспективной», поскольку большинство правонарушителей характеризуются разнообразным поведением, а не специфической карьерой.
Психологи, пытающиеся уменьшить степень неоднородности преступников, обычно избегают формально-юридического подхода. Типы преступников выде-
Классификации, получаемые теоретически
![]()
ляЮтся на основе атрибутов, которые не присущи исключительно правонарушителям, но у преступников наблюдаются все же сравнительно чаще, чем у законопослушных граждан, причем особое внимание уделяется различиям в реакциях индивидуумов на конкретные формыг управления или лечения (treatment) (Warren, 1971; Palmer, 1983; Sechrest, 1987; Andrews, Bonta & Hoge, 1990). Некоторые криминологи относятся к таким типологиям с подозрением из-за их явной «клинической» ориентации и близости к психиатрическим классификациям. Однако в данном контексте «лечение» означает оказание помощи преступнику, а не избавление от болезни, и идентификация психологических типов по связанным с развитием, когнитивным или социальным характеристикам не означает, что между девиантным и нормальным поведением существует резкая грань.
По мнению Мегарджи (Megargee, 1977), полезная классификация преступников должна удовлетворять семи критериям: всесторонний охват популяции правонарушителей, однозначные операциональные определения категорий, надежная категоризация, действительные различия между типами, чувствительность к изменениям, релевантность для лечения и экономичность в применении. После Ломброзо было предложено множество классификаций, но лишь немногие хотя бы приблизительно удовлетворяют этим требованиям. Бреннан (Brennan, 1987а) отмечает, что большинство импрессионистских (т. е. основанных на субъективных впечатлениях) или теоретических систем, предложенных в 1960-е гг., оказались малоценными, и в последнее время усилился интерес к системам, создаваемым эмпирическим путем с опорой на признаки, поддающиеся количественной оценке. Хотя все классификации опираются по крайней мере на имплицитные теоретические предпосылки (Faust, Miner, 1986), представляющие интерес современные системы можно разделить на два типа: системы, категории которых определяются на основе эксплицитной теории, и системы, категории которых выводятся эмпирически.
Классификации, получаемые теоретически
Авторы, принадлежащие к психодинамической школе, разграничивают классы преступников на основе бессознательной мотивации и дефицитов в психической организации. Маршалл (Marshall, 1983) объединил ранее существовавшие типологии, выделив следующие основные делинквентные типы: нормальный член делинквентной группировки, невротический, психопатический и психотический типы. Хотя первые три типа встречаются во многих классификациях преступников, психодинамические тйпологии, как правило, основаны на данных об отдельных случаях и не апробированы в исследованиях.
Теории, в которых выделяются стадии когнитивного и межличностного развития, вызывают все больший интерес в том что касается различения делинквентов. Наибольшей известностью пользуется предложенная Колбергом теория морального развития, которая будет обсуждаться в главе 5. Более непосредственное отношение к классификации имеют две теоретически полученные системы — пассификация по уровню межличностной зрелости, созданная Уорреном (Warren, 1971, 1983), и моДель концептуальных уровней, описанная Хантом и Хардтом (Hunt, Hardt, 1965).
![]()
Салливан, Грант и Грант (Sullivan, Grant & Grant, 1956) предложили стадиальтеорию, основанную на неофрейдистских и социально-психологических теор ях. В этой теории перцептивное развитие»рассматривается с точки зрения растущей вовлеченности индивидуума в отношения с другими людьми и социальными институтами, сопровождающейся все более дифференцированным восприятием мира, себя и других. Постулируется семь стадий интеграции (И-уровней): различение Я и не-я (И-1); различение людей и предметов (И-2); дифференциация простых социальных правил (ИВ); осознание ожиданий других людей (И-4); эмпатическое понимание и различение ролей (И-5); различение Я и социальных ролей (И-6); высокий уровень эмпатии и осознание интеграционных процессов в себе и других (И-7).
Фиксация на определенном уровне приводит к относительному постоянству целей, ожиданий и «рабочей философии» жизни, и уровня И-7 достигают очень немногие. Хотя не предполагается наличия причинной связи между уровнем зрелости и антисоциальным поведением, считается, будто для людей, достигших уровней выше И-4, вероятность конфликта с обществом снижается и большинство делинквентов находятся на уровнях И-2, ИЗ или И-4. Впрочем, внутри этих уровней Уоррен выделяет девять подтипов делинквентов, отличающихся различными стилями межличностных реакций. Краткая характеристика этих трех уровней и соответствующих им стилей приводится в табл. З. 1. Для исследовательских целей эти подтипы иногда сводят к более широким группам «пассивных конформистов» (Cfm), «ориентированных на силу» (Cfc и Мр) и «невротиков» (Na и М), на долю которых соответственно приходится 14, 21 и 53 0/0 делинквентов, участвовавших в организаванном Калифорнийским управлением по делам молодежи Проекте воздействия на правонарушителей средствами общины Califomia Youth Аийоrity's Community Treatment Project (Palmer, 1974). Харрис (Harris, 1983) подтвердил предположение о наличии связи между делинквентностью и принадлежностью к опре- деленным типам, но не к уровням; он обнаружил, что большинству подростков можно приписать какой-либо И-уровень, но только треть из них можно отнести к определенному подтипу, причем эти подростки больше дезадаптированы. Кроме того, он обнаружил, что среди подростков, отнесенных к группам Cfc, Мр и Nx, больше официально зарегистрированных делинквентов. С другой стороны, Дэвис и Кропли (Davis, Cropley, 1976) обнаружили, что по сравнению с рецидивистами нерецидивисты демонстрировали более высокие уровни зрелости.
Распределение по уровням и подтипам производится на основе полуструктурированных интервью, для которых межэкспертная (interrater) надежность является удовлетворительной, хотя и более высокой для уровня, а не для типа (Harris, 1988). При альтернативном подходе применяется Инвентарь Джеснесса (Jesness, 1988) — 155-пунктный вопросник, измеряющий 10 переменных, релевантных для оценки делинквентов (например, ценностная ориентация, незрелость, социальная тревожность), на основе которых были разработаны шкалы для определения подтипов .И-уровня с использованием критериальных групп, отобранных методом интервью. Самая последняя версия Инвентаря Джеснесса демонстрирует 6796-ную согласованность с классификацией уровня на основе интервью, но только 35%-ную согласованность для классификации типа (Jesness, Wedge, 1984), и Джеснесс предостерегает против предположений о полном соответствии между
Классификации, получаемые теоретически
![]()
двумя процедурами. Опросные меры являются более экономичными и надежными, и их конструктная валидность была установлена Джеснессом и Веджем (Jesness, Wedge, 1984), которые обнаружили значимые различия между подтипами по целому ряду демографических, социальных, аттитюдных и связанных с делинквентностью показателей. Однако имеющихся данных недостаточно для заключения о том, позволяет ли метод интервью проводить более надежное различение.
Таблица З. 1
Система уровней межличностной зрелости с характеристиками уровней интеграции (И-уровней) и девяти подтипов (по: Warren, 1983)
|
Уровень И-2 |
Эгоцентрическое стремление к удовлетворению собственных потребностей; других людей рассматривает как «дающих» или «препятствующих»; неспособен понять или предвидеть реакции других. 1. Асоциальный, агрессивный (Аа). Активно предъявляет требования и в состоянии фрустрации агрессивен. 2. Асоциальный, пассивный (Ар). Склонен хныкать и жаловаться, в состоянии фрустрации уходит в себя. |
|
Уровень И-З |
Осознает, что в какой-то степени его поведение влияет на других, но не полностью понимает, в чем состоят различия между ними и им; считает, что в организации окружающего мира главную роль играет сила и этим миром можно манипулировать; руководствуется внешними «черно-белыми» правилами. З. Пассивный конформист ( Cfm). Подчиняется всякому, кто в данный момент обладает силой (властью). 4. Культурный конформист (Cfc). Приспосабливается к специфической референтной группе делинквентных сверстников. 5. Антисоциальный манипулятор (Мр). Подрывает авторитет власти, чтобы взять ее в свои руки. |
|
Уровень И-4 |
Рассматривает свое Я с точки зрения ожиданий других людей; заботится о своем статусе и авторитете; принимает роли, наблюдаемые у других, в том числе идентифицируется с героями; руководствуется интернализованными, но негибкими стандартами, из-за чего возникает чувство неадекватности, вины и критическое отношение к себе. 6. Невротичный, отыгрывающий (Na). Выражает чувство вины действием, чтобы избежать осознанной тревоги или самоосуждения. 7. Невротичный, тревожный (М). Конфликт, связанный с чувствами неадекватности и вины, вызывает состояние эмоционального неблагополучия. 8. Ситуативная эмоциональная реакция (Se). Незамедлительно отыгрывает семейные или личные кризисы. 9. ИДентифицирующийся с (суб)культурой (СО. Воплощает в жизнь делинквентные убеждения, таким образом реагируя на девиантную идентификацию. |
Система И-уровней применялась в первую очередь как классификация для дифференцированного обращения с преступниками. При этом исходили из предположения, что преступники на различных стадиях зрелости совершают преступления по различным причинам и требуют разных типов вмешательства для того, чтобы снизить вероятность рецидивизма. Хотя изначально созданная для лече-
![]()
ния моряков, осужденных военным трибуналом (Grant & Grant, 1959), эта система более широко применялась Калифорнийским управлением по делам молодежи в изоляторах для несовершеннолетних нарушителей, в частности в Проекте воздействия на правонарушителей средствами общины, который проводился с 1961 по 1976 г. Целью было установить, можно ли уменьшить рецидивизм, предоставив различным подтипам И-уровней разные режимы содержания, разных специалистов и разные методы исправительного воздействия. В ряде случаев были достигнуты дифференцированные результаты. Например, «невротические» делинквенты стали вести себя лучше, находясь под наблюдением в общине, а «ориентированные на силу» делинквенты вели себя лучше при изначальном помещении их в традиционные исправительные учреждения (Palmer, 1974). Также И-2 и И-З (Cfc) типы лучше реагировали на модификацию поведения, чем на трансактный анализ, а для И-З Мр типа справедливым является обратное (Jesness, 1975).
Эти различные результаты подтверждают конструктную валидность системы, которая в настоящее время применяется в пенитенциарных учреждениях в разных странах (Harris, 1988). Однако теория И-уровней еще не была предметом тщательного исследования. Не было показано, например, соотносятся ли И-уровни с определенными последовательными компонентами развития и отражают ли они изменения в одном или нескольких измерениях (dimensions). Кроме того, хотя эта теория имеет сходство с другими когнитивными теориями развития, ее преимущества остаются неясными. В одном из нескольких проверок теории Остин (Austin, 1975) установил, что меры И-уровней более тесно связаны с интеллектом и моральными аттитюдами, несмотря на делаемый на социальной зрелости акцент. Он ставит под сомнение обоснованность процедур классификации. Различение подтипов также проводится гипотетично, и неизвестно, привязаны ли они к уровням, как и предполагалось, или представляют взаимоисключающие классы. Хотя система является хорошо проработанным подходом для различения делинквентов и их потребностей, не менее полезные различия могут быть сделаны на основе более общих когнитивных и личностных измерений (dimensions). Например, регулярно демонстрировалась корреляция порядка 0,3 между И-уровнем и общим интеллектом, а Смит (Smith, 1974) установил, что типы Джеснесса можно было выделять на основе введенных Айзенком измерений (dimensions), а более конкретно — шкал импульсивности, психотизма и нейротизма.
МоДель концептуальных уровней берет начало в теории концептуальных систем Харви, Ханта и Шродера (Harvey, Hunt & Schroder, 1961), которая имеет одинаковое теоретическое происхождение с теорией И-уровней. Она также предполагает, что социализация проходит через стадии повышения когнитивной сложности в межличностной ориентации, но выделяет четыре уровня:
1) эгоцентрический (конкретное мышление, ориентированный на себя («те»oriented));
2) ориентированный на нормы (некритичный, ищущий принятия);
З) независимый (исследующий, ассертивный, ориентированный на собственное Я («I»-oriented);
4) взаимозависимый (когнитивная сложность, ориентированный на «мы» («we»-oriented)).
Хотя есть доказательства наличия неорганизованного, примитивного концептуального уровня (суб-1) у делинквентов (Hunt, Hardt, 1965), система скорее применяется в целях дифференцированного обращения с правонарушителями, чем для причинного объяснения.
Модель основана на допущении, что индивидуумы оптимально функционируют, когда их концептуальный уровень соответствует средовым характеристикам, предполагая обратную зависимость между концептуальным уровнем и степенью структурированности окружения (правила, контроль, поддержка, переговоры). Индивидуумы на низком концептуальном уровне лучше функционируют в высокоструктурированном окружении с низкой степенью неопределенности, а индивидуумы на высоком концептуальном уровне получают больше пользы от слабоструктурированных гибких окружающих условий. Несоответствие между человеком и окружением порождает напряжение и деструктивное поведение, и при проектировании окружающей среды необходимо достигать «одновременного соответствия», которое порождает стабильность, или «развивающего соответствия», которое способствует изменению.
Эмпирические классификации
Эмпирические подходы опираются на определение измерений посредством факторного анализа пунктов поведенческих опросников, оценки по которым получены на множестве индивидуумов, или на выявление типов посредством кластерного анализа инДивиДуумов, оцененных по множеству пунктов опросников или сконст; руированных на их основе измерений. Впрочем, в одном из ранних исследований проводился кластерный анализ пунктов (характеристик), выделенных из описаний случаев 500 «проблемных детей», наблюдавшихся в детской психологической клинике (Hawitt, Jenkins, 1946). Были выделены четыре кластера: (1) «несоциализированное агрессивное поведение» (UA), (2) «социализированная делинквентность» (SD), (З) «чрезмерная заторможенность» (ОТ) и (4) «физическая недостаточность». Дети из группы UA отличались от детей из группы SD большей агрессией и деструктивностью, а также отсутствием преданности группе, и группа UA рассматривалась как детский предвестник психопатической личности (Jenkins, 1969). Шинохара и Дженкинс (Shinohara, Jenkins, 1967) подтвердили состоятельность этой типологии, установив, что UA делинквенты описывают себя по MMPI как более психологически девиантных по сравнению с SD делинквентами. Десятилетнее катамнестическое исследование показало, что SD делинквенты реже нарушали режим условно-досрочного освобождения или реже становились преступниками во взрослом возрасте (Непп, Bardwell & Jenkins, 1980). Однако полезность этой типологии ограничена ее выведением из данных историй болезни с применением грубых статистических методов, и в первоначальном исследовании только меньшинство детей могло быть однозначно отнесено к непересекающимся типам. При применении типологии к мальчикам из исправительной школы для малолетних преступников в Великобритании Филд (Field, 1967) также установил, что лишь немногие могли бы быть строго отнесены к одному типу.
Более систематической представляется работа Квея, который определил измерения (dimensions) девиантного поведения посредством факторного анализа самоотчетов, материалов историй болезни и досье по делу и оценочных данных о поведении, полученных на популяциях делинквентов, а также на клинических, дошкольных и школьных выборках (Фау, 1977а, 1987а). Четыре основных измерения выявляются и в других исследованиях нарушений детского поведения, даже если их обозначают другими терминами. В настоящее время они описаны как несоциализированная агрессия (UA), тревога—ухоД—Дисфория (А ИО, Дефицит внимания (AD) и социализированная агрессия (М).
Делинквенты распределяются по категориям на основе наивысших оценок, полученных по определенным измерениям. Факторы могут быть измерены посредством сводных показателей, получаемых с помощью различных оценочных инструментов, но чаще всего при использовании оценочных шкал Контрольного списка проблем поведения (Behaviour Problem Checklist) (Фау, 1977а). Показатели надежности удовлетворительны для факторов UA и А ий, хотя она меньше для факторов AD и SD. Валидность была установлена в различных исследованиях, которые демонстрируют различия в деятельности групп в лабораторных экспериментах и при вмешательствах в системе уголовного правосудия (Фау, 1987а).
Квей (Quey, 1984) описывает распространение этого подхода и на взрослых преступников. В Системе внутреннего управления ВЗРОСЛЫМИ (Adult Intemal Маnagement System — AIMS) выделяется пять факторов: агрессивћый-психопатический, манипулятивный, ситуативный, неадекватный-зависимый, невротический-тревожный. Для их измерения используются оценочная шкала и контрольный перечень для анализа досье (case history checklist). Эта классификация в настоящее время применяется в некоторых американских тюрьмах для того, чтобы облегчить «внутреннее управление», которое имеет целью разделение заключенных на более однородные и поддающиеся управлению подгруппы (Levinson, 1988). Благодаря ее применению группы были успешно разделены в зависимости от реакции на режим исправительных учреждений, а количество серьезных происшествий в них уменьшилось.
Многомерные профильные типы обычно определяются на основе кластерного анализа, который применяется некоторыми исследователями для дифференциации однородных подгрупп людей в пределах специфической категории преступления (Blackburn, 1972а; Donovan, Marlatt, 1982). Однако наиболее широко применяемой типологией для преступников в целом является криминальная классификационная система, основанная на MMPI, разработанная Мегарджи при исследованиях молодых заключенных мужчин в Федеральном исправительном учреждении (FCI) в Таллахасси во Флориде (Megargee, Bohn, 1979). Иерархический кластерный анализ выборок стандартных ММРЬпрофилей выявил 10 типов, большинство из которых было найдено и в других выборках, включая заключенных женщин и преступников с психическими расстройствами, хотя применимость этой типологии к несовершеннолетним преступникам более спорна (Zager, 1988).
Таблица 3.2
Криминальная классификация Мегарджи на основе MMPl
|
Группа, процент FCI и паттерны шкал МШИ |
Наиболее выраженные характеристики и потребности в управлении |
||
|
(190/0). Нет шкал с подъемом профиля выше критического уровня |
Устойчивые и хорошо приспособленные; наиболее СОЦИ&лИЗИрованные; нарушители законов о пьянстве и наркотиках; относятся к среднему классу; легко управляемые; не нуждающиеся в лечении |
||
|
Ешу (796). Нормальный, но высокие оценки по шкалам 4 ИЗ |
Наиболее приспособленные; способные, но не использующие своих возможностей; благоприятная домашняя среда; наименее девиантные или агрессивные; нуждающиеся в мотивации к реализации потенциала |
||
|
Baker (40/0). Оценки по шкалам 4 и 2 превышают критический уровень |
Плохо приспособленные; тревожные; пассивные; замкнутые; проблемы с алкоголем; недисциплинированные в тюрьме; нуждающиеся в психотерапии или консультировании |
||
|
АЫе (170/0). Оценки по шкалам 4 и 9 превышают критический уровень |
Доминирующие, враждебные и оппортунистические; аморальные; самопринимающие; с развитыми социальными навВжами; высокий рецидивизм; нуждающиеся в структурированном конфронтационном психотерапевтическом подходе |
||
|
George (70/0). Высокие оценки по шкалам 4 и 2 |
Неагрессивные; преступления вследствие употребления алкоголя и наркотиков; способные; девиантные семьи; принимающие криминальные ценности; высокий рецидивизм; нет заметных дефицитов, но нуждаются в обучении профессиональным навыкам |
||
|
Delta (100/0). Высокие оценки по шкале 4 |
Гедонистические; эгоцентрические; способные; плохие отношения в семье; плохо приспособленные к тюремной жизни; высокий рецидивизм; реакция на психологическое лечение маловероятна |
||
|
Группа, процент FCI и паттерны шкал мми |
Наиболее выраженные характеристики и потребности в управлении |
|
||
|
Jupiter (30/0). Высокие оценки по шкалам 9, 8, и 7 |
В основном чернокожие; тревожные; плохая межличностная адаптация; нестабильные семьи; агрессивны в тюрьме, но только умеренный рецидивизм; нуждающиеся в практической помощи в реабилитации |
|
||
|
Foxtrot (80/0). Высокие оценки по шкалам 9, 4 и 8 |
Доминирующие; агрессивные; наименее социализированные; малообразованные; дезорганизованные, в прошлом депривированные; много преступлений; высокий рецидивизм; нуждаюЩИеСЯ в жестком управлении |
|
||
|
Charlie (9%)• Высокие оценки по шкалам 8, 6, 9, 4 и 7 |
Враждебные; замкнутые; неэмпатийные; агрессивные; много преступлений; дефицит социальных навыков и недостаток образования; серьезные нарушения психического здоровья; неутешительный прогноз |
|
||
|
нош (130/0). Очень высокие оценки по большинству шкал |
Низкий интеллект и слабые достижения; тревожные; пассивные; замкнутые; агрессивные; легкая делинквентность и межличностные проблемы; рецидивисты; умственно неполноценные. |
|
||
Загер (Zager, 1988) обобщает исследования с применением этой системы и резюмирует, что она может быть воспроизведена в различных выборках из исправительных учреждений, надежно применена и что она предсказывает адаптацию как к условиям заключения, так и после выхода на свободу. Хотя необходимы дальнейшие данные о ее чувствительности к изменениям и полезности в предсказании реакции на вмешательство, система может рекомендоваться к использованию в различных федеральных исправительных учреждениях.
З
![]()
дартный MMPI, который не является адекватным отражением какой-либо четкой теории личности, представляется неоправданной.
Объекты в пределах интересующей исследователей области могут быть сгруппированы различными способами, и полезность конкретной классификации зависит от ее назначенйя. Классификации, описанные выше, Отличаются по степени, до которой они были разработаны в целях исследования, управления или лечения, а также они отличаются друг от друга с точки зрения их теоретического фундамента, предпочитаемых психологических характеристик, оценочных методов и популяций преступников, для которых они создавались. Таким образом, эти классификации не конкурируют и не заменяют друг друга. В то же время они не являются взаимоисключающими, и следует ожидать некоторого их пересечения.
Уоррен (Warren, 1971) попытался установить сходимость 16 систем, описанных в литературе, и высказал предположение, что следующие шесть типов представлены концептуально схожими категориями в различных системах: асоциальный (И-2, UA Дженкинса и Квея, концептуальный уровень [суб-1], пассивно-агрессивный и агрессивный по DSM-1); конформист (ИЗ, Cfm и Cfc, SD Дженкинса, по Квею незрелость-неадекватность и социализированная делинквентность, концептуальный уровень 1); антисоциальный манипулятор (ИЗ, Мр, антисоциальная личность по DSM- 1); невротик (И-4, Ма и Nx, 0I Дженкинса, А W Квея, социопатическая личность по DSM-1, концептуальный уровень 2); иДентифицирующийся субкультурой (И-4, Ci, социализированная делинквентность по Дженкинсу и Квею, концептуальный уровень 2) и ситуативный (И-4, Se, концептуальный уровень 2).
Существует немного данных, на основании которых можно было бы судить об обоснованности этих предположений или о степени пересечения между системами. Джеснесс и Ведж 0esness, Wedge, 1984) отмечают значимые корреляции И-уровня с другими системами уровня когнитивного развития, включая корреляцик) 0,45 с концептуальным уровнем Ханта. Юркович и Прентис (Jurkovic, Prentice, 1977) также нашли некоторую связь между системой Квея и стадиями Колберга: UA (психопатические) делинквенты находятся на более низкой ступени морального разбития по сравнению с контрольной группой или с делинквентами, классифицированными как SA или АИД. Карбонелл (Carbonell, 1983) построила сводную частотную таблицу для систем MMPI и И-уровней Джеснесса по взрослым заключенным. Хотя взаимосвязь оказалась значимой, она в большей степени обусловливалась пересечением И-2 с наиболее девиантными типами по MMPI (Charlie, Foxtrot, Нош), и Карбонелл заключила, что пересечение между типологиями в целом было незначительным.
Единственная множественная перекрестная классификация, о которой сообщается в настоящее время, является пилотной для исследования пяти классификациЙ (И-уровень, MMPI система Мегаржи, AIMS Квея, концейтуальный уровень Ханта и стадии морального рассуждения Колберга), используемых для работы со взрослыми преступниками (Van Hoorhis, 1988). Результаты указывают на наличие от слабого до умеренного совпадения типов. Например, три системы стадий развития положительно коррелировали, наибольшая корреляция 0,31 обнаружена между системой И-уровня и системой Колберга; агрессивно-психопатический
![]()
тип по AIMS оказался связанным и с И-З уровнем и с профильными типами Charlie и Foxtrot по MMPI. И MMPI и AIMS системы предсказывают нарушения дисциплины в тюрьме; виктимизированные заключенные чаще находятся на более низких концептуальном и И-уровнях. Слабое соответствие было обнаружено между «невротическим» и «ситуативным» типами из различных систем. Учитывая размер выборки (52 человека), эти результаты можно назвать только предварительными, но они высвечивают неоднородность состава заключенных.
Психиатрическая классификация и антисоциальное поведение
Психологические классификации преступников разрабатывались независимо от психиатрической классификации и в большей степени касались комбинаций достоинств и недостатков, а не идентификации расстройств. Тем не менее, можно ожидать наличия общих черт в классификациях, поскольку существует определенное пересечение между клиническими и криминальными выборками. Связь преступности с основными психическими расстройствами рассматривается в главе 10, но поскольку антисоциальное поведение присутствует в некоторых психиатрических категориях, то здесь мы также коснемся этого вопроса. Обсуждение будет вестись вокруг пересмотренной третьей версии Руководства по диагностике и статистической классификации психических расстройств (DSM-III-R, Атеrican Psychiatric Association, 1987), которая получила более широкое международное признание, чем предыдущие версии.
В DSM-III была сделана попытка улучшить надежность психиатрических диагнозов за счет введения операциональных критериев для определения специфических категорий. Психическое расстройство концептуализуется как:
клинически значимый поведенческий или психологический синдром или паттерн, который возникает у человека и который связан с переживаемым в настоящее время душевным страданием (болезненным симптомом), или с неспособностью (снижением в одной или нескольких важных сферах функционирования), или со значимо возросшим риском смерти, боли, недееспособности или существенной потери свободы.
Девиантное поведение или конфликт с обществом( которые не представляют собой симптома дисфункции человека, предположительно исключены. Классификация является многокоординатной, от сотрудников клиники требуется оценить и закодировать существующую проблему в плоскости психического расстройства (оси I и П), соматического расстройства (ось Ш), степени тяжести психосоциальных стрессоров (ось IV) и общего уровня функционирования (ось V). Ось I охватывает основные клинические синдромы (шизофрения, расстройства настроения и т. д.), ось П охватывает расстройства развития и расстройства личности. ДифФеренциация между осями I и П неявно допускает концептуальное разделение «болезни» и «личности» (Foulds, 1971) и признает, что они не исключают другдруга, а зачастую сосуществуют.
ось ![]()
Ось I включает расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, которые часто коррелируют с криминальным поведением, и сексуальные расстройства, иногда коррелирующие с половыми преступлениями (см. главу 11).
![]()
Она также включает в себя расстройства контроля импульсов, остаточную классификацию, которая используется в лишь том случае, если поведение не является очевидным компонентом некоторых других психических расстройств. Важные характеристики таковы: (1) неспособность сопротивляться импульсу, влечению или искушению совершить действие, которое может нанести вред самому индивидууму и окружающим; (2) повышенное напряжение или возбуждение, предше'ствующее действию; (З) переживание удовольствия, удовлетворения или облегчения на момент совершения действия. DSM-III-R перечисляет пять специфических категорий расстройства контроля импульсов (табл. 3.3). Перемежающееся эксплозивное расстройство (ранее эксплозивное расстройство личности) сходно с «синдромом эпизодического дисконтроля» (см. главу 6). Другие расстройства — остатки устаревшего класса «мономаний», который приписывал повторяющееся совершение девиантных действий патологической «навязчивой идее» и включал не только дипсоманию [1] и нимфоманию[2] , но также и драпетоманию. Они являются скорее гипотетическими причинами, а не описаниями, и отражают ограниченный успех DSM-III в достижении поставленных в нем позитивистских целей ненагруженного теорией описания расстройств (Faust, Miner, 1986).
Таблица 3.3
Специфические категории расстройств контроля импульсов по DSM-lll-R
|
Перемежаю- щееся эксплозивное расстройство |
Отдельные эпизоды потери контроля над агрессивными импульсами с последствиями в форме серьезных насильственных действий или уничтожения собственности; действия несоразмерны стрессорам; нет генерализованной агрессивности между эпизодами; не может быть объяснено интоксикацией, психозом, органическим расстройством или другим расстройством личности |
|
КлептомаНИЯ |
Рекуррентная неспособность устоять перед импульсом украсть предметы, не имеющие для субъекта личной или материальной ценности; напряженность перед и облегчение в процессе кражи; не может быть объяснено гневом, местью, расстройством поведения или антисоциальным расстройством личности |
|
Патологическое влечение к азартным играм |
Поглощенность азартными играми; постоянное увеличение ставок; раздражительность, если нет возможности играть; «гонка» за потерями; долговые обязательства и принесение в жертву других дел, продолжение несмотря на юридические или социальные последствия |
|
Пиромания |
Сознательный, предумышленный поджог в более чем одном случае; напряжение до и удовлетворение или облегчение при поджоге, любование огнем и тяга к нему и всему, что с ним связано; не мотивировано получением выгоды, гневом или сокрытием преступления |
|
Трихотилломания |
Неспособность противостоять импульсу выдергивать волосы; напряжение до и удовлетворение при выдергивании волос |
DSM-III различает расстройства контроля импульсов и «истинные» компульсии, на том основании, что при первых человек получает удовольствие от совер-
![]()
шения действия. Это разделение несколько произвольно, поскольку «облегчение» после напряжения явно присутствует в обоих определениях и традиционно «патологическое» влечение к азартным играм, воровство или поджог оцениваются как компульсивные действия. Они представляют интерес для системы правосудия, поскольку «непреодолимый импульс» используется в некоторых уголовных юрисдикциях в качестве защиты ссылкой на невменяемость (см. главу 10) и поскольку ведется дискуссия вокруг уголовного статуса «преступлений по принуждению» (Cressey, 1969; Cunnien, 1985).
Обоснованность расстройств контроля импульсов как отдельного класса является спорной по концептуальным соображениям. «Импульс» — это всего лишь результат рассуждения по типу порочного круга: импульс как причина выводится из поведения, которое он предположительно запускает, а «неспособность противостоять импульсу» аналогично выводится из наблюдений, что действие было совершено. Кроме того, эти расстройства различаются за счет исключения действий, имеющих сиюминутный «очевидный» мотив. Таким образом, поджог становится пироманией только тогда, когда он не мотивирован какой-либо материальной выгодой, гневом, идеологией или сокрытием преступления или не является реакцией на бред или галлюцинации. Это, однако, сужает критерии до социальных суждений об «иррациональных» (беспричинных, неразумных) или «интуитивно непонятных» действиих. Как отмечает Кресси (Cressey, 1969), ярлыки, подразумевающие «компульсию», фактически применяются, если ни нарушитель закона, ни наблюдатель не могут объяснить поведение с точки зрения актуальных, популярных или санкционированных культурой мотивов. Например, поведение магазинного вора, который ворует дешевые вещи, будучи материально обеспеченным человеком, не может быть очевидно продиктовано материальной нуждой и, что более вероятно, может быть объяснено «патологической» потребностью. Однако такое суждение в подоплеке содержит сомнительное предположение, что кражи в магазинах в общем адекватно объясняются материальной нуждой.
Понятия, подобные клептомании, также подразумевают, что поведение внутренне мотивировано или подкрепляется .sui generis, но если могут быть продемонстрированы внешние мотивы, тогда такое понятие становится избыточным. Берт (Burt, 1925) считал, что клептомания и пиромания являются псевдонаучными терминами и что тщательный анализ определенных повторяющихся правонарушений обычно обнаруживает, что они являются заместительными или символическими активностями, связанными с «душевным конфликтом». Более поздние авторы принимали аналогичную точку зрения. Например, Гиббенс (Gibbens, 1981) установил, что значимое, но небольшое число магазинных воров были в состоянии депрессии и что обычные кражи в этом случае выполняли функцию «лечения», выражения злобы или наказания себя или других. Маршалл и Барбари (Marshall & Barbaree, 1984) приводят доводы в пользу того, что эти предполагаемые расстройства могут быть поняты с точки зрения социального научения. Они истолковывают клептоманию и пироманию как неадекватные формы ассертивносм, развивающиеся при нехватке социальных навыков. Джексон, Гласс и Хоуп 0ackson, Glass & Норе, 1987) предлагают схожий анализ рецидивиста-поджигателя, в котором поджог представляется выученным способом установления контроля над окружающими условиями при низкой самооценке и недостаточной ассертивности. Могут быть предложены и другие, равноценные, теоретические анализы,
4 Зак. 364
![]()
но компульсивное вредоносное поведение, без сомнений, может быть объяснено без вызывающих его фиктивных «маний».
Классификация расстройств контроля импульсов, таким образом, не устанавливает специфических психологических расстройств, имеющих различимые референты. Скорее, эти классы являются объяснительными фикциями, которые вводятся, когда люди не способны объяснить свои повторяющиеся девиантные действия «приемлемыми» или «рациональными» причинами. Повторяющиеся агрессивные акты, кражи в магазинах или поджоги могут выполнять различные функции, которые могут быть связаны с личными кризисами, конфликтами и дисфункциями теми способами, которые человек полностью не понимает. Хотя возможно отнести частные формы повторяющегося девиантного поведения к различным категориям в зависимости от мотива (или подкрепляющего стимула), классификация, фактически опирающаяся на произвольное разграничение между «рациональным» и «иррациональным», не имеет научной пользы.
Под «расстройствами, обычно впервые проявившимися в младенчестве, детстве или в подростковом возрасте» DSM-III-R подразумевает различные специфические расстройства, такие как умственная отсталость 1 , общие расстройства развития (например, аутизм), специфические расстройства развития (неадекватное развитие учебных, языковых, речевых или моторных навыков) и тревожные расстройства Детского и пофосткового возраста. В особом отношении к антисоциальному поведению стоят расстройства нормативного повеДения (dismptive behaviour disorders[3] ), которые характеризуются наблюдаемыми преимущественно у мальчиков паттернами симптомов «экстернализации», появляющимися часто в дошкольные годы. Специфическими категориями являются: синдром Дефицита ВНИЛШНИЯ с гиперактивностью (СДВГ), расстройство повеДения и оппозиционно-вьвывающее расстройство.
СДВГ включает несоответствующие стадии возрастного развития — невнимательность, импульсивность и гиперактивность, выражающиеся в частом ерзанье, отвлекаемости, избыточной говорливости, невозможности долгой концентрации внимания и долгого сидения. В ранних работах этот симптомокомплекс описывался как гиперактивность, с акцентом на моторное беспокойство, и был взаимозаменяем с этиологическим понятием минимальная мозговая Дисфункция (ММД) (Rutter, 1982). Современное его описание в DSM делает больший акцент на внимании. Однако обоснованность понятий СДВГ, гиперактивности или ММД остается под вопросом (Henker, Whalen, 1989), и предположение, что детские пробле-
Термин mental retardation (МЮ у нас переводят по-разному: психическая (или умственная) задержка, умственная отсталость, задержка психического (или умственного) развития. В этом контексте речь идет, конечно же, о задержке психического развития (ЗПР), а умственная отсталость выступает ее результатом. — Примеч. науч. ред.
![]()
мы с вниманием и моторикой являются симптомами «субклинических» повреждений мозга, становится все более спорным. Разные точки зрения относительно полезности этих терминов находят отражение в различных диагностических критериях в разных странах; детская гиперактивность диагностируется примерно в половине психиатрических заключений в Северной Америке, но только в 1 % схоэких случаев с нормальным уровнем интеллекта в Великобритании (Rutter, 1982).
Термином «расстройство поведения» обозначается стойкое антисоциальное поведение, которое нарушает права остальных и социальные нормы, принятые для определенного возраста, начало его приходится обычно на предпубертатный возраст. Критерии включают воровство, побеги из дома, ложь, поджоги, прогулы, взломы и проникновения, порчу имущества, жестокое отношение к животным, повышенную сексуальную активность и драки. Категория подразделяется на группрвой, одиночный и неопределенный типы. Оппозиционно-вызывающее расстройетво включает менее серьезное антисоциальное поведение, в основном проявляющееся дома, и характеризуется негативистскими, враждебными и вызывающими действиями, такими как вспыльчивость, невыполнение требований взрослых, раздражительность и брань.
Следует отметить, что расстройство поведения у подростков может перейти в делинквентность и что существуют некоторые параллели между категориями СДВГ и расстройства поведения и такими измерениями (предложенными Квеем), как дефицит внимания и несоциализированная агрессия соответственно, хотя расстройство поведения так;ке подпадает и под категорию социализированной агрессии. И все-таки независимость описываемых в DSM-III-R категорий продолжает оспариваться и не существует эмпирической или теоретической основы для выделения оппозиционно-вызывающего расстройства в отдельное расстройство. Гиперактивность долго связывалась с детским проблемным поведением, таким как агрессия или воровство, но природа этой связи была затемнена включением таких проблем в набор диагностических категорий в ранних работах. Факторно-аналитическими исследованиями в настоящее время установлено, что гиперактивность и расстройство поведения или агрессия являются отдельными факторами, имеющими различные корреляты (Hinshaw, 1987), и гиперактивность следует также отделять от невнимательности (McGee, Williams & Silva, 1985). Тем не менее оценки этих факторов обычно высоко коррелируют между собой и диагнозы гиперактивности или СДВГ и расстройства поведения существенным образом пересекаются. Связь между гиперактивностью и делинквентностью оценивается в дальнейшем в главе 6.
Расстройства личности принадлежат к психологическим проблемам, проистекающим скорее из личных склонностей, чем из распада или нарушения непрерывности психологического функционирования. В судебно-психиатрических популяциях много людей с такими расстройствами (Tyrer, 1988; Blackburn et al., 1990), и статистика показывает, что они превалируют и среди заключенных (см. главу 10). Точных данных не хватает, поскольку дифференциация в пределах этого класса расстройств была в тени глобального фокуса на психопатической личности. Интерес к этим расстройствам также был ограниченным вследствие полемики о полезности понятий черт и споров в психиатрических кругах вокруг
![]()
того, должны ли они рассматриваться как психические расстройства (Schwartz, Schwartz, 1976).
Включение расстройств личности в ось П возродило интерес к их классификации (Widiger et al., 1988). В DSM-III сделан особый акцент на чертах личности, которые определяются как «устойчивые паттерны восприятия, отношения и мышления индивидуума, предметом которых является его окружение и он сам». Черты образуют личностное расстройство, когда они являются «негибкими и неадаптивными» и приводят к социальной дисфункции или субъективному страданию. В настоящее время официально признается 11 категорий расстройства личности, хотя пробные категории садистической и обрекающей себя на поражение (self-defeating) личности были добавлены в приложение к классификации этих расстройств в DSM-III-R. В табл. 3.4 представлены центральные черты, иллюстрирующие 13 категорий расстройства личности, и даны примеры определяющих критериев.
Таблица 3.4
Характеристики категорий расстройства личности по DSM-lll-R
|
Категория |
Устойчивые тенденции и характерные черты |
|
Параноидная личность |
Интерпретирует действия людей как унижающие или угрожающие (ожидает эксплуатации, сомневается, что остальным можно доверять, затаивает злобу против остальных) |
|
Шизоидная личность |
Безразличен к социальным отношениям, ограниченный эмоциональный опыт и бедные выразительные движения (живет уединенно, замкнуто, равнодушен к критике или похвале, редко испытывает сильные чувства) |
|
Шизотипичная личность |
Дефицитарные личные отношения, эксцентричность мышления, внешности и поведения (социальная тревожность, нет близких друзей, магическое мышление, необычное восприятие, причудливая речь) |
|
Асоциальная личность |
Расстройство поведения до и безответственное и антисоциальное поведение после 15 лет (плохой послужной список, противоправные действия, драки, невыполнение долговых обязательств, импульсивный, безрассудный, безответственный в воспитании детей, нет длительных привязанностей, отсутствие раскаяния). |
|
Пограничная личность |
Неустойчивость настроения, отношений и Я-образа (интенсивные взаимоотношения, колебания настроения, сильный гнев, нарушение идентичности, импульсивные поступки, членовредительство, страх быть покинутым) |
|
Гистрионическая личность |
Чрезмерно эмоциональный, стремящийся быть все время в центре внимания (ищет внимания и одобрения, эгоистичный, неадекватно пытающийся обаять, демонстрирует наигранные, поверхностные чувства) |
|
Нарциссическая личность |
Грандиозные фантазии и претенциозное поведение, недостаток эмпатии, чрезмерная чувствительность к ситуациям оценивания (эксплуатирующий, исполненный чувства собственной важности, чувствует себя источником восхищения, поглощен успехом, расстраивается из-за критики) |
![]()
|
Категория |
Устойчивые тенденции и характерные черты |
|
Избегающая личность |
Социальный дискомфорт, боязнь негативных оценок, социальная робость (его ранит любая критика, боится препятствий, избегает участвовать в чем-либо, скрытный, преувеличивает степень риска) |
|
Зависимая личность |
Зависимый и подчиняющийся (нуждается в ободрении, позволяет другим принимать решения, боится критики и быть отвергнутым, безынициативен) |
|
Обсессивно-компульсивная личность |
Перфекционизм и негибкость (строгое соблюдение норм и стандартов, поглощенность деталями, нерешительный, настаивает, чтобы другие все делали так, как он сам) |
|
Пассивно-агрессивная личность |
Пассивное сопротивление требованиям адекватной социальной и трудовой деятельности (медлительный, угрюмый, обижается на советы, избегает брать на себя обязательства, работает медленно и неохотно) |
|
Садистическая личность |
Жестокий, унижающий и агрессивный (запугивает, оскорбляет, получает удовольствие от страданий других, восхищен оружием и насилием) |
|
Личность, обрекающая себя на поражение |
Избегает приятных переживаний или стремится к отношениям, причиняющим ему страдание (провоцирует отказ и неприятие со стороны других, склонный к самоуничижению) |
Классификация является политетической, отнесение к категории требует наличия только некоторых из определяющих критериев. Следует отметить, что криминальное поведение служит одним из критериев антисоциального расстройства личности (АРЛ), которое имеет некоторое сходство с более ранними понятиями психопатической личности, и Хэйр (Hare, 1983) установил, что 39 0/0 заключенных в двух канадских тюрьмах отвечают критериям этого расстройства. Оно также распространено среди людей, злоупотребляющих психоактивными веществами (khantzian, Treece, 1985), и среди преступников с психическими расстройствами (Barbour-McMullen, Coid & Howard, 1988; Hart, Hare, 1989). Однако в антисоциальных популяциях также распространены и другие категории, такие как пограничное и нарциссическое расстройства личности (Hare, 1983; Frosch, 1983; МсМаnus et al., 1984).
Несмотря на наличие операциональных критериев для каждого расстройства, надежность клинических суждений о расстройстве личности остается низкой. Мелсоп с коллегами (Melsop et al., 1982), например, получили среднюю «межэкспертную» надежность (каппа), составляющую лишь 0,41, причем самая высокая степень согласия была для АРЛ. Такой низкий уровень согласия среди клинических специалистов серьезно ограничивает полезность данной классификации. Это говорит о дедуктивной природе многих критериев и о проблемах, возникающих при дихотомическом суждении о наличии характерных черт на основе ограниченных наблюдений (Widiger, Frances, 1985а). Тем не менее благодаря разработке опросников, оценочных шкал и структурированных интервью надежность была несколько повышена (Widiger, Frances, 1987).
Валидность этой классификации остается почти совершенно неисследованной. Хотя DSM-III было основано на теоретической классификации, предложен-
![]()
ной Миллоном (Millon, 1981), и на современных психодинамических формулировках концепции аномальной личности (Fromm, 1973; kernberg, 1975), данные категории отклоняются от этих оснований в нескольких отношениях и не отражают какой-то единой логически последовательной модели личности. DSM признает, что категории частично пересекаются, и рекомендует множественный (multiple) диагноз, если человек отвечает критериям нескольких расстройств. Для установления валидности следует продемонстрировать, что категории являются внутренне согласованными и хорошо дифференцирующимися. Свидетельства валидности специфических категорий ограничены (Blackburn, 1988а), и хотя Мори (Morey, 1988) установил, что критерии сгруппированы в категории, которые в общем' имеют сходство с предложенными в DSM-III, кажется сомнительным, что выделяемые сегодня категории представляют собой оптимальные кластеры негибких и неадаптивных диспозиций.
Хотя понятие расстройства личности предполагает скорее количественное, а не качественное отклонение от нормы, использование категориальной классификации в DSM-III создает обманчивое ощущение, что между расстройствами и между расстройством и нормальностью есть какой-то разрыв. Было предпринято несколько попыток описать эти расстройства в пространстве размерных переменных. Маршалл и Барбари (Marshall, Barbaree, 1984), например, рассматривали их как образцы неумелого или незрелого поведения и предположили, что критерии могут быть распредёлены по поведенческим измерениям (dimensions), описывающим различные типы социальной дисфункции, такие как неадекватная ассертивность, дисфункциональные социальные когниции или социальная тревожность.
Расстройства личности являются в первую очередь отклонениями от норм межличностного поведения (Foulds, 1971), и установленная эмпирическим путем система координат (измерений) для описания межличностного поведения представляет собой межличностный круг, который впервые появился в работе Лири (Leary, 1957) и затем был доработан другими авторами (Wiggins, 1982; kiesler, 1983; Strong et al., 1988). Отношения между паттернами межличностного поведения могут быть представлены в виде круговой упорядоченной структуры (cirситр№х), описанной вокруг двух ортогональных осей, а именно оси власти или контроля (доминирующий—подчиняющийся) и оси аффилиации (враждебный—дружелюбный). Взаимодействия в этой модели представлены изменяющимися сочетаниями этих двух измерений. Межличностные стили могут также быть определены в этой системе как сегменты круга, описанного вокруг осей доминантности и враждебности, и они имеют ясные параллели в категориях личностного расстройства (Widiger, Frances, 1985а). Однако, поскольку эти сегменты не имеют четких границ, понятие дискретных категорий расстройства становится просто удобной фикцией. Такая система более реалистично изображает непрерывность переходных форм между нормальной и анормальной личностью.
На рис. 3.1 показано, как категории расстройства личности могут быть расположены согласно этой модели (Blackburn, 1989). Непрерывная окружность межличностных черт размечена суммарными ярлыками: враждебный, замкнутый и т. д, Внутренний круг представляет область нормального, а внешний круг — 60-
![]()

Рис. 3.1. Гипотетическое отношение категорий расстройства личности к межличностному кругу.
лее крайние, негибкие стили, которые отражают различные сочетания враждебности и доминирования, Так, избегающая личность репрезентируется через враждебное подчинение, а нарциссическая личность — через доминирование и враждебность. Этот анализ говорит о том, что область расстройства личности может быть представлена меньшим числом килей. Данная модель также позволяет объединить некоторые классификации преступников, описанные ранее. Например, такие измерения Квея, как несоциализированная агрессия (UA) и тревогауход (А ИО, корреспондируют с осями принуждающий-уступающий и замкнутыйобщительный соответственно.
Хотя было проведено только ограниченное эмпирическое исследование взаимосвязи между DSM-III классами и этой схемой (kriesler et al., 1990), у нее есть теоретический фундамент, необходимый для объяснения и вмешательства. Межличностная теория предполагает, что социальные обмены в основном следуют комплементарному паттерну, т. е. социальное поведение «притягивает» либо противоположное (доминирующий-подчиняющийся), либо такое же (дружелюбный-дружелюбный или враждебный-враждебный) поведение других людей (Сиson, 1979; kiesler, 1983; Strong et al., 1988). Карсон (Carson, 1979) высказывает предположение, что существует причинная связь между представлениями о вероятных реакциях других людей, реализацией поведения, отвечающего этим ожиданиям, и подтверждающими реакциями других. Враждебный человек, например, ожидает враждебности в результате аверсивного жизненного опыта и ведет себя таким образом, что вызывает подтверждение своих ожиданий в реакции остальных. Негибкие межличностные стили, таким образом, подкрепляются самоисполняющимся пророчеством, что осложняет научение новым, более адекватным моделям поведения. Таким образом, цель терапии состоит в демонстрации несостоятельности этих дисфункциональных представлений (Safran, 1990). Рассмотрен-
![]()
ная здесь модель лежит в основе новейших попыток объяснить сохранение склонности к агрессивному поведению на протяжении всей жизни (см. главу 9).
Однако, хотя учет межличностных измерений при классификации расстройств личности является необходимым, этого может быть недостаточно. Могут оказаться значимыми и некоторые внутриличностные диспозиции, такие как самоотношения (self-attitudes) и другие системы измерений (dimensional systems), для описания личности. В настоящее время есть определенное согласие относительно того, что большинство черт личности могут быть отнесены как единицы к более крупной категории, так называемой «Большой пятерке» измерений экстраверсии, уживчивости, нейротизма, сознатеЛьности и открытости опыту (McCrae, Costa, 1986). Очевидно, что первые два из этих измерений определяют межличностный круг. Виггинс и Пинкус (Wiggins, Pincus, 1989) исследовали связь этих пяти измерений с мерами расстройства личности и нашли, что гистрионическое, нарциссическое, антисоциальное, шизоидное и избегающее расстройства четко проецировались на межличностный круг, а обращение ко всем пяти измерениям, особенно к нейротизму, давало более полное отображение. Эта конвергенция на пространстве всех областей расстройства личности и измерений личности была подтверждена Шредером, Вормортом и Ливесли (Schroeder, Wormorth & Livesley, 1992). Выделенность среди этих измерений нейротизма может вытекать из его связи с самооценкой (Watson, Clark, 1984).
Психопатическая личность и расстройство личности
Понятие психопатической личности заняло видное место в дискусёиях вокруг антисоциального поведения, но следует особо подчеркнуть, что термин «психопат» — это личностный конструкт, а не синоним слова «преступник». Хотя он имплицитно употребляется для описания категории антисоциальных или наносящих вред обществу индивидуумов, что было впервые введено в немецкой психиатрии, психопатическая личность буквально означает психологически ущербная личность.
Этот термин больше не встречается в официальных классификациях, но он представлен АРЛ в DSM-III. Это понятие всегда было спорным, и Пико (Pichot, 1978) и Миллон (Millon, 1981) нашли расхождения в его употреблении немецкими и англоязычными психиатрами. Шнайдер (Scheider, 1950) вслед за Крепелином описывает десятеричную типологию психопатических личностеЙ. Он исключил антисоциальное поведение из критериев анормальной личности, которую он описал в статистическом аспекте как отклонение от среднего уровня. Психопатическими личностями были анормальные личности, которые приносили страдания себе или окружающим. Парадоксально, но этот общий концепт психопатических личностей корреспондирует с широким классом расстройств личности в DSM-III.
Концепция Шнайдера никогда широко не признавалась в Великобритании, где возникшее в XIX веке понятие нравственного помешательства имело следствием появление нормативной категории нравственного слабоумия (moral imbecile) в Законе об умственной дефективности 1913 г. и, со временем, категории психопа-
![]()
тического расстройства в Законе о психическом здоровье («стойкое нарушение психической деятельности... которое проявляется в анормально агрессивном или совершенно безответственном поведении со стороны участвующего лица»). Хотя термин «психопатический» пришел из немецкого языка, эта категория не имеет ничего общего с понятием Шнайдера. Определение фактически не содержит ссылок на личность, единственной определяющей чертой является антисоциальное поведение, из которого выводится заключение о «психической неполноценности».
Схожая трансформация термина «психопатический» произошла и в американской психиатрии, где он применялся как синоним термину «социопатический», которым означается любая форма социально девиантного поведения. Карпман (karpman, 1948) отверг концепцию психопатических личностей Шнайдера, а фактически, понятие расстройств личности. Он выдвинул предположение, что некоторые из типов Шнайдера были первичными психопатами, чье антисоциальное поведение отражает несдерживаемое выражение инстинктов, без облагораживания совестью или чувством вины. Остальные были отнесены к вторичным психопатам, чье антисоциальное поведение является следствием динамического нарушения и кого было бы более правильно классифицировать как страдающих неврозом или психозом. Мак-Горд и Мак-Горд (McGord, McGord, 1964) также выделяют узкую категорию, описывающую психопатов как «антисоциальных, агрессивных, крайне импульсивных лиц, которые практически не испытывают чувства вины и которые неспособны формировать прочную привязанность к другим людям». Понятия первичных и вторичных психопатов были использованы некоторыми исследователями для различения нетревожных и тревожных девиантных личностей в антисоциальных популяциях (Lykken, 1957; Schmauk, 1970; Blackburn, 1975а).
Клекли (Cleckley, 1976) принимает точку зрения Карпмана и рассматривает большинство категорий расстройства личности как невротические или психотические расстройства, но при этом предлагает «отдельную клиническую катеторию» психопатической личности, определяемую по 16 критериям, таким как поверхностный шарм, ненадежность, отсутствие угрызений совести, эгоцентричность и межличностная невосприимчивость. Концепт Клекли оказал влияние на направление психологических исследований (Hare, 1986), но он также критиковался как вводящий в заблуждение стереотип (Vaillant, 1975).
Однако на представленное в DSM понятие антисоциальной личности оказали влияние исследования Робинса (Robins, 1978), и эта категория определяется на основе подробных критериев делинквентного и социально нежелательного поведения. Обращение К чертам личности ограничивается раздражительностью, агрессивностью, импульсивностью и безрассудством, хотя в DSM-III-R было добавлено еще и отсутствие угрызений совести.
Учитывая постоянно меняющиеся концептуализации психопатии, неудивительно, что ученые не пришли к согласию по поводу адекватного операционального определения. Поэтому имеющиеся на данный момент измерительные инструменты отражают различные предположения о психопатии, а также предпочтения исследователей в отношении конкретных способов измерения. За последние три
1 Об
![]()
десятилетия большинство исследователей применяло один или более из нижеперечисленных средств измерения.
1. Критерии Клеюш. Ликкин (Lykken, 1957) и впоследствии Хэйр (Нате, 1986) ратовали за использования концепта Клекли в качестве основы для определения психопатов в девиантных популяциях. Оценочная процедура обычно предполагала общую оценку степени соответствия биографических данных индивидуума 16 критериям Клекли, а не детальное оценивание по каждому конкретному критерию. Были получены удовлетворительные коэффициенты межэкспертной надежности, однако использование этой меры опиралось на допущение, что концепт Клекли является валидным и его критерии удовлетворяют требованию внутренней согласованности.
2. Контрольный перечень психопатии (PCL). Пытаясь создать более объективную шкалу, Хэйр разработал контрольный перечень на основании факторного анализа оценок критериев Клекли и других характеристик психопатов, встречающихся в литературе (Hare, 1980; Hare et al., 1990). Пункты шкалы отражают и историю социальной девиантности, и недостаточную межличностную сензитивность, на которой делал особый упор Клекли (табл. 3.5), и оцениваются на основе данных из истории болезни (и/или досье преступника) и структурированного интервью. Шкала имеет удовле-
Таблица 3.5
Пункты Контрольного перечня психопатии (PCL)
|
1. Говорливость/поверхностный шарм. 2.* Прежний диагноз как психопата. З. Эгоцентричность/раздутое чувство самоценности. 4. Склонность к скуке/низкая толерантность к фрустрации. 5. Патологическая лживость и тяга к измышлениям. 6. Коварство/недостаток искренности. 7. Отсутствие раскаяния или чувства вины. 8. Недостаток аффекта и эмоциональной глубины. 9. Бессердечность/ недостаток эмпатии. 10. Паразитический образ жизни. 11. Вспыльчивость/слабый контроль поведения. 12. Беспорядочные половые связи. 13. Раннее проблемное поведение. 14. Отсутствие реалистичного, долгосрочного планирования. 15. Импульсивность. 16. Безответственное родительское поведение. 17. Частые супружеские отношения. 18. Подростковая делинквентность. 19. Плохое поведение в период пробации или при условно-досрочном освобождении. 20. Непринятие ответственности за собственные действия. 21. Совершение многих типов преступления. 22. * Употребление психоактивных веществ не является непосредственной причиной антисоциального поведения. |
|
* Опущено при пересмотре PCL. Источник: из работы Хэйра (Нате, 1980). Приводится с разрешения Рещатоп PresS Ltd. |
![]()
творительную надежность и высоко коррелирует с общими оценками по критериям Клекли. Преступники, которые имели высокие и низкие оценки по этой шкале, как было установлено, различались по многим поведенческим и лабораторным мерам, что поддерживает этот конструкт и его прогностическую валидность. Хотя смешивание личностных атрибутов с данными досье, дающими статическую картину асоциальной жизни, ограничивает полезность этой шкалы для неклинических исследований криМИНаЛЬНЫХ популяций, в последних работах была доказана различимость двух облических факторов (Hare et al., 1990). Один из них представлен межличностным измерением эгоистического, бессердечного и не вызывающего угрызений совести использования других. Другой фактор представлен измерением социально девиантного образа жизни.
З. Шкалы MMPI. Шкала 4 MMPI (И: психопатически девиантный) была эмпирически разработана на основе критериальной группы делинквентов с нарушенной психикой, и обычно выборки преступников имеют самые высокие значение именно по этой шкале. Хотя она применялась в некоторых исследованиях для оценки психопатической личности, ее содержание в первую очередь касается отсутствия конформности и конфликта с семьей и с властями, поэтому она более адекватно оценивает личность, нарушающую социальные правила, чем психопатическую личность per se (Hawk, Peterson, 1974). Более специфическим критерием является сочетание превышающих критический уровень оценок по шкалам 4 и 9 (Ма: гипомания), последняя относится к импульсивности или «отыгрыванию» (acting out). Профиль 4—9 распространен среди преступников, и в MMPI классификации Мегарджи определяет группу Able, которая была второй по величине группой в FCI исследовании (Megargee, Bohn, 1979). Этот паттерн соответствует понятию первичных психопатов, поскольку он отражает относительно низкие показатели по шкалам, измеряющим эмоциональность. При сочетании с превышающими критический уровень оценками по шкалам, измеряющим тревожность (7: психастения; 0: социальная интроверсия), настроение (2: депрессия) или девиантный перцептивный и межличностный опыт (6: паранойя, 8: шизофрения), он позволяет предположить наличие черт вторичных психопатов.
Кластерный анализ ММРЬпрофилей психически ненормальных убийц (Blackburn, 1971а) и преступников, попадающих в категорию психопатического расстройства согласно английскому закону о психическом здоровье (Blackburn, 1975а), идентифицировал профиль 4—9 как один из четырех основных паттернов, и Блэкборн (Blackburn, 1982) разработал опросник SHAPS (Special Hospitals Assessment of Personality Socialisation; Оценка личности и социализации пациентов специальных больниц) для измерения основных переменных, вносящих вклад в дифференциацию этих паттернов. Этот состоящий из 10 шкал опросник базируется преимущественно на пунктах MMPI, но ббльшая часть дисперсии приходится на два фактора, для которых были разработаны шкалы (Blackburn, 1987). Первый фактор (Воинственность) служит мерой импульсивности и враждебности в противоположность конформности, а второй (Уход в себя/замкнутость) — мерой застенчивости и низкой самооценки в противоположность общительности и уверенности в себе. Эмпирическая классификация первичных и вторичных психопатов осуще-
![]()
ствляется на основе высоких показателей по первому фактору, но низких (относящихся к противоположному полюсу) показателей по второму фактору.
4. Шкала социализации (У). 54-пунктная шкала So из Калифорнийского психологического инвентаря Гоха (Gough, 1969) оценивает то, в какой степени человек интернализовал социальные ценности и считает их для себя обязательными. Это одна из наиболее обоснованных шкал самоотчетов, имеющая точечно-бисериальную корреляцию 0,73 с критерием сильная/слабая делинквентность 10296). Гох (Gough 1948) предполагал, что центральной чертой психопатии является неспособность к принятию роли «обобщенного другого» («the generalized other»), и эмпирическое подтверждение того, что So снабжает нас показателем способности к принятию роли, уже получено некоторыми исследователями (Rosen, Schalling, 1974). Низкие показатели по этой шкале применялись различными исследователями в качестве критерия психопатии (Schalling, 1978), хотя Хейлбрун для этой цели использовал итог Pd минус So (Heilbmn, 1982; Heilbmn, Heilbmn, 1985).
5. Измерения поведения Квея. Как было описано выше, фактор несоциализированной агрессии, расстройства поведения или психопатии регулярно выделялся из анализа Квеем ответов на пункты самооценочных и оценочных шкал поведения, полученных в исследованиях делинквентов. Показатели по этому факторы были использованы для идентификации психопатических делинквентов в некоторых исследованиях (Фау, 1987).
Согласно имеющимся данным, эти различные меры коррелируют друг с другом, но корреляции не столь высоки, чтобы можно было считать их взаимозаменяемыми. Следовательно, «психопаты» у разных исследователей могли быть разными. Хэйр (Hare, 1985) сравнил показатели, полученные с помощью некоторых перечисленных средств измерения у 274 заключенных. Интеркорреляции между оценками Клекли, показателями PCL и DSM-III диагнозом АРЛ колебались от 0,57 до 0,80, тогда как корреляции этих трех с Pd, So, и Pd минус So варьировались в пределах от 0,21 до 0,44. Факторный анализ четко отделил оценки наблюдателей от данных самоотчетов (самооценочных шкал), и Хэйр считает, что последние не представляют интереса для оценки психопатии среди заключенных. Этот вывод, однако, не обоснован, поскольку оценки наблюдателя и самоотчеты вскрывают различные личностные атрибуты (Becker, 1960). Вследствие присущих каждому средству измерения недостатков адекватная оценка личностного конструкта в идеале требует использования множественных мер (Widiger, Frances, 1987). Поскольку психопатия скорее теоретический конструкт, чем нечто реально. существующее, «истинное» измерение является невозможным, а полезность различных средств измерения должна устанавливаться на основе внешних и теоретически релевантных коррелятов. Любая оценка личности, которая игнорирует Я-образ и самопрезентацию, неизбежно будет однобокой (Hogan, Jones, 1983).
Современные концепции психопатии фактически развивались безотносительно теории личности или классификации расстройств личности, и Карпман с Клекли считали последнюю ненужной. Эта точка зрения не отражена в DSM-III класси-
![]()
фикции, и отношение между понятием психопатической личности и классами расстёойства личности нуждается в прояснении. Например, остается неясным, образует ли психопатическая личность одну из нескольких «узкополосных» категорий расстройства личности, как предполагается категорией АРЛ, либо представляет собой «широкополосный» конструкт или конструкт более высокого порядка, включающий несколько классов. Корреляция оценок Клекли и показателей PCL Хэйра с диагнозом АРЛ (Hare, 1983, 1985), видимо, свидетельствует о том, что АРЛ равноценно «отдельной клинической категории» Клекли. Тем не менее те характерные черты, которые приписывались Клекли и другими психопатической личности, обнаруживаются среди критериев DSM для других расстройств личности, например гистрионической, нарциссической, параноидной, садистической и пограничной личности. Возможно, поэтому психопатию было бы правильнее истолковывать как категорию более высокого порядка. Проведя иерархический анализ пунктов DSM-III, Мори (Morey, 1988) обнаружил два суперординатных кластера: «тревожная руминация» и «отыгрывание» (acting out). Последний включает пункты из АРЛ, нарциссической и гистрионической категорий и, по-видимому, ближе к концепту Клекли, чем более узкое АРЛ. Харт и Хэйр (Hart, Hare, 1989) также нашли, что показатели PCL коррелируют с оценками антисоциальной, нарциссической и гистрионической личности, что говорит в пользу рассмотрения психопатической личности как суперординатного конструкта.
Связанный с этим вопрос заключается в том, образуют ли индивидуумы, идентифицированные как психопатические или как антисоциальные, однородную группу с точки зрения черт личности. В некоторых современных определениях смешаны критерии классификации, и они едва ли могут определять однородный класс. В частности, включение антисоциального поведения в критерии для АРЛ противоречит цели определения расстройств личности на основе личностных черт. Девиантные действия могут быть, а могут и не быть следствием личностных свойств, но сами они не являются характерными чертами и относятся к другой концептуальной области социальных отклонений (Blackburn, 1988b). Поскольку расстройства личности и социальные отклонения не являются взаимоисключающими, у человека могут быть или первые, или вторые, или те и другие вместе. Социально девиантное поведение, таким образом, не представляет собой ни необходимого, ни достаточного критерия расстройства личности, и нельзя априори ожидать, что те люди, которые образуют однородную группу с точки зрения социальной девиации, будут принадлежать к одной и той же категории личностной девиации. Имеющиеся данные фактически подтверждают, что те, кто отвечают критериям для АРЛ, часто отвечают критериям и других категорий DSM, например критериям нарциссической или пограничной личности (McManus, 1984).
Однородность целесообразно проверять при помощи кластерного анализа профилей инДивиДуумов, оцененных по чертам, в которые входят и те, которые имеют целью определить психопатию. Было проведено несколько исследЬваний такого рода. Используя данные самоотчетов, Блэкборн (Blackburn, 1975а) выделил четыре различных личностных паттерна среди преступников, попадающих в категорию психопатического расстройства согласно английскому закону о психиЧеСКОМ здоровье. Другой анализ выделил те же паттерны среди убийц, лиц мужского пола, совершивших насильственное преступление, и насильников с психическими расстройствами (см. главу 9). По своим модальным характеристикам эти
1 1 О
![]()
четыре типа описываются как: первичные психопаты (импульсивные, агрессивные, враждебные, экстравертированные), вторичные психопаты (импульсивные, агрессивные, враждебные, социально тревожные и замкнутые), ведомые zuu подстраивающиеся («перестраховывающиеся», общительные, неагрессивные), и заторможенные (неагрессивные, замкнутые, интровертированные). Следовательно, это исследование выявляет скорее две группы с «психопатическими» чертами, чем единую категорию психопатов. Анализ оценок наблюдателей, тем не менее, дает противоречивые результаты. Тайрер (Tyrer, 1988) выделил единый кластер «социопатов» на основе оценок характерных черт расстройства личности. Блэкборн и Майбери (Blackburn, Maybury, 1985), с другой стороны, выделили два кластера преступников с психическими расстройствами, которые имели высокие оценки по критериям Клекли; первый — агрессивные и импульсивные, второй — замкнутые.
Таким образом, лучше всего рассматривать вопрос о соотношении психопатии и классификаций расстройств личности не в категориальной системе, а в системе измерений. Хотя обозначение Клекли психопатической личности как «самостоятельного образования» («entity») подразумевает наличие отдельной категории, за этим стоит любопытное с точки зрения морали допущение, что все социально нежелательные черты присущи только небольшой части человеческого рода. Такие черты, как эгоцентричность или бессердечие, варьируются в степени выраженности, и статистический анализ PCL Хэйра явно подтверждает наличие непрерывного измерения. Несколько факторно-аналитических исследований идентифицируют фактически общее измерение, определяемое такими выделяющимися среди критериев Клекли чертами, как эгоцентричность, безответственность и отсутствие теплых взаимоотношений (например: Нате, 1980; Tyrer, 1988). Блэкборн и Майбери (Blackburn, Maybury, 1985) продемонстрировали, что этот фактор хорошо совмещается с осью враждебности межличностного круга (рис. З. 1 а Харпер, Хэйр и Хакстиан (Harpur, Hare & Hakstian, 1989) нашли, что и PCL близок к этой оси. Один из двух факторов, выделяемых в PCL, а именно измерение «эгоистичный, бессердечный», оказался более тесно связанным с межличностным кругом и корреспондировал с осью «принуждающий—уступающий».
Таким образом, психопатия может быть истолкована как одно измерение (или ось координат) межличностного круга. Однако для локализации ИНДИВИдуума в межличностном пространстве требуются два измерения (или две координаты). Например, если психопатия в широком смысле равнозначна измерению «принуждающий—уступающий», то одни «психопаты» будут более общительными, а другие — более замкнутыми (см. также рис. 5.1). Это согласуется с различением первичных и вторичных психопатов. Это также показывает, как некоторые категории расстройства личности, такие как нарциссическая, антисоциальная, пограничная и параноидная личности, могут иметь одинаковые позиции на оси «психопатия», в то же время различаясь межличностными стилями. Такая размерностная (dimensional) интерпретация согласуется с пониманием психопатической личности как суперординатного конструкта и может быть совмещена с более специфическими классами расстройства личности. Таким образом, категориальный концепт психопата, скорее, удобная абстракция, которая станет излишней после улучшения классификации расстройств личности.
![]()
ГЛАВА 4
Социальные и средовые теории преступности
Введение
В главе 1 было проведено различие между криминальностью как склонностью к нарушению норм и правил и преступными действиями (преступлениями) как специфическими поведенческими событиями. Теории преступности не всегда в явной форме обозначают, что именно они предназначены объяснить. Хотя некоторые современные теории касаются факторов, которые способствуют преступным действиям или сдерживают их, большинство теорий фокусируются на криминальности, а не на специфических событиях. Теории различаются в зависимости от того, истолковывают ли они криминальность как генерализованную или специфическую тенденцию, а также от того, считается ли она следствием дистальных (отдаленных) или проксимальных (ближайших) детерминант и присущи ли эти детерминанты индивидууму или социальной среде. Еще раз повторим, последний вопрос это не то же самое, что проблема взаимодействия «индивидуум х ситуация», касающаяся проксимальных факторов, влияющих на специфические события. Скорее, это вопрос о природе и истоках склонности вовлекаться в преступление или воздерживаться от него, которую конкретный человек привносит в конкретную ситуацию.
Большинство теоретических и эмпирических исследований делинквентности берут начало в социологии, которая занимается поиском причин в социальных структурах и культуральных факторах. Так как эти причины и могут только найти свое выражение в поведении благодаря психологическим процессам на индивидуальном уровне, не существует строгой разделительной линии между социологическими и психологическими объяснениями. Однако многие психологи, как и представители теории контроля в социологии, предполагая, что по природе своей люди своекорыстны и девиантны, пытаются объяснить, почему люди все же подчиняются установленным правилам и нормам. Традиционно это объясняется ссылкой на процессы социализации, которые воспитывают и обучают соблюдению социальных правил, в особенности моральных норм, регулирующих взаимодействие между людьми. Отсюда криминальное поведение интерпретируется некоторыми теоретиками с точки зрения более общей неудачи процесса нравственного воспитания. Такие теории различаются в своих метатеоретических допущчиях о природе моральных норм и поведения (kurtines, Alvarez & Azmitia, 1991), но, как правило, сходятся в том, что постулируют развитие интернализованного механизма самоконтроля или самоограничения, который способствует
![]()
сопротивлению искушению. Таким образом, преступные действия рассматриваются как следствие дефектности или временного выхода из строя этого механизма. Хотя в классических исследованиях Хартшорна и Мэя (Hartshorne, Мау, 1928) был сделан вывод о том, что не существует генерализованной (распространяющейся на все случаи жизни) склонности сопротивляться искушению смошенничать и что конкретные ситуационные факторы обусловливают, поддастся ли ребенок этому искушению или нет, проведенный позднее повторный анализ показал, что на самом деле такая склонность просматривается в собранных ими данных (Epstein, 0'Brien, 1985). Доказательства, представленные в главе 2, также показывают, что преступность отражает генерализованную тенденцию нарушать нормы и правила, которая сравнительно постоянна на протяжении всей жизни.
И все же, несмотря на то что теории социализации предполагают наличие «первородного греха» и ставят в центр формирование запретов и ограничителей делинквентности, в социально-психологических и социологических теориях чаще предполагается, что люди по существу склонны подчиняться правилам и отступают от них только под давлением общественных сил. Этот альтернативный акцент на порождении преступных склонностей силами общества, возможно, объясняет, почему социология дала нам различные теории преступности и делинквентности, тогда как психологические объяснения преступности обычно являются дериватами более общих теорий развития и научения.
Те теории, в которых большая часть ответственности за совершение преступления перекладывается на индивидуума, будут обсуждаться в следующей главе. В этой главе рассматриваются теории, обращенные к причинным процессам в социальной среде. Это разделение теорий в известной степени произвольно, поскольку социально ориентированные теории часто пытаются объяснить, как социальные процессы производят индивидуальные различия в склонности нарушать закон, тогда как индивидные (individually oriented) теории помещают в фокус результаты этих процессов. Таким образом, различие между ними заключается только в расстановке акцентов. Поскольку социальные факторы представляют особый интерес для социологии, то первыми мы рассмотрим социологические концепции преступности.
Социологические теории
Колвин и Паули (Colvin, Pauly, 1983) выделяют шесть основных социологических теорий пьеступности: теорию научения (дифференциальной ассоциации), теорию напряжения, теорию контроля, теорию навешивания ярлыков (или стигматизации), теорию конфликта и теорию радикальной криминологии. Теории конфликта и радикальной криминологии были кратко рассмотрены в главе 1, а первые четыре, которые представляют собой «основное направление» в криминологии, будут рассмотрены здесь. Те читатели, которые интересуются данным вопросом, могут найти всестороннее оценки этих подходов в социологических работах (см., напр.: Naylor, Wagton & Young, 1973; kornhauser, 1978; Lilly, Cullen & Ball, 1989).
Будучи реакцией на ранний психологический и психиатрический позитивизм, первые социологические теории находили «патологические» причины преступности в социальных условиях, а не в конкретных людях. Ранние экологические
1 1 З
![]()
исследования выявили районы внутренней части города с высокими уровнями делинквентности, коррелирующими с нищетой, высокой плотностью и миграцией населения и социальными проблемами (см. главу 2). Тем самым преступность объяснялась социальной Дезорганизацией, при которой обычные механизмы управления поведением через социальные институты не действовали. Хотя теперь признается, что эти корреляции не устанавливают причин преступности, итогом данной работы стало предположение, что криминальные традиции существуют параллельно с традиционными системами ценностей и что молодежные банды, организующиеся из представителей низших слоев общества, обеспечивают поддержание делинквентного поведения. Однако Сазерленд (Sutherland) [4] выдвинул концепцию Дифференциальной социальной организации, которая подразумевает скорее различные субкультурные традиции с потенциально конфликтующими нормами, чем криминогенный и патологический сегмент общества. Его теория Дифференциальной ассоциации (differential association) [5], появившаяся в
1939 г., к настоящему времени претерпела только незначительные изменения (Sutherland, Cressey, 1970).
Теория дифференциальной ассоциации (ДА) определяет процесс передачи криминогенных традиций и формулируется в виде девяти положений:
1) криминальное поведение является приобретенным, а не врожденным или изобретенным конкретными людьми;
2) оно выучивается при социальном взаимодействии и
З) скорее в условиях непосредственного общения в группах, чем через средства массовой информации;
4) то, что усваивается, включает в себя как методы совершения преступлений, так и криминальные мотивы, побуждения, рационализации и аттитюды;
5) мотивы и побуждения получают специфическую направленность в результате определений правового кодекса как благоприятного или неблагоприятного, в зависимости от поддержки этого кодекса (норм) внутри субкультуры;
6) человек становится делинквентом вследствие перевеса благоприятствующих нарушению закона определений над неблагоприятствующими по мере того, как они усваиваются из окружающёй культуры;
7) дифференциальные ассоциации варьируются по частоте, длительности, хронологической очередности и интенсивности или силе эмоционального воздействия;
8) процесс научения через Образование связи (ассоциацию) с криминальными и антикриминальными паттернами включает в себя механизмы, задействованные в любом виде цаучения, а не только подражание;
9) криминальное поведение не объясняется основными потребностями, поскольку одни и те же потребности и ценности лежат в основе как криминального, так и некриминального поведения.
![]()
Эта теория имеет дело со степенью подверженности воздействию криминальных норм, а не с криминальными ассоциациями как таковыми. Она также предписывает дифференциальную подверженность воздействию криминальных и антикриминальных паттернов поведения, которые включают не просто избыточный контакт с преступниками, но и одобрение девиантных определений людьми, не совершившими уголовных преступлений. Хотя Сазерленд считал средства массовой информации не важными, Глейзер (Glaser, 1956) утверждал, что прямой личный контакт не является обязательным и что теория Сазерленда только выиграла бы от включения в свой состав понятия Дифференциальной иДентификации с реальной или воображаемой референтной группой, чье принятие ценится. Де Флер и Куинни (De Fleur, Quinney, 1966) считают, что сущность данной теории составляют шесть первых положений. Они кратко переформулировали ее следующим образом: «открытое криминальное поведение имеет в качестве своих необходимых и достаточных условий совокупность криминальных мотиваций, аттитюдов и технических приемов, усвоение которых имеет место в тех случаях, когда воздействие криминальных норм превосходит (по силе и продолжительности) воздействие соответствующих им антикриминальных норм в процессе символической интеракции в первичных группах».
Тем не менее эта теория не дает определенных ответов на ряд вопросов и считается некоторыми критиками непроверяемой. Она объясняет только приобретение криминальных склонностей, но не их поддержание или реализацию, и ничего не говорит о дифференциальной восприимчивости людей к их ассоциациям. Особенно трудно количественно измерить «перевес определений», и при попытках проверить теорию Сазерленда обычно определяют дифференциальную ассоциацию (ДА) на основе знакомства или дружбы с делинквентами. Ряд исследований показывает, что для делинквентов свойственно иметь делинквентных друзей, обвиняемых в аналогичных видах поведения, и идентифицироваться с ними (Short, 1957; Matthews, 1968), что согласуется с рассматриваемой теорией, хотя Райсс и Родес (Reiss, Rhodes, 1964) пришли к заключению, что она применима главным образом к вандализму и мелкому воровству. Однако эти корреляционные соотношения могут просто отражать тенденцию делинквентов выбирать себе делинквентных друзей, а воздействие ДА на преступность может быть косвенным. Джексон, Титтл и Бурке 0ackson, Tittle & Burke, 1985), например, обнаружили, что среди взрослых ДА с криминальными друзьями, скорее, косвенно повышала уровень преступности по данным самоотчетов через усиление мотивации к вовлечению в совершение преступления, чем прямо или через изменение аттитюдов. К тому же теория ДА является неполной теорией, поскольку основывается на нечетких психологических допущениях о научении у людей. Например, подражание, по-видимому, объясняется мимикрией. Однако в последних версиях теории психологические концепции научения используются для того, чтобы определить механизмы, посредством которых приобретается криминальное поведение. Поэтому к обсуждению данной теории мы еще вернемся.
Мертон (Merton, 1939) отверг идею о том, что девиантность является следствием выхода из строя механизмов контроля над базисными импульсами, и выдвинул предположение, что неподчинение правилам отражает давление со стороны соци-
![]()
альной структуры. Аномия указывает на
расхождение между целями и средствами, которое возникает, Когда культура
выдвигает ценимые ее носителями цели достижения благосостояния, а классовая
структура создает существенные ограничения для достижения этих целей. Легальные
возможности достичь благосостояния ограничены для низших слоев общества,
которые испытывают фрустрацию или же напряжение (strain), вызванное
несоответствием между стремлениями и ожиданиями. Хотя большинство мирится с
доступными им целями и средствами, некоторые адаптируются отвергая цели,
общепринятые средства или то и другое вместе и встают на путь противоправного
поведения. Аномиз предполагает, что люди ощущают себя относительно
депривированными, и, кажется, объясняет парадокс высокого уровня преступности в
благополучных странах. ![]()
Хотя воспринимаемые возможности отрицательно коррелируют с делинквентностью по данным самоотчетов (McCandless, Persons & Roberts, 1972), делинквентам не хватает как умений, так и возможностей, и в некоторых исследованиях предполагается, что для них нетипична мотивированность фрустрацией стремлений занять более высокое положение (Hirschi, 1969). Бернард (Bernard, 1984) оспаривает этот вывод и утверждает, что теория напряжения находит поддержку в исследованиях, касающихся более серьезных преступников из низших слоев общества. В некоторых последних теоретических разработках напряжение рассматривается как более общее несоответствие между личными целями и возможностями для их достижения, которое не связано с классовой принадлежностью (Elliot, Huizinga & Ageton, 1985).
Создатели теорий субкультурной или культурной девиантности идут по стопам Сазерленда, предполагая наличие нормативного конфликта между классовыми культурами или субкультурами. Делинквентное поведение считается нормальным для некоторых субкультур, особенно для городских подростков мужского пола из низших слоев общества. Коэн (Cohen, 1955) доказывал, что культура рабочего класса поддерживает ориентированные на настоящее гедонистические ценности, которые не соответствуют «промерной рейке среднего класса», навязываемой школьной системой. Таким образом, у мальчиков из семей рабочего класса может возникнуть тревога по поводу своего статуса. Некоторые принимают доминирующие ценности достижения, а другие, кто плохо учится, дезавуируют эти ценности посредством защитного реактивного образования и глумятся над традиционными ценностями в составе группы подростков-делинквентов. Рассматривая аномическую фрустрацию как релевантную для более взрослых преступников, Коэн характеризовал подростковую делинквентную группу как неутилитарную (nonutilitarian), злонамеренную (malicious) и негативистскую. Такая характеристика оспаривается Миллером (Miller, 1958), который предположил, что релевантными культурными влияниями являются влияния жизни общины низших классов (lower class community). По мнению Миллера, эта жизнь характеризуется рядом «центральных забот» Соса! concems) — конфликтами, «крутостью», щегольством, возбуждением, предопределенностью и автономией, — которые выражаются в антисоциальном поведении, поддерживаемом группой сверстников. С позиций теории напряжения нет нужды в каких-либо мотивациях, но Миллер предположил, что воспитанием детей в семьях рабочих преимущественно занимаются женщины и что группа сверстников того же пола дает первую возможность дл; усвоения маскулинной роли.
![]()
Кловард и Олин (Cloward, 0hlin, 1961), однако, собрали доказательства в пользу того, что районы проживания бедноты обеспечивают Дифференциальные возможности для незаконных действий. Объединяя теории аномии и дифференциальной ассоциации, эти авторы полагают, что делинквентная субкультура предполагает не только усвоение девиантных ролей, но и возможность их исполнения, которая распределена неравномерно. Они проводят различие между криминальной субкультурой, которая социально организована и фокусируется на утилитарных имущественных преступлениях, и конфликтной субкультурой, которая более индивидуалистична и жестока и является продуктом дезорганизованной жизни в трущобах. Люди, которые не смогли преуспеть ни в одной из них, образуют отступническую (retreatist) субкультуру, связанную с употреблением наркотиков.
Однако Матца (Matza, 1964) отмечает, что теории субкультуры «дают завышенные прогнозы» преступности среди рабочего класса, а доказательная база теории криминальных субкультур является весьма слабой. Например, жители кварталов бедности вовсе не более терпимы к делинквентности (МассоЬу, Johnson & Church, 1958), а подростковые банды не настолько распространены и не настолько одинаковы в социальном отношении, как предполагается теориями субкультур (Hirschi, 1969). Только небольшая часть членов таких банд совершает серьезные преступления (Stott, 1982). Большинство преступлений делинквентов фактически совершаются группами из двух или трех человек, в то время как насильственные преступления вероятнее всего совершаются отдельными делинквентами (Aultman, 1980). Поскольку на•сегодняшний день теоретики склонны принимать теорию (социальных) конфликтов, которая отрицает культуру согласия (consensus culture) и делает акцент на разнообразии контркультур, возникающих вследствие классового антагонизма (Young, Mattews 1992), понятие статичной делинквентной субкультуры теперь кажется сомнительным.
Теории субкультуры и напряжения предполагают, что люди по природе склонны подчиняться правилам до тех пор, пока их не вынуждают к девиантному поведению. Теория контроля, в противовес этому, считает, что подчинение «установленному порядку» нуждается в объяснении. Под, контролем в этом контексте понимаются сдерживающие факторы, имеющиеся у индивидуума в форме интернализованных норм, сравнимых с суперэго и эго, а также контролирующее влияние и авторитет социальных институтов, таких как семья, школа или соседи. Например, Реклесс (Reckless, 1961) рассматривает подчинение правилам и как внутреннее сдерживание благодаря позитивной Я-концепции, ориентации на цель, толерантности к фрустрации и приверженности нормам, и как внешнее сДерживание, которое исходит от доступности значимых ролей и социального принятия. Неисполнение этих ограничений влечет за собой личные издержки в форме наказания, социального отвержения или потери определенных возможностей в будущем. Таким образом, поддастся ли человек искушению, зависит от соотношения между ожидаемыми вознаграждениями и затратами (Piliavin, Hardyck & Vadum, 1968).
Наибольшее влияние приобрела теория социального контроля Хирши (Hirschi, 1969, 1978, 1986), согласно которой подчинение правилам зависит от СВяЗИ (bond) между индивидуумом и обществом («ставки на конформность»), и деви-
1 17
![]()
антность возникает, когда эта связь оказывается слабой или нарушенной. Коррелирующими элементами такой связи являются: 1 ) привязанность к другим в форме совести, интернализованных норм и озабоченности тем, что думают другие; 2) приверженность традиционным целям; З) активное участие в традиционных занятиях, несовместимых с делинквентной активностью; 4) вера в нравственную обоснованность традиционных ценностей. Не предполагается наличия специальной мотивации к девиации, поскольку каждый подвергается воздействию соблазнов, и теория касается скорее криминальности вообще, чем совершения конкретных преступлений.
Предсказываемые теорией отрицательные корреляции между связывающими элементами и делинквентностью были получены в срезовом исследовании самоотчетов (Hirschi, 1969). Это подтверждает точку зрения, что «ставка на конформность» сдерживает делинквентность. Однако лонгитюдные исследования, которые были проведены Эгнью (Agnew, 1985), показали, что на основе связующих элементов не удалось предсказать сообщаемую в самоотчетах делинквентность по прошествии длительного времени. По его мнению, переменные контроля значимы в основном для малозначительных правонарушений, совершаемых более младшими подростками.
Теория ничего не говорит о том, как возникают или разрушаются указанные свяёи или как слабые связи провоцируют делинквентное поведение иным способом, нежели предоставление индивидууму «свободы к девиациям» (Conger, 1976; Вох, 1981). Некоторые теоретики считают, что слабость социальной связи только частично объясняет девиантное поведение и что в расчет должны быть приняты индивидуальные вариации в мотивации к отклонению. Эту позицию занимают Эллиотт с коллегами (Elliott et al., 1985), которые предложили объединить теории напряжения, контроля и социального научения (см. главу 5).
Однако Хирши и Готфредсон в своей недавней работе вновь высказали ту точку зрения, что не требуется никакой специальной мотивации для того, чтобы объяснить преступление, которое является естественным результатом несдержанных тенденций человека искать удовольствия и избегать боли (Hirschi, Gottfredson, 1988; Gottfredson, Hirschi, 1990). Они особо подчеркивают совместимость классических теорий выбора преступных действий и позитивистской концепции криминальности как склонности к совершению преступлений, однако понимая последнюю как функцию самоконтроля. Преступные действия рассматриваются как незамедлительное удовлетворение общечеловеческих желаний. Они практически не требуют планирования, приложения усилий или специальных знаний. Эти действия зависят от благоприятной возможности и соблазнов, и они имеют тесное родство с другими не одобряемыми обществом действиями, такими как пьянство, курение, употребление наркотиков, беспорядочные половые связи, аварии, да и всеми остальными действиями, совершаемыми при потере самоконтроля. Люди, обладающие этим генерализованным свойством, «склонны быть импульсивными, нечувствительными, приземленными (в противоположность возвышенным натурам), склонными к риску, недальновидными и немногословными». Низкий уровень самоконтроля способствует «криминальности» в силу позитивистских допущений в последней положительных причин, а следовательно, и различий между преступлениями по мотивам. Поскольку единственным об-
![]()
щим элементом преступлений и аналогичных действий является потеря самоконтроля, то нет необходимости различать типы преступлений или преступников.
Эта общая теория, как считается, согласуется с устойчивостью девиа$ћщости, появляющейся в еще детстве, а также с универсальностью (но не специализацией) преступников и с корреляцией преступности с другими формами социальной девиантности. Причины низкого самоконтроля, как полагают, лежат в плохом воспитании, что в свою очередь также является функцией нарушенного самоконтроля у тех, кто заботится о детях. Социальные институты, помимо семьи, играют очень небольшую роль. Теории напряжения, культурной девиации и социального научения считаются неадекватными вследствие их неспособности признать естественный, краткосрочный гедонизм, характерный для всех преступлений.
Если отвлечься от утверждения, что преступные действия являются не просто следствием преступных наклонностей, эта теория сходна с другими теориями социализации, сформулированными на индивидном уровне (см. главу 5), однако, возможно потому, что они сохраняют позитивистское представление о независимых и однонаправленных «причинах», Хирши и Готфредсон не применяют разграничение действие—склонность (act-propensity distmction) к поведению родителей и опекунов и, таким образом, не допускают, что социальные условия и характеристики ребенка также могут влиять на родительское поведение. Кроме того, хотя они предполагают, что индивидуальные различия «могут оказывать воздействие на перспективы эффективной социалйзации», они отрицают, что преступники имеют какие-то особые гедонистические потребности или ценности. И наконец, утверждается, что низкий самоконтроль проявляется в характеристиках психопатической (Gough, 1948) и асоциальной личности (Robins, 1978), но ни природа низкого самоконтроля, ни то, как его измерить независимо от девиантных действий, которым он дает начало, особо не уточняются. О том, насколько эта концепция близка к реальной преступности, пойдет речь далее, в главе 8.
В теории навешивания ярлыков (или стигматизации) предполагается, что социальные реакции на нарушение норм могут изменять ход девиации. Хотя не существует какого-то общепринятого варианта этой теории, в основном она касается характеристик и происхождения таких ярлыков, как «преступник» или «неполноценныЙ», условий, при которых эти ярлыки применяются, и их последствий для получателя (Plummer, 1979). В начале 1960-х гг. было отмечено, что статистическая представленность низших слоев общества в уголовных делах не совпадает с данными самоотчетов, и это оказало влияние на развитие теории, наравне с тем, что позитивизм не смог объяснить, как поступки получают статус преступлений посредством общественных дефиниций. Теория навешивания ярлыков также отражает центральный интерес школы символического интеракционизма к социальным значениям (meanings) действия и к тому, как социально формируется чувство Я.
Этот подход характеризуют три допущения (Becker, 1963; Lemert, 1967). Во-первых, действия не являются по своим внутренним свойствам девиантными, а преступность это ярлык, который используется для характеристики поведения по социальным причинам, в частности, в интересах власть имущих. Во-вторых, на реакции представителей уголовной юстиции влияют скорее такие характеристики
научения 1 19
![]()
преступника, как возраст, раса, классовая принадлежность, а не характеристики преступления. В-третьих, публичная стигматизация индивидуума как преступника или как делинквента ведет к девиантному образу Я и вступлению на криминальный путь. Таким образом, областью интереса является вторичная Девиантность км приспособление к стигматизации со стороны представителей социального контроля. Первоначальное нарушение норм (первичная девиантность) происходит случайно, а проблема как таковая возникает только после стигматизации.
Наличие предубеждений в преследовании в судебном порядке преступников было показано выше, а влияние ярлыка на Я-концепцию будет обсуждаться в главе 8. Теория навешивания ярлыков критиковалась за то, что она уделяет основное внимание девиантности «неудачников», а не сильных личностей (Вох, 1981), и за чрезмерное упрощение взаимосвязи между аттитюдами, Я-концепцией и поведеНИеМ (Welford, 1975). Вэлфорд в дальнейшем доказал, что при принятии решения в системе уголовного правосудия тяжесть преступления играет ббльшую роль, чем дискриминационная практика. Некоторые стороцники этой теории предполатают пассивность респондента, но Мораш (Morash, 1982) считает, что публичная стигматизация по-разному влияет на подростков и не влияет на серьезных делинквентов. Схожим образом Кляйн (klein, 1986) обнаружил, что столкновение с системой правосудия оказывает большее влияние на молодых людей с высоким социально-экономическим статусом, женщин, белых и тех, кто преступил закон впервые.
Хотя тема криминализации девиантности влиятельными группами была подхвачена сторонниками теории конфликта, проведенные исследования не выявили серьезного влияния стигмы на делинквентную карьеру, и интерес к этой области в последние годы явно ослаб. Тем не менее Пламмер (Plummer, 1979) защищает полезность теории навешивания ярлыков, утверждая, что критиковались упрощенные версии этой теории. Психологические исследования подтверждения ожиданий, или самоисполняющегося пророчества, также показывают, что ярлыки и стереотипы могут искажать перцепции, которые передаются и воздействуют на тех, к кому они относятся (Jones, 1986). Процесс стигматизации, в таком случае, не может не приниматься в расчет как влияющий на развитие делинквентности.
Хотя законы научения на протяжении трех десятилетий применялись в различных программах вмешательств, ориентированных на преступников, только некоторые психологи пытались разработать общую теорию научения для объяснения преступности. Иногда догматично заявлялось, что приобретение и поддержание криминального и некриминального видов поведения управляются одними и теми же законами и нет необходимости в специфической теории для объяснения преступности (см., напр.: Bandura, Waltes, 1963; Ayllon, Milan, 1979). Разумеется, такой взгляд не перспективен. Никакое поведение по своей сути не является криминальным, и виды поведения, задействованные в большинстве преступлений, находятся в репертуаре практически любого из нас. Таким образом, адекватное объяснение должно включать не только детальное изучение процессов, благодаря которым приобретается поведение, но также и того, чему люди научаются или чему им не удается научиться. В частности, необходимо объяснить, как люди прихо-
![]()
дят к поведению, которое, как им всем известно, подлежит общественному запрету или моральному осуждению.
В объяснениях научения может отводиться особое место либо классическому обусловливанию по Павлову, либо операн*ному обусловливанию, либо обсерваЦИОННОМУ научению, причем все эти объяснения имеют свой источник в бихевиористской традиции. Однако, как и в других областях, не существует единого «поведенческого» подхода к преступлению, и здесь можно выделить три различные школы: приклаДной поведенческий анализ, основанный на философии радикального бихевиоризма (Morris et al., 1987); необихевиоризм, выросший из синтеза павловской теории условных рефлексов с концепциями научения Маурера, Миллера и Халла и в настоящее время полно представленный в работах Айзенка (см. главу 5); теория социального научения, придающая особое значение роли когниции в научении. На уровне вмешательства эти подходы широко отождествляются с модификацией поведения, поведенческой терапией и когнитивно-поведенческой терапией. Однако последняя включает в себя сплав многих теоретических моделей, в ряде которых комиция трактуется как «скрытое поведение» (см. главу 13). С другой стороны, теория социального научения уделяет все большее внимание когниции как структурированию опыта и в настоящее время выступает под именем социально-когнитивной зеории (Bandura, 1986).
Эти различия часто упускаются, и термин «социальное научение» широко применяется для названия различных теорий, которые включают подражание в предлагаемые объяснения криминального поведения. Когда «социальное научение» используется в своем основном значении, речь идет о социальном контексте львиной доли человеческого научения, а не о каком-то особом принципе научения. Но теория социального научения (ТСН) радикально отличается от моделей, основанных на классическом или оперантном обусловливании (Bandura, 1974, 1986; Mischel, Mischel, 1976). Она не только уделяет особое внимание когнитивному научению посредством моделирования или подражания, но также постулирует, что знания осуществляют контроль поведения. Это контрастирует с антиментализмом радикального бихевиоризма. Например, Скиннер (Skinner, 1959, 1978) рассматривает скрытые (private) события, такие как интенции или ожидания, просто как «ранние стадии поведения» и утверждает, что «им не должно приписываться никакой креативной или инициирующей функции».
ТСН представляет собой и особую, выделяющуюся из ряда теорию научения, и контрастирующую философскую позицию, отличаясь от радикального бихевиоризма по трем главным пунктам. Во-первых, с точки зрения ТСН, символические процессы являются не просто «скрытыми реакциямй» с тем же статусом, что и наблюдаемое поведение, но обеспечивают опорные (эталонные) механизмы (reference mechanisms) для оценки и регулирования поведения. Во-вторых, подкрепляющие изменения в ситуации (reinforcing contingencies) дают информацию о результатах и внешних стимулах к действию, создавая ожидания относительно конкретных результатов, а не просто функционируют как автоматические формирователи поведения. В-третьих, радикальный бихевиоризм рассматривает живые существа как по существу пассивных реципиентов влияний автономной контролирующей среды, а ТСН рассматријает людей как активно формирующих окружающую среду и предполагает реципрокный детерминизм, при котором мысль реципрокно взаимодействует с действием и с окружением. Анализ криминаль-
научень•1Я
![]()
ного поведения с позиций «социального научения», который игнорирует эти различия, может допускать реципрокное взаимодействие между поведением и окружением, но при этом придерживаться механистического взгляда на роль знания (см., напр.: Feldman, 1977; Braukmann, kirigin & Wolf, 1980; Stumphauzer, 1986).
Существуют две доминирующие темы в подходах к рассмотрению преступности с позиций научения. Одна связана с пониманием преступности и делинквентности как неудачной социализации, а вторая — с рассмотрением самой антисоциальной девиантности как приобретенного феномена (leamed phenomenon). Прежде чем переходить к описанию отдельных теорий, следует хотя бы бегло познакомиться с рассматриваемыми в них процессами научения.
Несмотря на оппозицию большинства ее сторонников психоанализу, необихевиористская теория научения опиралась, по существу, на заимствованные из теории Фрейда и переформулированные понятия, и ббльшая часть исследований, которые проводились в 1950-е и 1960-е гг., была посвящена определению процессов социализации, связанных с интернализацией моральных запретов. Эти исследования направлялись двумя главными теоретическими ориентирами.
Ранние прикладные исследования использовали «теорию двух процессов» Маурера—Миллера, которая дала импульс к развитию поведенческой терапии. Согласно этой модели, сигналы (cues), сочетанные с наказанием, включая кинестетические сигналы, становятся условными раздражителями, которые вызывают антиципаторное (упреждающее) эмоциональное состояние страха или тревоги. Оно функционирует как аверсивный драйв, который редуцируется (ослабляется) инструментальной реакцией убегания или избегания, например, торможением наказуемого действия. Таким образом, социализация зависит от торможения реакции, основанного на условно-рефлекторной тревоге. Неспособность приобрести социализированные ограничения может быть результатом неэффективного обучения со стороны родителей или относительной неспособности ребенка к образованию условных связей. Эта модель научения избеганию, основанная на концепции редукции драйва, была признана неадекватной в свете данных, что ни тревога, ни возбуждение автономной нервной системы не являются необходимыми для успешного научения избеганию (Bolles, 1972; Bandura, 1986). Но у этой теории по-прежнему есть сторонники.
В другом подходе нашел отражение акцент ТСН на когнитивном научении и опосредовании. Аронфрид (Aronfreed, 1986), например, рассматривает интернализацию в терминах аффективных реакций на когнитивные репрезентации и оценок индивидуумом своего собственного поведения. Они находятся под контролем внутренних и внешних сигналов (сие», установленных аверсивным обусловливанием, положительным подкреплением и подражанием. Бандура и Уолтес (Bandura, Waltes, 1963) также используют все общепризнанные принципы научения при объяснении социального развития. Ситуативное подкрепление (remforcement contingencies) важно именно для исполнения (perfomance) поведения. Оперантное формирование реакции, однако, является слишком медленным процессом и не может служить объяснением новых реакций. Приобретение пове-
4
![]()
дения в первую очередь зависит от поДражания при наблюдении за поведением модели.
Подражание предполагает научение по сходству на когнитивном уровне. Это у младенцев оно мотивировано попытками добиться непосредственной межличностной реактивности, но впоследствии подражание мотивируется тренировкой мастерства или стремлением достичь личной эффективности. Подражание неверно представлять себе пассивным процессом имитации, ибо оно чаще всего имеет результатом новую организацию информации и регулируемого правилами исполнения поведения. Оно является источником новых паттернов реагирования, равно как и торможения или растормаживания ранее приобретенного поведения, и, таким образом, может Епособствовать как просоциальному, так и девиантному поведению. Однако подражание — это селективный процесс, и влияние модели обусловливается статусом или престижем, наблюдаемыми последствиями моделируемого поведения и восприимчивостью наблюдателя к социальным воздействиям. Подражание эквивалентно психодинамическому понятию идентификации (см. главу 5). Однако если психоаналитики рассматривают идентификацию как защитный процесс совладания с предшествующими страхами утраты любви или причинения вреда со стороны родителя-соперника, в экспериментальных исследованиях предполагается, что дети с большей вероятностью идентифицируются с той моделью (и подражают ей), которая демонстрирует способность контролировать вознаграждения, а не с той, чей статус вызывает зависть (Bandura, Waltes, 1963).
Избирательный характер моделирования должен быть подчеркнут особо, поскольку ссылка на него является одним из наиболее распространенных post hoc [6]объяснений в литературе по антисоциальному поведению. Люди не просто воссоздают наблюдаемое поведение других: они используют то, что увидели, в соответствии со своими целями и требованиями ситуации.
Особый упор в ТСН делается на саморегулировании, и социализация рассматривается как зависящая от приобретения индивидуумом реакций контролирования себя. Саморегулирование заключается в том, чтобы поставить перед собой цели или установить для себя стандарты и продуцировать последствия своих действий в форме самоподкрепления или самонаказания. Это влечет за собой принятие правил контингенции (contingency mles), которые определяют ожидаемое поведение, критерии исполнения поведения и последствия достижения или недостижения установленных стандартов. Следовательно, самоконтроль в значительной степени является функцией реакций самовознаграждения и самонаказания, когда установленные для самого себя стандарты соблюдаются или нарушаются. Хотя ТСН особо подчеркивает роль внутренних реакций в самоконтроле, она отказывается от представления о едином внутреннем моральном агенте (вроде суперэго) и предполагает, что способности к саморегуляции активизируются избирательно в соответствии с динамикой ситуации. К тому же влияние самоограничений может быть ослаблено когнитивным реструктурированием, которое обеспечивает моральное оправдание обычно не одобряемым действиям. Такое
научениЯ
![]()
ослабление может вызываться, например, демонстрацией девиантных моделей или убеждающими коммуникациями, в которых сама жертва обвиняется в случившемся, минимизацией последствий действия или перекладыванием ответственности на других. Это так называемые «техники нейтрализации», считающиеся важными в социологических объяснениях преступных действий (см. главу 8).
Взрослые или ровесники, которые снабжают других образцами реакций контролирования себя, могут также непосредственно формировать поведение через подкрепляющие изменения в ситуации. Хотя социализация зависит от вызывания и подкрепления просоциальных видов поведения, несовместимых с действующим девиантным паттерном, большее внимание уделялось аверсивным методам в контроле антисоциального поведения. Однако воздействие наказания на человеческое поведение, если обратиться к литературе по психологии, неоднозначно (Moffit, 1983). Одной из проблем является отсутствие согласованного определения. Приверженцы теории оперантного обусловливания определяют наказание как подавление реакции, зависящей от предъявления стимула (положительное наказание), или как устранение положительного подкрепителя (отрицательное наказание). Другие возражают против этого функционального определения в силу содержащегося в нем порочного круга и определяют наказание в терминах аверсивной стимуляции.
Хотя Скиннер утверждал, что наказание имеет всего лишь временно прерывающий эффект в том, что касается контролирования поведения, лабораторные эксперименты показали, что наказание может быть эффективным способом порождения торможения реакции, при условии учета таких параметров, как выбор времени, сила, режимы применения или доступность альтернативных реакций 00nston, 1972; Zillmann, 1979). Спорный вопрос касается степени важности аверсивной стимуляции для формирования сопротивления девиации в естественных условиях. Поскольку теория двух процессов предполагает формирование условной эмоциональной реакции, в ней придается особое значение применению и распределению во времени наказаний в процессе социализации. Так, утверждается, что болевой стимул, примененный в начале серии реакций, вызывает страх, который становится условно-рефлекторным по отношению к сигналам (cues), порождаемым реакцией, и производит торможение реакции и сопротивление девиации. Наказание, применяемое ближе к концу этой серии реакции, порождает условную эмоциональную реакцию «вины», которая менее эффективна в торможении реакции. Однако экспериментальная поддержка такой дифференциации (Soloтоп, 1964; Aronfreed, 1968) зиждется на лабораторных аналогах с использованием физически вредной СТИМУЛЯЦИИ [7] . Результаты таких исследований имеют ограниченную применимость за стенами лаборатории по трем причинам. Во-первых, эти исследования, проводимые на животных, не позволяют «превратить в капитал» символические процессы человека. Например, при выработке сопротивления девиации у маленьких детей словесные обоснования или формулировки правил являются более эффективными, чем причиняющие физический вред (noxious) стимулы, и к тому же не имеют ограничений, связанных с выбором времени применения или интенсивностью (Parke, 1974). Во-вторых, в естественных условиях наказание редко следует сразу за девиантным поступком. В-третьих, наказание
![]()
в обыденной жизни зависит от морального суждения о том, что составляет проступок, и воздействие наказания зависит от того, насколько обоснованным оно видится реципиенту (Zillmann, 1979).
Применение аверсивных стимулов само по себе не может быть самым эффективным компонентом социализации. Способы воспитания ребенка на самом деле включают не только предъявление аверсивных стимулов, таких как физическое наказание или критика, но и задерживание или лишение положительных подкрепляющих стимулов, восстановление которых зависит от уступчивости или самокритики, а также от использования рассуждений. Исследования, посвященные дисциплинированию детей родителями, предполагают, что именно межличностный контекст, в котором применяется наказание, а не само наказание, важен при социализации (см. главу 7).
Ранние модели криминального поведения, предложенные в рамках парадигмы научения, основываются на теории двух процессов. Ликкен (Lykken, 1957) высказал предположение, что психопаты с трудом вырабатывают условную тревожную реакцию и поэтому не могут избежать поведения, за которым следует наказание. По мнению Тонга (Tong, 1959), однако, делинквентное поведение может возникать как в случае чрезмерной условно-рефлекторной тревоги, ведущей к паническим реакциям в виде агрессии или сексуального насилия, так и в случае недостаточной тревоги, имеющей следствием импульсивные преступления или стереотипные мелкие правонарушения. Эти подходы фокусируются на индивидуальных различиях в реактивности автономной нервной системы как критических факторах антисоциального развития.
Трэслер (Trasler, 1962, 1978) предлагает более общее применение этой парадигмы к криминальному поведению, которое он считает результатом неудачной социализации. Он также предполагает, что социализация происходит благодаря формированию условно-рефлекторного страха на стимулы, предшествующие наказуемой реакции, что имеет следствием торможение реакции путем научения пассивному избеганию. Утверждается, что почти все делинквентное поведение отражает неэффективность методов родительского воспитания, которые являются функцией отношений «родитель—ребећок» и семейных и классовых различий в форме и последовательности применяемых наказаний. Однако Трэслер соглашается с Ликкеном в том, что некоторые индивидуумы не поддаются воспитанию вследствие относительной неспособности приобретать условные реакции страха. Эта теория имеет определенное сходство с теорией Айзенка и более подробно обсуждается в главе 5.
Допущение о том, что делинквентные и преступные действия являются оперантами, которые приобретаются и поддерживаются благодаря своим подкрепляющим последствиям, неявно используется в целом ряде подходов к реабилитации преступников, однако лишь несколько теоретиков предложили объяснение преступлений, используя концепции Скиннера в явной форме. По мнению Джеффри
наученИЯ
![]()
(Jeffery, 1965), криминальное поведение является оперантным поведением, поддерживаемым теми изменениями, которые оно производит в окружающей среде; имущественные преступления положительно подкрепляются приобретением похищенных вещей, насильственные преступления отрицательно подкрепляются устранением врага. Преступные действия находятся под контролем непосредственных средовых подкрепляющих стимулов и возникают в обстановке, в которой субъект деяния подкрепляется за такое поведение. Социокультурные различия и отсутствие немедленных аверсивных последствий являются, таким образом, основными детерминантами криминального поведения. Оперантный контроль криминального поведения образует также ядро в теории Уилсона и Херрнштейна (W11son, Herrinstein, 1985), но, поскольку в их анализе также используются механизмы классического обусловливания, индивидуальные различия и социологические переменные, она будет рассмотрена в главе 5.
Уильямс (Wllliams, 1987) также представляет радикальную бихевиористскую теорию. Он определяет делинквентность как класс оперантов, находящихся под контролем дифференцировочных стимулов и «ожидаемых последствий» (яс). Он предлагает типологию делинквентных действий, которые разграничиваются в зависимости от того, есть ли жертва или ее нет (дифференцировочный стимул), является ли подкрепитель внешним (материальная выгода) или внутренним (сексуальная активность) и является ли реакция вербальным или невербальным оперантом. По его мнению, такая классификация может обеспечить основу для определения подходящих вмешательств.
Однако наиболее часто криминальное поведение пытались объяснить с позиций социального научения. Несмотря на то что первые исследования Бандуры были посвящены изучению агрессивных делинквентов (Bandura, Waltes, 1959), а впоследствии он детально разработал приложение ТСН к агрессии (см. главу 9), он не предлагает никакой специальной теории преступности. Тем не менее Бандура и Уолтес отмечали приложения принципов ТСН к делинквентному поведению (Bandura, Waltes, 1963), и эти приложения составили основу последующих подходов к преступному поведению в рамках теории социального научения.
Преступность Бандура (Bandura, 1986) рассматривает с позиции теории контроля. Люди пытаются блюсти свои интересы, но воздерживаются от преступных действий благодаря антиципаторному самоосуждению (интернализованные моральные санкции), когнитивным оценкам риска потерять положение в обществе (неформальные санкции) или риска понести законное наказание (формальные санкции): Все эти три формы санкций, как было обнаружено, находятся в обратной связи с уровнем преступности по данным самоотчетов (Grasmick, Green, 1980). Более того, выгоды от просоциального поведения перевешивают побуждения к антисоциальным действиям. Первые зависят от личной компетентности. Однако эти характеристики не являются неизменными, а образуют различные сочетания, в зависимости от людей, ситуаций и характера нарушающих закон действий.
Неблагоприятный исход социализации отражает неспособность к формированию реакций самоконтроля и проявляется, например, в предпочтении делинквентами скорее сиюминутного, чем отсроченного вознаграждения (Mishel, Shoda & Rodriguez, 1989). В соответствии с теориями напряжения неспособность к отсрочке вознаграждения может возникнуть в том случае, когда ценимые цели оказываются недостижимыми из-за отсутствия возможностей или недостаточной квали-
![]()
фикации, что влечет за собой выбор альтернативных и незаконных средств. Эти дефициты приписываются моделирующим влияниям в рамках семьи и группы сверстников. Например, Бандура и Уолтес (Bandura, Waltes, 1959) установили, что отцы агрессивных делинквентных мальчиков были менее социально вознаграждающими и дети им подражали меньше, чем отцам неделинквентов. Таким образом, делинквентность и психопатия рассматриваются с точки зрения дефицитарной системы саморегулирования, которая повышает восприимчивость к девиантным влияниям и способствует возникновению антисоциальных реакций, но в то же время находится под контролем селективных дифференцировочных стимулов. В среде делинквентной группы совершение антисоциальных действий моделируется и подкрепляется как субститутивно, так и прямо, в силу чего ослабляются параллельные запреты. Однажды возникнув, такое поведение сохраняется благодаря перемежающемуся положительному подкреплению, которое перевешивает тормозящие эффекты наказания.
Фельдман (Feldman, 1977), однако, высказал мнение, что в исследованиях социализации всегда уделялось чрезмерное внимание научению сдерживать реакции в детском возрасте, и потому теперь пришло время перенести акцент на исследование научения совершению преступлений в подростковом возрасте и во взрослости. Исследования проступков (transgression) и агрессии (agression) рассматриваются как аналоги преступлений против собственности и преступлений против личности соответственны. Если классическое обусловливание предположительно играет важную роль в научении агрессии, то викарное (замещающее) и прямое подкрепление, вероятно, являются первопричинами в приобретении навыков совершения имущественных преступлений. Утверждается, что совершение преступного деяния зависит от наличия преступающих закон моделей и соответствующих навыков, а также от побуждающей силы цели и воспринимаемого риска раскрытия и наказания. Поддержание преступного поведения является функцией перемежающихся режимов внейжего подкрепления и самоподкрепления. Согласно Фельдману, теория навешивания ярлыков согласуется с принципами оперантного обусловливания и вносит важный вклад в объяснение развития делинквентной роли. Он также признает важность индивидуальных различий. Однако эти различия рассматриваются в рамках измерений (dimensions) личности, предложенных Айзенком, связь которых с подражанием и подкреплением остается гипотетической.
Браункманн, Киригин и Вольф (Braunkmann, kirigin & Wolf, 1980) также считают, что делинквентному поведению научаются напрямую путем моделирования поведения сверстников и получения подкрепления с их стороны, но в дополнение к этому отмечают, что неспособность приобрести навыки, необходимые для получения вознаграждений и избегания негативных последствий в школе, может делать подростков более чувствительными к влиянию делинквентных сверстни-
![]()
1 Такое соотнесение становится более понятным, если вспомнить о латинских корнях английских слов transgression и agression. Первоначальное значение латинского глагола transgredo можно ередать словами перехоДить, перебираться, переправляться. Среди других его значений• выхоДить за пределы, переступать. От этого глагола происходит существительное tr6nsgresso — нарушение (запретов, норм, законов, границ и т д.). Первоначальное значение латинского глагола agredo приступать, подходить Среди других его значений бросаться, напаДать. От этого глагола происходит существительное agressio — нападение. — Примеч науч ред
научень•1Я
![]()
ков. Авторы предполагают, что побудительные стимулы к совершению девиантных поступков или же социально одобряемых действий могут зависеть от «подкрепляющей ценности» доступных агентов подкрепления, которую они соотносят с понятием привязанности в теории контроля. Ученые ссылаются на данные об обратной зависимости между степенью взаимодействия учителей и предделинквентных мальчиков и уровнем правонарушений по данным самоотчетов последних как на не противоречащие обоим понятиям.
Прямых исследований развития делинквентности существует немного, но полевые исследования асоциальных мальчиков в семейных условиях, которые проводились Паттерсоном (Patterson, 1982, 1986), подтверждают значение раннего воспитания в семье для девиантного поведения в дальнейшем. Эта работа описывается в главе 7.
Некоторые социологи использовали теории научения для того, чтобы развить утверждение Сазерленда о приобретенном характере криминального поведения. Бургес и Акерс (Burgess, Akers, 1966) и Акерс (Akers, 1977, 1990) переформулировали концепцию дифференциальной ассоциации (ДА) в терминах теории оперантного обусловливания и подражания. «Лично близкими группами» («intimate personal groups») являются группы, контролирующие главный источник подкрепления индивидуума, включая референтные группы, которые могут быть воображаемыми или изображаемыми (в кино, например). Таким образом, ДА является функцией различной подкрепляющей ценности этих групп. Тогда «определения» — это нормы или смыслы (meanings), связываемые с поведением, которое может непосредственно подкрепляться, и функционирующие как дифференцировочные стимулы для других видов поведения. Они определяют девиантное поведение как дозволенное благодаря ассоциации с положительным подкреплением такого поведения. И наоборот, они помогают нейтрализовать «не благоприятствующие нарушению закона» определения благодаря отрицательному подкреплению вербализаций, в которых отсутствует самоосуждение или неодобрение со стороны других. Совершаемое в результате девиантное действие детерминируется не столько перевесом определений, благоприятствующих девиации, сколько превышением положительного подкрепления одного множества вербализаций над другим, хотя девиантные действия могут подкрепляться и напрямую.
Таким образом, эта переформулированная теория постулирует, что человек занимается противоправной деятельностью потому, что она относительно сильнее подкреплялась, чем законопослушное поведение, или определялась как более желательная или оправданная, чем законные альтернативы. Роль определений как «медиаторов» нормативных значений выходит за рамки строгой оперантной интерпретации, и Акерс отмечает, что модель согласуется с символическим интеракционизмом и с социально-когнитивным акцентом теории Бандуры. Поскольку дифференциальное подкрепление зависит от социальных структур, данная модель обеспечивает интеграцию отдельных социологических теорий с психологической теорией и она применима к широкому спектру криминальных и некриминальных видов девиантного поведения.
Эта переформулированная теория была раскритикована с двух сторон: Адамсом (Adams, 1973) за отход от строгих оперантных принципов и Халбашем (Hal-
![]()
basch, 1979) за неудачную попытку отдать должное теории Сазерленда. Акерс с коллегами (Akers et al., 1979) проверяли свою теорию на данных самоотчетов об употреблении алкоголя и наркотиков подростками. Такие конструкты, как подражание, определения, дифференциальная ассоциация и дифференциальное подкрепление, были операционализованы посредством шкал самоотчетов. Множественный регрессионный анализ показал, что и по отдельности, и в сочетании эти переменные объясняли ббльшую часть дисперсии данных о злоупотреблении психоактивными веществами. Однако является ли демонстрация корреляции между злоупотреблением психоактивными веществами по данным самоотчетов и одобрением и приемом схожих психоактивных веществ друзьями строгой проверкой этой модели — вопрос спорный.
Единственные экспериментальные доказательства в поддержку модели ДА получил Эндрюс (Andrews, 1980). Он отмечает, что основные следствия переформулированноЙ когнитивной теории социального научения поддерживаются результатами контролируемой проверки причинных и практических следствий дифференциальной ассоциации. Он описывает серию экспериментальных исследований, посвященных изучению влияния условий подкрепления (contingencies) (подверженность воздействию криминальных и антикриминальных примеров) и межличностных условий (лично близкие группы), на криминальные аттитюды и поведение во время проведения вмешательств в тюрьмах и службах пробации. Например, было доказано, что антикриминальное научение у заключенных является функцией от дифференциальной демонстрации криминальных и антикриминальных примеров, регулируемой в рамках программы группового консультирования. Кроме того, на изменение аттитюдов и уровень рецидивизма среди лиц, отбывающих пробацию (т. е. условное наказание), существенно влияли аттитюды и навыки межличностных отношений сотрудников службы пробации, а усилившиеся антикриминальные аттитюды оказались значимо связаны с более низкими показателями рецидивизма. Таким образом, эти исследования демонстрируют прогностическую валидность переформулированной теории ДА в отношении процессов, влияющих ha изменение аттитюдов и поведения у преступников.
У теории, согласно которой криминальное поведение возникает вследствие чрезмерного моделирования и социального подкрепления криминальных паттернов отдельными людьми или группами, играющими важную роль в жизни конкретного человека, есть определенная эмпирическая поддержка. Однако, за исключением исследований Эндрюса, эта поддержка получена из поперечно-срезовых исследований, и еще предстоит доказать, что дифференциальная ассоциация обеспечивает необходимые и достаточные условия для естественного научения криминальному поведению. И теория ДА, и,ее переформулированная версия дифференциального подкрепления, например, делают акцент на однонаправленных влияниях окружающей среды и не рассматривают их взаимодействие с индивидуальными факторами, которые могут определять различную сопротивляемость или восприимчивость к криминальным влияниям. Также маловероятно, что дифференциальная ассоциация представляет собой единственный каузальный процесс в развитии делинквентного поведения. Дженсен 0ensen, 1972) сообщил, что при условии поддержания ДА (делинквентные определения) на постоЯнном уровне родительский контроль оказывает независимое влияние на делинк-
научения
![]()
вентность. Матсуда (Matsueda, 1982) сделал повторный анализ этих данных и высказал предположение, что влияние привязанности к родителям на делинквентность является не прямым, а опосредованным ДА. Однако согласно данным Паттерсона, процессы, происходящие в семье, являются значимыми предпосылками для развития делинквентности (Patterson, 1986).
Было предпринято несколько попыток объединить ТСН с теорией контроля Хирши. Хирши (Hirschi, 1978, 1986) признает схожесть своей теории с объяснениями с позиции социализации, но отмечает, что представление о выученном криминальном поведении несовместимо с предположением теории контроля об асоциальном характере преступлений. Его собственные данные оказались противоречащими дифференциальной ассоциации, свидетельствуя о том, что хотя мальчики с низкой приверженностью к традиционному порядку, вероятно, чаще имеют делинквентных друзей, тем не менее они не привязаны к ним и не находятся под их влиянием. Однако Конгер (Conger, 1976) отмечает, что данные Хирши фактически выявляют взаимодействие между приверженностью и числом делинквентных друзей относительно делинквентности. Для мальчиков с высокой приверженностью к порядку уровень делинквентности был низким независимо от количества делинквентных друзей, однако мальчики, которые ни во что не ставили следование нормам, совершали большее количество делинквентных действий, только если имели несколько делинквентных друзей. Это непредсказуемо с позиций теории контроля, которая игнорирует роль привязанности к девиантным другим, однако это согласуется с ТСН, которая предсказывает, что связь между џривязанностью и делинквентностью будет зависеть от того, насколько вознаграждающие другие будут конвенциональными или девиантными. Конгер полагает теорию контроля неполной в том смысле, что она объясняет только сдерживание делинквентности, но не способствование ей со стороны делинквентных сверстни$0в, и считает, что ТСН предлагает более широкий взгляд на то, каким образом связи между людьми влияют на девиантность.
Хотя теоретики в области научения не предложили единого взгляда на преступность, они тем не менее детально описали ключевые процессы, посредством которых криминогенные влияния в окружающей среде транслируются в индивидуадьное поведение. В этом отношении они могут достаточно много привнести в понимание преступности. Однако, как отмечает Нитцель (Nietzel, 1979), их анализ криминального поведения основан на применении нескольких простых џринципов к сложному явлению. Например, им действительно нелегко объяснить универсальность делинквентного поведения, поскольку и теория оперантного обусловливания, и ТСН предполагают относительную специфичность научения; впрочем, им столь же трудно объяснить возрастные и половые вариации девиантного поведения. В предлагаемых теориях мало учитывается роль индивидуальных различий. И хотя ТСН делает акцент на том, что переменные индивидуума являются проДуктами всей истории данного человека, которая опосредует влияние нового опыта (Mischel, Mischel, 1976; Sarason, 1978), учет индивидуальных различий ограничивается большей частью ссылкой на дефицит навыков, который ставит предел способности конкретного лица получать вознаграждения. Почти не
5 Зак 364
![]()
уделяется внимания целям, ожиданиям или представлениям, а также характеристикам социального стимулирующего воздействия, которые могут обусловливать привязанности или дифференциальныеассоциации, которые есть у конкретного человека. «Ценность подкрепления», например, не является внутренним качеством подкрепляющего агента, скорее, ее можно определить как результат взаимодействия между индивидуумами. В этом отношении приверженцы теории научения продолжают уделять большее внимание однонаправленному детерминизму и не реализуют до конца потенциал ТСН.
Подтверждение валидности теории научения также остается ограниченным. И хотя ее выкладки правдоподобны, поскольку согласуются с тем, что известно о влиянии родителей и групп сверстников на делинквентность, поддержка теории в основном базируется на экстраполяции лабораторных, аналогов и на корреляционных исследованиях самоотчетов. Натуралистические исследования продолжают оставаться скорее исключением, чем правилом.
В противоположность позитивистским моделям, не учитывающим роли логического рассуждения, классический утилитаризм Бентама и Беккария рассматривает криминальное поведение, подобно любому другому, как результат рациональной калькуляции соотношения затрат и выгод для альтернативных линий поведения. На протяжении последних двадцати лет интерес к этой точке зрения заметно вырос, что заметно по степени внимания, уделяемого когнитивным и ситуационным детерминантам решения совершить преступление. И хотя нет общей модели «рационального выбора», общая посылка состоит в том, что большинство криминальных действий опосредуется обдумыванием средств и целей, которое в самом строгом смысле может не быть рациональным. Это включает и импульсивные и насильственные преступления, которые могут казаться наблюдателю «ирь рациональными». Поскольку в этом подходе делаются психологические допущения об индивидуальном поведении, он охватывает несколько дисциплин, и его корни уходят в ситуационные подходы к преступлению.
В 1970-х гг. возникли три частично перекрывающие друг друга подхода, в которых основное внимание уделялось преступлениям как событиям, возникающим в специфической физической среде 0effery, 1976). В них предполагается, что преступники выбирают момент для совершения преступления исходя из предоставляемых средой возможностей и ситуационных ограничений, хотя в этих подходах и не ставится задача изучения собственно процессов принятия решений.
В рамках первого подхода архитекторами и географами, занимающимися городским планированием, доказывалось, что причинами многих уличных преступлений, грабежей, краж и вандализма являются такие факторы, как планировка зданий, использование земли и планировка жизненного пространства. Например, Ньюман (Newman, 1972) нашел, что в жилых массивах Нью-Йорка уровень преступности напрямую связан с высотой домов и особенно с тем, есть ли в этих домах общие входы или лестницы, которые не заботят частных домовладельцев и нечасто используются большинством жильцов. Он также предположил, что защи-
![]()
щенные места, за которыми люди осуществляют наблюдение в результате заботы о своей собственности, снижают возможность для криминального поведения. Однако было также установлено, что воздействие особенностей планировки зависит от социальных факторов, таких как возраст, структура семьи и плотность постоянного населения (Pyle, 1976; Wilson, 1980).
Второй подход связан с исследованием возможностей для совершения преступления исходя из пространственно-временного расположения людей и собственности (Cohen, Felson, 1979; Felson, 1986). Люди удовлетворяют базовые потребности в ходе повседневных занятий, таких как работа, воспитание детей, хождение по магазинам, досуг. Это и определяет их местонахождение в определенные моменты времени, а следовательно, и уязвимость их самих или их собственности. Корыстные преступления, направленные против людей и их имущества, происходят в определенное время и в определенном месте, что требует совмещения минимум трех элементов: преступника, имеющего мотив, подходящего целевого объекта и отсутствия надежной охраны. Последние два более всего зависят от характера повседневных занятий, который таким образом влияет на уровень преступности. В подтверждение этого предположения Коэн и Фелсон (Cohen, Felson 1979) продемонстрировали, что изменения в структуре преступлений против собственности и против личности в США в течение 1960-х гг. могли быть в значительной степени предсказаны по изменениям в характере повседневных занятий, отражающимся в таких факторах, как количество работающих замужних женщин, количество людей, которые живут одни или вдали от оживленной части города, а также размер и вес потребительских товаров.
Третий подход возник из интереса к ситуационному предотвращению преступений, когда преступление рассматривается как результат сиюминутного выбора и решения и когда внимание уделяется скорее проксимальным, чем дистальным влияниям на преступления как конкретные события (Clarke, 1977, 1980; Hough, Clarke & Mayhew, 1980). Этот подход отражает разочарование в «диспозиционном уклоне» криминологической теории, однако он не представляет собой противоположного крена в сторону средового детерминизма или отрицания важности индивидуальных различий. «Профессиональные преступники» мотивированы к созданию возможностей для совершения преступления, а налагаемые ситуацией ограничения могут иметь слабое воздействие на импульсивных или эмоционально неуравновешенных индивидуумов. Однако «боЛьшую часть преступлений легче всего понять как рациональное действие, совершенное достаточно обычными людьми, действующими под определенным давлением и оказавшимися перед определенными возможностями и под влиянием ситуационных стимулов» (Ноиф et al., 1980). Преступления, совершаемые при наличии благоприятных условий, особенно сильно зависят от подходящей ситуации; здесь можно назвать такие преступления, как магазинные кражи, уклонение от уплаты налогов и вандализм. Последний, например, наблюдается в местах с минимальной охраной, таких как пустующие здания или минимально контролируемые маршруты автобусов (Sturman, 1980). Такие действия могут быть предупреждены, или же их количество может быть уменьшено за счет усиления охраны или за счет «повышения прочности целевых объектов». В качестве примера можно привести замену уязвимых алюминиевых телефонов-таксофонов на более прочные стальные. В дальнейшем мы будем обсуждать это в главе 14.
![]()
Центральное место в теориях рационального выбора занимает гипотеза уДерживания. В общем смысле, удерживание относится к любому процессу, благодаря которому действие предотвращается или затрудняется, и ему отводится место в любом рассмотрении уступчивого поведения. В традиционных психологических и социологических теориях такая уступчивость рассматривается как результат интернализованных норм или моральных запретов, тогда как в гипотезе удерживания упор делается на внешний контроль. Применительно к криминальному поведению удерживание представляет собой устрашение, специфический процесс, в результате которого люди воздерживаются от совершения криминальных действий, боясь применения к ним внешних санкций; страх в этом контексте означает осознание негативных последствий. И хотя обычно принято проводить различие между общим удерживанием (влияние угрозы наказания на потенциальных преступников) и специальным удерживанием (влияние примененного наказания на дальнейшее поведение преступника), в обоих случаях используются сходные соображения.
![]()
![]() Бентам доказывал, что удерживание происходит, когда
просчитанные затраты (наказание) перевешивают субъективные выгоды (или прибыль)
от совершения преступления, причем результат зависит от неизбежности, тяжести и
скорости наказания. Эта точка зрения продолжает существовать в системе
уголовного правосудия, но от нее практически отказалйсь представители
социальных наук. Вообще говоря, эта проблема является запутанной как в
концептуальном, так и эмпирическом отношении (Beyleveld, 1979) и часто
отягощается идеологической позицией, которую занимают в отношении наказания,
особенно смертной казни. Общее возражение состоит в том, что многие
преступления совершаются импульсивно или в определенном эмоциональном состоянии
без предварительных размышлений о возможных последствиях содеянного, а также в
том, что восприятие людьми предусмотренных законом мер наказания так или иначе
неверно. К тому же трудно доказать, что законы влияют на поведение людей именно
через страх перед наказанием. Например, правовые санкции могут повышать уровень
соблю; дения норм через другие процессы, например через усиление моральных
обязательств соблюдать нормы.
Бентам доказывал, что удерживание происходит, когда
просчитанные затраты (наказание) перевешивают субъективные выгоды (или прибыль)
от совершения преступления, причем результат зависит от неизбежности, тяжести и
скорости наказания. Эта точка зрения продолжает существовать в системе
уголовного правосудия, но от нее практически отказалйсь представители
социальных наук. Вообще говоря, эта проблема является запутанной как в
концептуальном, так и эмпирическом отношении (Beyleveld, 1979) и часто
отягощается идеологической позицией, которую занимают в отношении наказания,
особенно смертной казни. Общее возражение состоит в том, что многие
преступления совершаются импульсивно или в определенном эмоциональном состоянии
без предварительных размышлений о возможных последствиях содеянного, а также в
том, что восприятие людьми предусмотренных законом мер наказания так или иначе
неверно. К тому же трудно доказать, что законы влияют на поведение людей именно
через страх перед наказанием. Например, правовые санкции могут повышать уровень
соблю; дения норм через другие процессы, например через усиление моральных
обязательств соблюдать нормы.
Однако в современных формулировках этой гипотезы
подчеркивается, что удерживание — это изменчивый процесс, который
дифференцированно влияет и на людей, и на их поведение (Andenaes, 1974; СооК,
1980). Например, высказывались предположения, что удерживание достигает более
выраженного эффекта в случае инструментальных преступлений, таких как ночные
кражи со взломом или уклонение от уплаты налогов, которые преследуют некую
материальную ![]() цель, и практически не оказывает влияния в
случае экспрессивных преступлений, таких как нападение и сексуальное насилие, в
которых выражаются нематериальные потребности. Опять-таки деяния, преступные в
силу запрещенности законом (mala prohibita), могут легче поддаваться внешнему
контролю по сравнению с деяниями, преступными по своему характеру (mala in se),
для которых внутренние механизмы контроля могут быть более значимыми. Сегодня
признается так-, же, что люди различаются по их готовности пойти на риск и их
приверженности к
цель, и практически не оказывает влияния в
случае экспрессивных преступлений, таких как нападение и сексуальное насилие, в
которых выражаются нематериальные потребности. Опять-таки деяния, преступные в
силу запрещенности законом (mala prohibita), могут легче поддаваться внешнему
контролю по сравнению с деяниями, преступными по своему характеру (mala in se),
для которых внутренние механизмы контроля могут быть более значимыми. Сегодня
признается так-, же, что люди различаются по их готовности пойти на риск и их
приверженности к
![]()
соблюдению норм, равно как и по своим объективным обстоятельствам, которые определяют для них то, что они должны приобрести или потерять (СооК, 1980). По всей вероятности, некоторые группы людей, например подростки, люди с эмоциональными расстройствами или осужденные преступники, тоже могут быть менее чувствительны к угрозе применения санкций.
Не соглашаясь с тем, что высокая преступность и высокие показатели рецидивизма среди бывших заключенных свидетельствуют об отсутствии эффектов общего или специфического удерживания, Анденас (Andenaes, 1974) указывает на то, что большинство преступников, впервые преступивших закон и испытавших на себе его воздействие, в дащьнейшем законопослушны. Он также ссылается на отдельные примеры полицейских забастовок в Ливерпуле в 1919 г. и в Монреале в 1956 г., которые сопровождались заметным увеличением разбойных нападений и краж со взломом, что свщетельствует об общем превентивном воздействии системы уголовного правосудия. Также собраны доказательства влияния законодательной деятельности на поведение граждан. Например, введение широко известного Закона о безопасности дорожного движения в Великобритании в 1967 г., который признал незаконным управление транспортным средством, если уровень алкоголя в крови превышает 0,080/0, привело к уменьшению количества случаев со смертельным исходом при авариях на дорогах примерно на четверть, хотя впоследствии этот эффект сгладился (Ross, 1973). Однако в случае многих и многих преступлений изменения в степени неизбежности и тяжести наказания не оказывают никакого влияния (СооК, 1980).
Гипотеза удерживания требует обращения к психологическим процессам на индивидуальном уровне, но большинство эмпирических исследований сосредоточено на показателях совокупной преступности. Экономисты были самыми ярыми приверженцами теории рационального выбора и рассматривали общее удерживание как главный инструмент контроля преступности (Palmer, 1977; Ehrlich, 1981). В своем анализе они опираются на допущение Бентама, согласно которому преступники выбирают варианты, максимизирующие ожидаемую прибыль. Решение совершить преступление, такий образом, зависит от соотношения «издержки—выгоды» криминальных и альтернативных законопослушных видов деятельности. Выгоды от совершения преступных действий могут быть материальными (деньги или вещи) и/или нематериальными (наслаждение или возмездие). Издержки включают необходимые ресурсы, необходимость заниматься неприятными вещами, утрату легальных возможностей, а также материальные и социальные последствия предусмотренного законом наказания. Последнее зависит от вероятности ареста и осуждения (неотвратимость наказания) и строгости приговора. На оценку издержек влияет также индивидуальное «отношение к риску». Экономисты предполагают; что лица, принимающие решение, обычно стремятся избежать риска. Согласно данной модели, если хотя бы одна статья издержек превышает ожидаемые выгоды, то преступление совершено не будет. К сожалению, проведенные эмпирические исследования были посвящены главным образом изучению только одной статьи издержек — (возможному) наказанию.
Эконометрические модели были использованы для изучения связи между уровнями совокупной преступности и суммарными мерами неизбежности и строгости законного наказания, такими как показатели раскрываемости преступлений полицией и средний срок лишения свободы для конкретной категории пре-
![]()
ступников. Сделанные выводы в общем говорят о положительном воздействии удерживания на преступников, совершающих изнасилования, убийства, грабежи с применением насилия и ночные кражи со взломом (Tullock, 1974). Больше всего споров вызвало исследование смертных приговоров в США, проведенное Эрлихом (Ehrlich, 1975). Он заявил, что за три десятилетия каждая добавочная казнь каждый год, возможно, имела своим результатом несовершение в среднем 7—8 убийств. Эти выводы были оспорены (Beylerveld, 1982), а эконометрические исследования наказания критиковались социологами за использование ненадежных индексов наказания (СооК, 1980; Matsueda, Piliavin & Gartner, 1988).
Экономические исследования также критиковались за то, что ограничивались анализом эффектов реальной угрозы наказания, не затрагивая эффектов воспринимаемой угрозы. Бандура (Bandura, 1986), например, высказывает мнение, что удерживание, оказываемое законным наказанием, будет иметь какое-то воздействие, если у человека есть уверенность в эффективности системы уголовного правосудия, и что законопослушный человек склонен переоценивать степень риска. Анализы самоотчетов о совершении преступлений и восприятии риска, проведенные на индивидном уровне, дают противоречивые данные об эффекте удерживания путем законного наказания. В некоторых из них подтверждаются выводы экономистов о том, что неотвратимость наказания более значима, чем его строгость, но, помимо этого, предполагается, что воспринимаемый личный риск быть пойманным важнее, чем воспринимаемый риск для людей вообще. Кластер (Claster, 1967), например, установил, что делинквенты не отличаются от неделинквентов в оценках уровня раскрытия преступлений или сроков приговоров для преступлений различного рода, но считают свою поимку менее вероятной, надеясь на некий «волшебный иммунитет». Однако Йенсен, Эриксон и Гиббс (Jensen, Erickson & G1bbs, 1978) обнаружили, что, хотя воспринимаемый риск для себя лично был наиболее сильно связан с делинквентностью по данным самоотчетов, воспринимаемый риск вообще также оказался значимым фактором.
Ряд исследований был посвящен сравнению влияния правовых санкций с другими переменными. Шварц и Орлеанс (Schwartz, 0rleans, 1967) сообщают о меньшем уклонении от уплаты налогов среди тех налогоплательщиков, в убеждении которых соблюдать закон использовались моральные аргументы, чем среди тех, кому грозили наказанием. Титтл (Tittle, 1977) установил, что подкрепляющая ценность нарушения правила и моральная устойчивость сильнее влияли на воспринимаемую (субъективную) вероятность нарушения правила, чем страх перед формальными санкциями. Однако страх перед неформальными санкциями, такими как потеря социального положения или уважения, оказался весьма значимым. В своем исследовании, проведенном в Чикаго, Тайрер (Tyrer, 1990) установил, что личная мораль и воспринимаемая законйость судебных решений сильнее влияют на соблюдение законов, чем удерживание силой внешних последствий. Это в большей степени согласуется с традиционной теорией социализации, чем с допущением теории удерживания о разумном эгоизме.
Однако другие исследователи считают, что эффекты санкций являются условными, т. е. оказывающими большее воздействие на тех, кто менее всего склонен соблюдать общественные нормы (Bishop, 1984). Эти взгляды не нашли подтверждения в работе Пилявина с коллегами (Piliavin et al.) 1986), согласно которой ни формальные, ни неформальные санкции не оказывают влияния на совершение
![]()
преступления по данным самоотчетов в группах высокого риска, а наиболее ясно выраженным фактором является ожидаемая индивидуумом выгода от совершения преступления. Возможно, в ранних исследованиях слишком много внимания уделялось малозначительным преступлениям, которые, видимо, лучше поддаются неформальному контролю. Бриджес и Стоун (Bridges, Stone, 1986) также не обнаружили сколько-нибудь заметного воздействия специального удерживания на лишенных свободы преступников и предположили, что для опытных преступников потенциальные выгоды всегда перевешивают издержки.
В психологических исследованиях восприятия риска испытуемых просили оценить вероятность того, что они решатся на преступление в гипотетических ситуациях, различающихся по соотношению шансов успеха и неудачи и по величине выигрыша и проигрыша. Рэттинг и Роусон (Retting, Rawson, 1963) обнаружили, что на предпочтение студентами неэтичных альтернатив оказывали влияние все переменные, но строгостью наказания объяснялась половина всей дисперсии. Такие же результаты были получены на преступниках (Retting, krauss et al., 1972), хотя согласно Крауссу с коллегами психопаты были более чувствительны к ожидаемым выгодам. Сигель (Siegel, 1978) также установил, что психопаты менее чувствительны к наказанию в виде финансовых потерь, если оно не неизбежно, что говорит в пользу эффекта «волшебного иммунитета». Согласно же Кэрроллу (Carroll, 1978), денежная выгода является сильнейшим побудительным мотивом как для правонарушителей, так и для законопослушных граждан, действуя вдвое сильнее, чем наказание. Он также установил, что люди склонны концентрировать свое внимание только на каком-то одном аспекте. Примерно для половины людей это был размер выгоды, треть фокусировалась только на неизбежности поимки или на строгости наказания. Таким образом, удерживание, по-видимому, дает абсолютный эффект только в отношении этого меньшинства.
Кларк и Корниш (Clarke, Cornish, 1985) попытались объединить подходы к преступности с позиции теории принятия решений, которые вобрали в себя различные аспекты традиционных криминологичес«их теорий. Они выдвинули три основных предположения. Во-первых, преступники ищут для себя выгод, принимая решения, которые до некоторой степени являются рациональными. Во-вторых, объяснять нужно не преступников, а преступления, и фокусироваться при этом следует на специфике преступления и на специфике ситуации. И в-третьих, собыпше преступения необходимо отличать от вовлеченности в преступление. Событие — это преступное деяние, в пользу совершения которого в определенном месте и в определенное время был сделан выбор, и эти условия определяют различия в мотивах, способах и заинтересованных лицах. Вовлеченность является результатом решений, принятых в различные моменты времени относительно начала, продолжения или прекращения криминальной деятельности, которые являются функцией более традиционных криминологических переменных, таких как темперамент, группа сверстников или демографический статус. Хотя Кларк и Корниш подчеркивают, что события и вовлеченность подразумевают разные модели принятия решений, они не отдают предпочтения какой-либо специфической модели принятия решений, отмечая, например, что теория ожидаемой полезности может быть применима в отношении корпоративных преступлений, предполатающих всестороннее планирование.
![]()
В экономической модели максимизации ожидаемой полезности делается упор на сильную форму оптимальной, или нормативной, рациональности, при которой лицо, принимающее решение (ЛПР), собирает и кодирует всю релейантную информацию, комбинируя ее мультипликативно. Эта модель критиковалась как нереалистичная модель обработки информации человеком, который вынужден компоновать информацию в простые и субъективные репрезентации в силу биологических и временных ограничений, и потому демонстрирует ограниченную рационапьность (Simon, 1978). Эта последняя позиция нашла поддержку в работах теоретиков в области выбора оптимальной линии поведения, согласно которым субъективные вероятности зависят от использования оценочных эвристик, таких как наличие примеров в памяти, а одна и та же проблема принятия решения может привести к различным выборам, в зависимости от ее описания или от установленных ЛПР «рамок» (kahneman, Tversky, 1984).
Последние эмпирические исследования принятия криминальных решений больше согласуются с позицией ограниченной рациональности (Carroll, 1982; Jonson, Раупе, 1986). Данные Кэрролла о том, что и правонарушители, и законопослушные люди оценивают возможности для совершения преступления только по одному измерению (dimension) (Carroll, 1978), позволяют предположить, что преступники игнорируют некоторые аспекты потенциальных преступлений при оценке их осуществимости. Однако Кэрролл отмечает, что принятие решения может быть и последовательным, так что различные измерения (dimensions) принимаются во внимание в различные моменты времени или на разных этапах криминальной карьеры. Эта позиция нашла поддержку в пошаговом анализе вербализованных мыслей магазинных воров во время имитации краж в магазинах (Carroll, Weaver, 1986). Опытные магазинные воры были чувствительны к многим признакам благоприятных случаев для совершения преступления, но в момент принятия решения оценивали лишь немногие из них. Неопытных воров больше беспокоили решения о вступлении на воровской путь.
Теории, трактующие преступления с точки зрения рационального выбора, согласуются с когнитивной тенденцией в психологии в целом и совместимы с объяснениями криминального поведения в рамках теорий социального научения и контроля. Хирши (Hirschi, 1986), например, отмечает, что разграничение сЬбытий и вовлеченности эквивалентно различению преступлений как действий и криминальности как склонности; теории рационального выбора делают упор на первое, в то время как теории контроля и социализации — на последнее. Акерс (Akers, 1990) идет еще дальше и предполагает, что и теории рационального выбора, и теории контроля можно отнести к классу теорий социального научения, хотя при такой точке зрения может переоцениваться вклад последней в анализ когнитивных процессов теоретиками в области принятия решений.
В последнее время интерес к этому подходу подогревался озабоченностью проблемой сдерживания преступности. Сосредоточиваясь на ситуационном принятии решения, теориц рационального выбора рискуют оставить без внимания ограничения, накладываемые на выбор биографическими данными человека и 60лее широким социальным контекстом (Norrie, 1986). И это весомый аргумент в поддержку формально-юридической концепции индивидуальной ответственности и карательной философии наказания. Хотя перспектива рационального выбора пытается охватить параметры преступления, которые традиционные теории не
Делинквентность как самопрезентация
![]()
освещают, ей в настоящее время не хватает широкой, общей теории процесса познания (cognition), и сейчас она представляет собой амальгаму утилитаристской философии и частных теорий принятия решения.
Теория ролей, в которой социальное поведение рассматривается как функция заданных или ожидаемых социальных ролей, имеет давние традиции в социологии, но объясняет исполнение ролей преимущественно требованиями ситуации. Некоторые теоретики-психологи недавно высказали предположение, что делинквентное поведение является самопрезентацией, которая определяет социальную идентичность, но при этом рассматривают его как мотивированное поведение, связанное с когнитивными структурами. Голд (Gold, 1978), например, полагает, что делинквентное поведение возникает в школе как средство повысить самооценку и избежать обнаружения некомпетентности в учебных и социальных ролях (см. также главу 8).
Хоган и Джонс (Нор, Jones, 1983) предложили социоаналитическую теорию криминального поведения, которая опирается на идеи эволюционной теории, глубинной психологии и символического интеракционизма. С их точки зрения важнейшими структурами личности являются: (1) Я-концепция или идентичность, т. е. представление индивидуума о себе, зарождающееся во взаимодействиях «родитель—ребенок», и его представление от том, каким бы ему хотелось выглядеть в глазах других людей; (2) самопрезентация (самоподача) или тактика разыгрывание роли, применяемая для воплощения Я-образа; (З) референтная группа индивидуума, которая является интернализованным представлением об ожиданиях значимых других; (4) межличностные навыки сензитивности и компетентности, которые относятся к умению распознавать ожидания других и увязывать их с Я-образом посредством исполнения роли. Основу для этих структур составляют универсальные человеческие потребности во внимании и одобрении, статусе и предсказуемости.
Преступники, как считается, имеют отличие от законопослушных граждан во всех этих структурах. У тех из них, кто с детства был некомпетентен в межличностном общении и враждебно относился к власти взрослых, будет развиваться некооперативный и бунтарский межличностный стиль. В сочетании с плохой школьной успеваемостью и наличием возможностей он приведет к принятию девиантной роли. Референтной группой является первичная группа сверстников, схожих с индивидуумом на данный момент, а Я-образ воплощается в поведении таким способом, чтобы достичь максимального одобрения этой группы. В зависимости от темперамента, опыта моделирования и социальных возможностей, типичной самопрезентацией может быть образ грубого, отчужденного, безрассудного и шокирующего своим поведением человека. Выбор криминальной карьеры в этом случае является рациональным, хотя и необязательно сознательным, и «для многих лиц мужского пола, принадлежащих к рабочему классу, быть преступником — единственно возможная социальная идентичность». Хоган и Джонс приводят данные, свидетельствующие, что это действительно тот самый образ, который делинквенты воплощают в своем поведении, делая его зримым для окружающих.
Эмлер (Emler, 1984; Reicher, Emler, 1986) схожим образом рассматривает делинквентность как непатологическую и рациональную социальную идентич-
![]()
ность, выбираемую молодыми людьми, потому что в сложившихся обстоятельствах она имеет для них смысл. Делинквентность концептуализируется как общая поведенческая характеристика, которая широко варьирует у подростков и в своем крайнем проявлении представляет собой официально зарегистрированную делинквентность. Это поведение не является тайным или скрытым и открыто сообщается сверстникам при социальном взаимодействии, равно как и в самоотчетах о делинквентных действиях. Самопрезентация связана с более долговременной целью создания и поддержания своей репутации в кругу знакомых, поскольку репутация означает доступ к желаемым ресурсам. В связи с этим высказывается предположение, что подача себя в несколько необычном свете, неблагоприятном для авторитета, отражает не дефицитарность навыков, как полагают некоторые, а, скорее, является мотивированным поведением, устойчиво нацеленным на завоевание репутации у определенной аудитории или части подростковой группы.
Рейхер и Эмлер (Reicher, Emler, 1986) приводят доказательства, что делинквентное поведение оставляет у подростков ясное впечатление о твердом, суровом и нетрусливом характере, который положительно оценивается большинством делинквентов. Эти ученые считают, что социальная идентичность в аспекте будущих перспектив устанавливается в течение первых лет, проведенных в средней школе, и что ожидание распределения учеников по классам с учетом их способностей и боязнь учебных неудач приводит многих к неприятию официальной власти и идеологии «общественного договора», на которой она основывается. Прочная альтернативная идентичность обеспечивается благодаря наличию делинквентных традиций и поддержки такой идентичности в соответствующей группе сверстников. Завоевание и сохранение места в этой группе зависит от делинквентных действий, которые создают соответствующую репутацию.
Презентационный подход отличается от традиционных психологических теорий тем, что в нем делинквентность рассматривается как социально значимое поведение, мотивированное непатологическими процессами, а не как «бездумное» неподчинение нормам. Такое понимание делинквентности близко теориям субкультуры, в которых определяются «центральные заботы» рабочего класса (Miller, 1958), а фокус на недостатке приверженности установленному для всех порядку прекрасно согласуется с теорией контроля. Значимость делинквентных друзей и опыт школьных неудач также находят поддержку в социологических исследованиях делинквентности. Однако ни Хоган, ни Эмлер не дают удовлетворительного объяснения разнородности делинквентов. И хотя Хоган эксплицитно учитывает темперамент и ранний семейный опыт как важные детерминанты выбора делинквентной роли в подростковом возрасте, анализ Рейхера и Эмлера не дает ясного ответа на вопрос о том, в какой степени личные качества подростка способствуют его неудачам в школе. Наконец, этот подход, по-видимому, предсказывает отказ от делинквентности после распада делинквентной подростковой группы. Однако он не дает четкого ответа, почему некоторые делинквенты все же становятся преступниками во взрослом возрасте.
![]()
ГЛАВА 5
Индивидные и комплексные теории преступности
Введение
Ограниченность теорий, приписывающих социальным и культурным процессам роль важнейших детерминант девиантного поведения, заключается в том, что на самом деле люди, живущие в одинаковых внешних условиях, не развиваются единообразно. Поэтому просто невозможно не признать то обстоятельство, что индивидуальные различия, появляющиеся на раннем этапе развития, опосредуют влияния социального окружения. Эта глава посвящена трем общим психологическим теориям, в которых акцент делается на «внутренних» факторах, опосредующих девиантное развитие. Разумеется, ни одна из них не предполагает, будто индивидуум развивается в социальном вакууме. Глава заканчивается рассмотрением последних попыток объединить теории преступности.
Психоанализ и преступность
По мнению Лазаруса (Lazarus, 1980), ключевым вкладом Фрейда в психопатологию стала идея о том, что люди испытывают душевные страдания и выглядят довольно глупо, когда пытаются справиться с этим, так как вместе со своими проблемами они захватили с собой из собственного детства схемы решения, противоречащие здравому смыслу взрослых. Однако Фрейд почти ничего не говорил о преступности, и хотя последующие психоаналитики проявляли к ней широкий интерес, этот интерес всегда был косвенным и сосредоточивался на патологических процессах, проявлениями которых они и считали преступные действия (Glover, 1960). Видимо, поэтому существуют разрозненные психоаналитические комментарии, касающиеся преступности (см., напр.: Feldman, 1964; Marshall, 1983; kline, 1987), но нет ее единой психоаналитической теории. Нам ничего не остается, как попытаться кратко изложить более ортодоксальные концепции психодинамического направления.
Фрейд считал людей по существу антисоциальными. Как утверждалось, в силу своей биологии они наделены эгоцентрическим влечением к поиску удовольствия и влечением к разрушению, которые вступают в конфликт с требованиями социальной группы. Чтобы обеспечить выживание в обществе, люди сами должны контролировать или перенаправлять в другое русло эти влечения, и это дости-
![]()
гается двумя способами. Во-первых, противодействие первичному процессу активности ИД [8] обеспечивается появлением вторичного процесса, функции Эго, которое руководствуется принципом реальности. Развитие ориентированного на реальность мышления и воображения, таким образом, позволяет отсрочить получение удовольствия вследствие использования фантазии и планирования или же торможения открытой моторной разрядки (Singer, 1955).
Во-вторых, при перенаправлении влечений Ид в более приемлемое с социальной точки зрения русло Эго управляется Суперэго, которое представляет собой интернализацию групповых норм. Хотя первоначально Суперэго понималось как бессознательная инстанция, теперь оно понимается как большей частью сознательное или предсознательное (Nass, 1966) и состоящее из двух компонентов. Совесть относится к моральным нормам, и побуждения, которые им противоречат, нейтрализуются или не допускаются до сознания благодаря защитным механизмам Эго. Эго-иДеал[9] репрезентирует стандарты, к которым стремится субъект, и таким образом снабжает Эго позитивными ценностями и целями. В психодинамическоЙ гидравлической модели Эго и Суперэго являются уравновешивающими друг друга компонентами психической системы, в которой энергия, генерируемая в ид, должна быть либо непосредственно разряжена, либо преобразована или нейтрализована. Если сильные импульсы, которые нарушают стандарты Суперэго, прорываются в сознание или действие, Суперэго направляет агрессивную энергию Ид на Эго в форме переживаний вины. Поэтому Эго регулирует поведение в соответствии со стандартами Суперэго, чтобы избежать страданий, связанных с переживаниями вины.
Образование Суперэго находится в зависимости от психосексуального развития и развития Эго вследствие взаимодействия ребенка с родителями и связывается с разрешением эдипова конфликта в возрасте примерно пяти лет. А в более ранний период жизни рудиментарная совесть развивается по мере того, как ребенок учится контролировать свои импульсы, однако этот контроль в значительной степени опирается на внешние санкции (Malmquist, 1968). Продвигаясь от состояния первичного нарциссизма, в котором ребенок сам себе идеал и которое аналогично внутриутробному равновесию, младенец со временем узнает, что он не всемогущ и должен формировать отношения с «объектами», от которых зависит удовлетворение его потребностей. В центре этих объектных отношений — любовь и одобрение со стороны родителей, которые являются источником как чувства удовлетворения, так и фрустрации. По мере того как ребенок проходит в своем развитии через оральную, анальную и генитальную стадии, развитие Эго детерминирует контроль импульсов для оптимизации их удовлетворения, обеспечивая постоянное одобрение родителями. Таким образом, удовлетворяющие родительские отношения являются центральными для раннего развития, и нарушенные взаимосвязи порождают фиксации, к которым индивидуум впоследствии регрессирует в кризисные моменты жизни. Например, конфликты на анальной стадии могут привести к формированию оппозиционных и садистических наклонностей, которые проявляются в ситуациях, связанных с подчинением.
Психоанализ и преступность
![]()
С наступлением генитальной стадии инцестуальные желания, возникающие к родителю противоположного пола, и враждебность по отношению к родителю своего пола порождают напряжение из-за страха подвергнуться контратаке (страх кастрации) у мальчиков и страха потерять любовь у девочек. Этот конфликт разрешается путем защитной идентификации с угрожающим родителем и интроекции его атрибутов, т. е. принятия его воображаемых мыслей, чувств и поведения. Ребенок, таким образом, может отказаться от эдипальных стремлений, прекращая вкладывать психическую энергию во внешние объекты и включая их в себя. Совесть в этот период усиливается благодаря иДентификации с агрессором. Так, мальчик избегает угрозы отцовского наказания — благодаря интернализации воспринимаемой агрессии отца по отношению к нему и использования ее против себя — и сохраняет объектное отношение с матерью скорее как отношение любящей привязанности, чем обладания. Эго-идеал формируется за счет анаиитической иДентификации, благодаря которой инкорпорируется желаемый образ любимых объектов. Эго-идеал восстанавливает утраченный нарциссизм младенчества и оказывает поддержку в осуществлении желаний и самооценке. В ранний период развития психоаналитической теории считалось, что Суперэго, по существу, образуется на этой стадии, однако более поздние теоретики считают, что стандарты Суперэго развиваются на всем протяжении отрочества-юности (Nass, 1966).
Психоаналитики продолжают спорить о функциональном отличии Эго от Суперэго. Но они соглашаются в том важном пункте, что развитие внутренней моральной инстанции, управляющей поведением, зависит от отношений между родителями и детьми, дающих удовлетворение. Однако на современные теории развития больше повлияли работы эго-психологов и неопсихоаналитиков, таких как Салливан, и в них классическая модель инстинктов ставится под сомнение. Теория привязанности (Sroufe, Fleeson, 1986; Ainsworth, Bowlby, 1991) является эклектическим подходом, в основу которого были положены не только психоаналитические представления, но и идеи этологии, эволюционной теории и когнитивной психологии. Основной упор здесь делается на качестве привязанности ребенок—родитель (или, в более общем случае, тот, кто о нем заботится) в течение первого года жизни, которая детерминирует последующее когнитивное и социальное развитие. Ранняя привязанность влияет на дальнейшее поведение через интернализацию взаимоотношений ребенок—родитель как рабочей модели дальнейших диадических отношений. Например, ненадежная привязанность наблюдается у тревожно-избегающих и тревожно-сопротивляющихся младенцев, опыт которых заставляет их ожидать, что других не окажется на месте, когда им будет нужна поддержка, и потому не стоит на них полагаться. По-видимому, такие дети впоследствии чаще выбирают и формируют нарушенные интеракции, в которых воспроизводятся аспекты систем отношений, испытанных в раннем детстве. Влияние этой более когнитивно ориентированной теории можно найти в последних работах по расстройствам личности (Carson, 1979), жестокому обращению с детьми (Egeland, Jacobvitz & Sioufe, 1988) и половым преступлениям (Marshall, 1989).
В психодинамических подходах криминальное поведение объясняется преимущественно недостаточным формированием и функционированием Суперэго, и как
![]()
отмечает Гловер (Glover, 1960), «преступность является одним из следствий неудачного окультуривания (domestication)». Однако Суперэго никогда не отсутствует полностью, и его роль должна быть рассмотрена в полном контексте динамической системы. Поскольку поведение зависит от сбалансированности системы психической энергии, нарушение в любой из составляющих ее структур порождает неадаптивное развитие. Например, можно предположить, что недостатки Суперэго будут коррелировать с недостатками в эго-контроле и с неспособностью к отсрочке удовлетворения. Далее, маловероятно, что нарушенные родительские отношения ограничиваются эдиповой стадией, поэтому проблемы Суперэго могут быть связаны с бессознательными конфликтами на всех стадиях возрастного развития. Эти конфликты мотивируют совершение девиантных действий в дальнейшей жизни, когда воспроизводятся ранние конфликтные ситуации. Таким образом, психоаналитики предполагают три основных источника криминального поведения, которое связано с суровым, слабым или девиантным Суперэго.
Во-первых, преступные действия могут отражать суровость Суперэго и походить на невроз. И в симптоматических и в криминальных неврозах бессознательный конфликт подавляется. Единственное отличие состоит в том, что в первом случае этот конфликт переживается как аутопластическое изменение в функционировании, а во втором случае конфликт выражается («отыгрывается») в аллопластической попытке изменить окружающие условия. Например, при «компульсивном» воровстве акт похищения или украденный объект символизируют конфликт. Согласно одному из вариантов этого взгляда, Суперэго преступниканевьотика носит карательный характер, и он испытывает сильное бессознательное чувство вины из-за вытесненных инфантильных желаний. Отыгранное желание провоцирует наказание в форме законных санкций (Freud, 1915/1957). В качестве альтернативы делинквентность может быть заместительным удовлетворением потребностей в безопасности, принятии или статусе, не достижимым в семье (Healy, Bronner, 1936). Нереализованные бессознательные желания могут сублимироваться и находить выражение в альтернативных действиях, которые обеспечивают требуемое признание или статус, к примеру, в делинкбентной молодежной группе. Стоп (Stott, 1982), хотя и не использует традиционную модель Фрейда, также рассматривает делинквентность как разрешение проблемы фрустрации эмоциональных потребностей в личной эффективности и социальной привязанности внутри семьи. На основе наблюдений делинквентов в Глазго он предположил, что их делинквентные поступки были типичными реакциями на стрессы в семье и мотивированы одним из следующих факторов: бегством из семейной ситуации, избавлением от стресса путем переживания сильного возбуждения, враждебностью, проверкой на преданность и компенсаторной бравадой.
Последствие слабого Суперэго долгое время связывалось с психопатической личностью, и общее представление об эгоцентричном, импульсивном, не испытывающим чувства вины и эмпатии индивидууме является по сути психодинамическим изображением. Хотя в ранней формулировке психоаналитической теории выделялись «подчиненные импульсам» (impulse-ridden) характеры, которые выражают примитивные инстинктуальные потребности, не измененные Суперэго или фиксациями в развитии, большинство авторов говорит о комбинации неразрешенных эдипальных и прегенитальных фиксаций. Например, Гловер (Glover, 1960) рассматривает психопатов как задержавшихся на более ранней стадии фор-
Психоанализ и преступнорть
![]()
мирования Суперэго, предполагающей враждебные идентификации с родителями любого пола. Для таких индивидуумов «главной проблемой психической жизни является контроль садизма». Он рассматривает психопатов как конституционно предрасположенных к агрессии, а использование проекции — как защитную реакцию. При сочетании с опытом взаимодействия с фрустрирующими родителями, которые не смогли удовлетворить потребности ребенка в зависимости, это приводит к нарциссической фиксации, выражающейся в эгоцентризме и склонности эксплуатировать других людей. Схожий взгляд представлен в одной из недавних работ по нарциссической личности (Akhtar, Thompson, 1982). В дополнение к этому фрустрации на оральной и анальной стадиях усиливают естественные наклонности психопата к садизму, поскольку ребенок интроецирует враждебность, спроецированную на фрустрирующего родителя. Однако Гловер высказывает предположение, что Суперэго не является унитарным образованием, а составляется из слоев, сформированных посредством идентификаций на различных стадиях. Так как плохие отношения могут ограничиваться одним родителем и специфической стадией развития, дефектными могут быть только части Суперэго. Поэтому поведение психопата может быть девиантным только во времена кризиса. Объяснение Гловера схоже с описанием «организации пограничной личности» Кернбергом, которая включает и асоциальную личность (kernberg, 1975).
В этом контексте следует также рассмотреть гипотезу Боулби, согласно которой нарушение уз привязанности между матерью и ребенком является важным предвестником более поздней девиантности (Bowlby, 1979). Его оригинальная идея «материнской депривации» возникла из результатов исследований воров-подростков, которых разлучили с матерью до 5-летнего возраста (Bowlby, 1944). Однако эти данные не могли быть с точностью воспроизведены, и влияние отделения ребенка от матери продолжает считаться спорным и с методологической, и с концептуальной точек зрения (Wootton, 1959; Rutter, 1971). Анализ Раттера выявил некоторые противоречия в понятии материнской депривации, а проведенный им обзор имеющийся литературы не подтвердил, что отделение per se имеет каузальную значимость. Тем не менее Раттер нашел, что неудача в формировании эмоциональной связи с родителем или заменяющим его лицом (необязательно с матерью) составляет значимый фактор для делинквентности в дальнейшем. Этому аспекту уделяется особое внимание в последних объяснениях психопатии, в которых враждебность и видимое отсутствие тревоги рассматриваются как защита от болезненных чувств зависимости и бессилия, возникающих при раннем материнском отвержении и непоследовательном отношении (Vaillant, 1975; Marshall, 1983).
В-третьих, делинквентное поведение возникает, когда стандарты Суперэго развиваются нормально, но отражают Девиантную иДентификацию. Например, отец-преступник имеет хорошие отношения со своим сыном, и последний интроецирует криминальные атрибуты первого. В этом случае делинквентное поведение ребенка отражает отсутствие чувства вины„но не анормальность психических структур. Родственной концепцией является концепция «пробелов Суперэго» (superego lacunae) (Johnson, 1959), которая подразумевает, что делинквенты, в общем, могут быть адекватно социализированы, но им может недоставать запретов на отдельные формы девиантного поведения. Полагают, что это происходит в тех случаях, когда родители поощряют преступные занятия, которые служат замещающим удовлетворением (gratification) их собственного бессознательного кон-
![]()
фликта. Например, мать, которую беспокоит совершенная ею когда-то кража в магазине, может уделять несоразмерное внимание возможности совершения кражи собственным ребенком, и в результате ее ожидания могут стать самоисполняющимся пророчеством (Aldrich, 1978).
Психоаналитики не предлагают общей теории преступности и не могут дать адекватные объяснения некоторым ее характеристикам. Например, психодийамическая теория не объясняет возрастного распределения преступлений. Хотя прирост делинквентности в пубертатном периоде, по-видимому, можно достаточно правдоподобно связать с выходом на поверхность детских конфликтов в конце латентного периода, это никак не объясняет появляющуюся в ранней юности тенденцию воздерживаться от противоправного поведения. Более того, Фрейд утверждал, что поскольку лица женского пола не испытывают страха кастрации, им не приходится разрешать эдипов конфликт с той степенью полноты, с какой это вынуждены делать лица мужского пола. Вследствие этого первые имеют более слабое Суперэго. Это не согласуется с половыми различиями в преступности и противоречит тому очевидному факту, что во всех возрастах у лиц женского пола более сильная ориентация на моральные нормы, чем у лиц мужского пола (Ноктап, 1977).
Психодинамическая теория, по-видимому, опирается на следующие утверждения: ( 1 ) социализация зависит от интернализации норм общества в период раннего детства; (2) нарушенные отношения между родителями и маленькими детьми причинно связаны с криминальным поведением в дальнейшем; (З) бессознательные конфликты, проистекающие из нарушенных отношений в семье на различных этапах развития, особенно на эдиповой стадии, являются причинами некоторых преступных действий. Первое допущение не является уникальным для психоанализа, да и второе также разделяется другими теориями, хотя объяснения того, как именно семейные факторы влияют на делинквентность, разнятся (см. главу 7). Третье же допущение наиболее специфично и потому является критическим для данной теории.
Следует особо отметить, что не все преступления считаются совершающимися вследствие бессознательных конфликтов. Как отмечает Кляйн (kline, 1987), многие корыстные преступления, например «беловоротничковые», и даже некоторые агрессивные преступления являются «преступлениями Эго», которые предполагают рациональные цели и планирование. И возможно, что объяснительная полезность психодинамических теорий ограничивается «иррациональным» криминальным поведением. Согласно имеющимся в литературе данным, невротики и психопаты не составляют большинства преступников, хотя Стоп (Stott, 1982) полагает, что большинство устойчивых делинквентов обнаруживают ту или иную форму неумения приспособиться к жизни в обществе. До сих пор, однако, основанием для заявления о том, что некоторые преступники нарушают закон по причине бессознательных конфликтов, служат в основном post hoc клинические наблюдения, которым, обычно не грозит опасность подвергнуться проверке на достоверность.
Кляйн (kline, 1987) указывает на возможность применения методик подпороговой стимуляции, которые позволяют проверить наличие конфликта и пользо-
Теория
![]()
вание защитными механизмами, и считает, что, используя эти методики, можно делать проверяемые и фальсифицируемые предсказания. Однако валидность этих процедур находится под вопросом (Balay, Shevrin, 1988), и данная теория не способна удовлетворительно предсказать, в каких случаях конфликты будут выражаться в виде аллопластических, а не аутопластических симптомов. Невротические конфликты могут с той же вероятностью быть следствием преступления, что и его причиной. Фельдман (Feldman, 1964) указывает на то, что представители психодинамического направления игнорируют обратное воздействие вовлеченности в криминальную деятельность на дисфункцию личности.
Тем не менее психодинамические гипотезы не могут быть сразу отвергнуты. Психоанализ — единственная теория, которая пытается более или менее систематически изучать феномены эмоционального переживания и которая выдержала проверку в различных отношениях и может быть признана фальсифицируемой вопреки несколько переусердствовавшим в критике позитивистам (Dixon, Henley, 1980). Сопротивление психологов понятию бессознательных процессов также стало ослабевать (Meichenbaum, Gilmore, 1984), и с когнитивной «революцией» психология сблизилась с психоанализом (Lazarus, 1980; Erdelyi, 1985).
Теория криминальности Айзенка
Теория личности Айзенка развивалась на протяжении почти полувека и продолжает стимулировать научные исследования. Однако многие ее аспекты остаются спорными, в частности те, которые касаются преступности. В нашем рассмотрении мы сосредоточимся на теории криминальности, появившейся в 1964 г. и впоследствии развитой Айзенком (Eysenck, 1977) и Айзенком и Гудцжонсоном (Eysenck, Gudjionsson, 1989).
Криминальность истолковывается как склонность к соверймению преступлений и как непрерывная переменная (черта), которая изменяется от «альтруистического поведения через обычное (нормальное) поведение и, возможно, уже антисоциальное, хотя не причиняющее вреда другим поведение, до явно криминального поведения с потерпевшими» (Eysenck, Gudjonsson, 1989). Главный акцент в теории сделан на «активно асоциальном, психопатическом преступнике», который являет собой пример крайней степени несоциализированности. Семейные убийцы (family murderers) и «неадекватные» преступники теорией не рассматриваются, поскольку она не представляет собой настолько общей теории криминального поведения. Скорее, в ней предпринята попытка объяснить, почему некоторые люди не могут подчиняться правилам.
Отличительные черты преступников были выведены из трех множеств утверждений. Во-первых, описательная моДель личности устанавливает связь вариаций темперамента человека с тремя независимыми измерениями (dimensions): нейротизмом — (эмоциональной) стабильностью (ЛУ, психотизмом — Суперэго (Р) и экстраверсией—интроверсией (Е). лт и Е определялись с помощью последовательно применяемых опросников, в особенности Моудслейского личностного инвентаря (МРђ и Личностного инвентаря Айзенка (ЕИ). Появившийся позднее Личностный опросник Айзенка (EPQ) (Н.ј. Eysenck, S В. G. Eysenck, 1975) измеряет N, Р и Е
![]()
1 В последнее время термин neuroticism чаще стали переводить как невротизм, по-видимому, желая подчеркнуть противопоставление этого измерения другому — психопшзму. — Примеч науч. ред.
![]()
и содержит шкалу лжи (L), которая, вопреки своему названию, выявляет черты ригидной конформности или отсутствия открытости опыту (McCrae, Costa, 1985).
Во-вторых, Айзенк представил доказательства влияния генетических факторов на N, Е и Р, что подкрепляет предположение о биологической основе личности. Считается, что лт отражает ббльшую реактивность лимбической и автономной систем, следствием чего являются более сильные эмоциональные реакции на стресс и более высокие уровни «драйва». В основе Е лежит уровень кортикального возбуждения или возбудимости (коры головного мозга), регулируемый активностью в кортикоретикулярных цепях. Экстраверты отличаются от интровертов более низким возбуждением и, как предполагается, медленнее формируют условные реакции, требуют более интенсивной стимуляции для поддержания «гедонического настроения» (т. е. доставляющих удовольствие состояний сознания) и менее восприимчивы к боли. Р связывается с циркуляцией андрогенов, но это носит более предположительный характер.
Наконец, третье множество утверждений связано с пониманием социализации с позиций теории контроля. Подобно Фрейду, Айзенк считает людей по природе гедонистическими существами, социализация которых состоит в приобретении ограничений в форме «совести» или «Суперэго». Мораль, или соблюдение норм и правил, зависит от непроизвольных эмоциональных реакций на искушение, которые приобретаются путем классического обусловливания в результате наказания за антисоциальное поведение родителями и др. Таким образом, сопротивление искушению предполагает избегание наказуемого поведения, опосредованное возбуждением условной тревожной реакции, и «совесть является на самом деле условным рефлексом». Так как экстраверты менее подвержены страху наказания и медленнее формируют условные реакции, а в остальном не отличаются от интровертов, можно предположить, что при прочих равных условиях они будут труднее поддаваться социализации, чем интроверты.
Данная теория не утверждает, что криминальность per .se биологически детерминирована. Нормативное поведение взрослых зависит от качества обусловливания, полученного в детстве, а также от уровня способности конкретного ребенка к образованию условных связей, однако Айзенка преимущественно интересуют индивидуальные различия. Признавая, что преступники образуют разнородную группу, он считает, что как группа они будут более экстравертированы и будут обнаруживать более низкие уровни возбуждения и способности к образованию условных связей. Однако из Теории Халла, согласно которой драйв взаимодействует с силой привычки, усиливая тем самым доминирующую реакцию, можно предсказать, что эта группа будет иметь высокие оценки по N. Экстраверты, которые к тому же являются «невротиками», будут поэтому демонстрировать еще 60лее сильные антисоциальные тенденции. Далее предсказывается, что преступники должны иметь и более высокие оценки по Р. Это предсказание делается не на основе теории, а исходя из данных о том, что криминальность и психопатия более распространены среди родственников психотических пациентов, из чего следует, что генетическая предрасположенность к развитию психотического расстройства находит выражение и в антисоциальных тенденциях. Отмечается также, что черты индивидуума с высокой оценкой по Р (враждебность, равнодушие к чувствам других, жестокость) являются чертами, приписываемыми психопатам. Таким образом, выдвигается предположение, что высокие оценки по Р характериёуют пер-
Теория
![]()
вичных психопатов, а высокие оценки по лт и Е — вторичных психопатов. Как группа, однако, психопаты и преступники будут иметь повышенные средние оценки по всем трем измерениям (dimensions) личности.
Наиболее сильным объяснительным компонентом этой теории является связывание Е с низким возбуждением и недостаточной социализацией. Он независим от предсказаний в отношении лт и Р, которые обладают меньшей объяснительной силой. Психофизиологические исследования возбуждения и обусловливания у преступников будут рассмотрены в главе 6; здесь же мы ограничимся анализом доказательств связи преступности и антисоциального поведения с измерениями личности. Однако сначала следует более подробно рассмотреть основные теоретические положения.
Дезориентирующие понятия «нейротизм» и «психотизм» выводятся из базисного допущения о том, что лт и Р представляют собой фенотипическое выражение генетической предрасположенности к развитию главных видов психиатрических болезней. Таким образом, лг и Р это то «общее», что есть у «невротиков» ц «психотиков» (Eysenck, 1960). Однако в психиатрии определение симптомокомплекса как «невротического» отражает психоаналитическую теорию неврозов. Термин не имеет точного значения вне рамок этой теории. Таким образом, «нейротизм» представляет собой «материализацию» абстрактного понятия, которая маскирует тождество лт с тревожностью как чертой — измерением, используемым американскими исследователями (Blackburn, 1968а). В сущности, лт широко представлен в самооценочных опросниках и измеряет склонность к тревоге, депрессии, враждебности и низкой самооценке, или к негативной аффективности (Watson, Clark, 1984). Эти атрибуты не специфичны для «невротических» пациентов и характерны для многих «психозов» и расстройств личности. Однако если лт измеряет тревожность как черту, предсказываемый высокий уровень лт среди преступников трудно согласовать с характерным для них недостатком условно-рефлекторных тревожных реакций.
Еще ббльшая неопределенность окружает значение Р (Howarth,
1986). Нет доказательств, что шкала Р измеряет генетическую предрасположенность
к психозу или предвестников психотического расстройства (Davis, 1974а; Bishop,
1977). Нет и обоснования уравнивания предрасположенности к психозу с
отсутствием «Суперто», которое, согласно данной теории, является функцией Е.
Одно время Айзенк предполагал, что показатель Р может быть лучше истолкован как
«психопатия», — интерпретация, предпочитаемая другими исследователями
(Zukerman, kuhlman & Сатас, 1988). ![]()
Понятие интроверсии—экстраверсии тоже неоднозначно, и уже неоднократно поднимался вопрос о том, действительно ли оно описывает отдельное измерение. Предмет спора — отношение Е к «социабельным» и «импульсивным» КОМПОНеНтам экстравертированного поведения. Социабельность [10] означает «стадность» (gre-
5
![]()
gariousness), разговорчивость (talkativeness) и участие в групповых делах (group involvement) как противоположность отчужденности (aloofness) или замыканию в себе (withdrawal). Однако предпочтение интровертов к действиям в одиночку отличается от застенчивости (shyness) и социальной тревожности («невротическая интроверсия»). Под импульсивностью подразумевается совершение действий без предварительного обдумывания или сдерживания. В теориях черт она, как правило, соотносится с принятием скоропалительных решений или моторными реакциями на внешнюю стимуляцию. Однако в психологических теориях импульсивность чаще принято рассматривать в связи с контролем внутренних эмоциональных «импульсов» (Shapiro, 1965).
В иерархической модели Айзенка социабельность (SOC) и импульсивность (ПИР) являются первичными чертами, которые коррелируют с другими, такими как ассертивность или доминантность, производя в результате Е, измерение высшего порядка. Это нашло подтверждение и в исследованиях шкалы Е Личностного инвентаря Айзенка (Н. ј. Eysenck, S В. G. Eysenck, 1963; McCrae, Costa, 1985). Айзенк (Eysenck, 1974) предположил, что способность к образованию условных связей (в частности, к выработке условных рефлексов) связана с IMP, а не с SOC, и что IMP — более важный компонент экстраверсии в криминальности. Пункты ПИР, однако, были в основном убраны из шкалы Е в более позднем Личностном опроснике Айзенка, и IMP теперь рассматривают как компонент Р (S. В. G. Eysenck, Н. ј. Eysenck, 1978). Если же IMP несет в себе теоретическое значение, придаваемое Е (низкое возбуждение, слабая способность к образованию условных связей, недостаточно развитая совесть), и одновременно связана с Р, то это серьезно подрывает предложенную Айзенком теорию криминальности.
Тем не менее некоторые авторы доказывают, что SOC и IMP представляют собой независимые измерения (Carrigan, 1960; Guilford, 1977). Поскольку Р коррелирует с импульсивностью, неподчинением авторитетам и правилам (nonconformity) и неумением сдерживаться (lack of restraint) (Raine, Venables, 1981; Zuckerтап, kuhlman & Сатас, 1988), это также может служить доказательством, что Р является компонентом более широкого измерения контроля импульсов и что ибмерения Е и Р Личностного опросника Айзенка соответствуют установленным другими авторами двум независимым измерениям: социальной экстраверсии и импульсивности. Хотя Айзенк сохраняет приверженность иерархической модели, отношение между чертами, такими как SOC и IMP, может быть представлено альтернативно двумерной (плоской) круговой структурой (Wiggins, 1982). На рис. 5.1 изображена такая структура, которая была продемонстрирована в анализе шкал MMPI (kassebaum, Couch & Slater, 1959) и воспроизведена в работе Блэкборна (Blackburn, 1971b). Кассебаум с коллегами показали, что двумя главными факторами в MMPI являются по существу ДТ и Е, но при этом отметили, что расположение векторов под углом 45 0 по отношению к первичным осям является важным моментом в объяснении значения главных осей. Эти векторы ойределяются шкалами социальной самоизоляции/социального участия (т. е. социабельности) и импульсивности/контроля. Следовательно, в этом анализе SOC и IMP представляют собой независимые измерения, которые коррелируют с Е (и с ЛО, но не друг с другом, и получение Айзенком коррелированных кластеров можно объяснить ограниченной выборкой пунктов, содержание которых в основном касается моторных аспектов IMP, а не эмоционального контроля. Для объяснения многих
![]()
Нейрошзм
(негативная
аффективносљ)
![]() Импульсивность
Импульсивность
Экстраверсия Интроверсия
Социабельность Стабильность Контроль
Рис. 5, 1. Отношение импульсивности и социабельности к нейротизму и экстраверсии.
Буквами А и В представлены первичные и вторичные психопаты соответственно
черт, которые по утверждению Айзенка составляют Р (доминантность, маскулинность, агрессия), на самом деле достаточно двумерной круговой модели (Blackburn, Maybury, 1985; Wiggins, Broughton, 1985).
Если IMP и SOC истолковывать как альтернативный поворот осей, определяющих двумерное пространство, они могут означать главные направления причинных влияний на индивидуальные различия. Это и составляет суть пересмотренной Греем (Gray, 1981) теории Айзенка. Хотя Грэй отличает лт от тревожности и обозначает полученные в результате вращения оси как «импульсивность» и «тревожность», измерения Грея — это не что иное, как оси импульсивности и социальной самоизоляции (т. е. социальной тревожности) на рис. 5.1. Однако, применяя свою теорию к объяснению криминальности, Грей делает упор на тревожности/социальной самоизоляции, а не на импульсивности (см. ниже).
Теоретическое положение о том, что
материальная основа лт заключается в порогах активации лимбических
структур, не получило сильной эмпирической поддержки, а гипотезу о связи Р с
уровнем андрогенов еще предстоит исследовать. В этом разделе будут рассмотрены
следствия гипотезы о связи Е с кортикальным возбуждением. ![]()
Характеристики ЭЭГ, которые на сегодняшний день, возможно, являются наиболее прямыми показателями кортикального возбуждения, не позволяют отличать экстравертов от интровертов на сколько-нибудь регулярной основе (Gale, Edwards, 1983), но некоторые предсказания, сделанные на основе этой модели, были подтверждены. Например, предполагается, что интроверты превзойдут экстравертов в способности вырабатывать условные реакции при условиях (а) парциального (частичного) подкрепления, (б) слабого безусловного раздражителя и (в) короткого интервала между условным и безусловным раздражителями. При несоблюдении этих условий превосходство в способности вырабатывать условные реакции будут демонстрировать экстраверты, и Айзенк приводит некоторые
5.
![]()
доказательства этому. Однако представление о предрасположенности к более легкой выработке условных реакций, распространяющейся на все физиологические системы, все еще составляет предмет дискуссий (Levey, Martin, 1981). К тому же в современных разработках теории обусловливания придается больше значения информационным аспектам классического обусловливания, чем простой модели рефлекторной дуги (Rescorla, 1988).
Далее, на основе постулата о возбуждении предсказывается, что экстравертам требуется ббльшая стимуляция для поддержания положительного «гедонического настроения» и, следовательно, у них оптимальный уровень стимуляции выше, чем у интровертов. Айзенк отмечает, что делинквентные действия часто совершаются от скуки и желания рискнуть, а согласно Болдуину (Baldwin, 1985), поиск острых ощущений, наиболее характерный для мальчиков-подростков, может быть ответствен за возрастные и половые различия в совершении преступлений. Другие теоретики также предполагают наличие связи между низким уровнем возбуждения, поиском стимуляции и девиантным поведением. Квей (Фау, 1965, 1977b) прямо связывает «стимульный голод» с психопатией, а Фарли (Farley, 1986) предполагает, что у делинквентов в общем низкий уровень возбуждения и поэтому они ищут острых ощущений. В своем изложении «теории возбуждения» Эллис (Ellis, 1987) говорит о том, что с субоптимальным возбуждением связаны восемь паттернов поведения (резистентность к наказанию, импульсивность, гиперактивность, тяга к риску, употребление психоактивных веществ в свободное время, активные социальные взаимодействия, богатый сексуальный опыт и слабые успехи в учебе), и предполагает, что все это имеет отношение к «криминальному поведению и/или психопатии».
Однако связи между экстраверсией, поиском стимуляции и возбуждением никак нельзя считать твердо установленными. Оптимальный уровень стимуляции обычно измерялся с пЬмощью Шкал поиска ощущений Цукермана (SSS) (Zuckerтап, 1969), но исследования с использованием этих шкал показывают, что поиск стимуляции связан с IMP, а не с SOC (Blackburn, 1969; Farley, Farley, 1970). Он также коррелирует с Р и с недостаточной социализацией, а вместе эти переменные определяют фактор, не зависимый от экстраверсии, определяемой по шкале Е Личностного опросника Айзенка (Zuckerman et al., 1988). Таким образом, поиск дополнительных стимулов не является прямой функцией Е.
Понятие оптимального уровня стимуляции само по себе представляет трудности. Оно обозначает преДпочтительный уровень, или стандарт, отход от которого предположительно мотивирует поиск или избегание стимуляции. Таким образом, существует несоответствие между этим постулированным стандартом и актуальным уровнем входящей информации, и именно этот последний, скорее всего, является мотивирующим, а не уровень возбуждения per se. Природа этого мнимого стандарта неясна, и нет очевидных причин утверждать, почему высокий оптимальный уровень должен связываться с низким уровнем возбуждения. В действительности же есть доказательства того, что вызываемое «скукой» отвращение является следствием повышенного возбуждения в автономной нервной системе (Berlyne, 1960; Zuckerman, „1969; London, Schubert & Washburn, 1972).
В теориях оптимального уровня стимуляции подчеркиваются неспецифические возбуждающие эффекты интенсивности стимула, но исследования сенсорной депривации показывают, что эффект обогащения среды испытуемых, лишен-
![]()
ных стимуляции, производит не интенсивность стимула или их разнообразие как таковое, а, скорее, информация, содержащаяся в стимуляции (Berlyne, 1960; Jones, 1969). Таким образом, некоторые авторы считают, что люди ищут оптимальный уровень информации в форме некоторого уровня неопределенности или несоответствия (Hunt, 1965). Неопределенность и несоответствие не являются внутренними свойствами «необработанной» стимуляции, а зависят от того, как она оценивается. И хотя новая или сложная стимуляция вызывает возбуждение, этот эффект является следствием обработки информации. Если стимульный голод представляет собой отход от предпочтительного оптимума несоответствия, то поведение, направленное на поиск ощущений, должно быть в большей мере связано с опосредованием центральными механизмами когнитивного контроля, чем с понижением уровня неспецифического возбуждения.
Цукерман приходит к выводу (Zuckerman, 1984), что не существует доказательств связи между оптимальным уровнем стимуляции и низким возбуждением, по крайней мере в тех случаях, когда дело идет о поиске ощущений. Недавние исследования позволяют предположить, что лица с выраженной тенденцией к поиску ощущений имеют возбудимую ЦНС, тем самым являясь более возбужденными и более возбудимыми (Smith et al., 1989) В настоящее время Цукерман рассматривает «искателей ощущений» как людей, компенсирующих таким способом низкую тоническую активность в катехоламиновых системах головного мозга, регулирующих высвобождение норадреналина. Это хорошо соотносится с контролем информационного потока, так как норадреналиновая система участвует в отборе стимулов и фильтрации нерелевантной информации (Mason, 1984).
В таком случае поиск дополнительных стимулов очевидно не имеет прямого отношения к Е или к уровню возбуждения. Это не делает недействительной гипотезу о связи между возбуждением и экстраверсией, но подрывает рассматриваемую теорию криминальности, поскольку в своем предсказании, что криминальное поведение представляет собой поиск дополнительных стимулов, Айзенк опирался на допущение о связи между экстраверсией и оптимальным уровнем стимуляции.
![]() Грей также сводит к минимуму роль
возбуждения в индивидуальных различиях, которые, как предполагается, более
тесно связаны со специфическими системами переднего мозга (Gray, 1981). В основе
измерения «тревожность» лежит система торможения поведения (ВТ),
септо-гиппокампальная система, которая чувствительна к условным раздражителям,
связанным с наказанием, или к отсутствию ожидаемого вознаграждения и потому
опосредует пассивное избегание. BIS взаимодействует с системой активации
поведения (BAS), которая опосредует быстроту реагирования на условные
раздражители, связанные вознаграждением или отсутствием наказания, и лежит в
основе импульсивности, хотя ее биологический субстрат менее ясен. Считается,
что психопаты характеризуются недостатком реактивности BIS и вследствие этого
относительно нечувствительны к угрожающим стимулам (Transler, 1978; Fowles,
1988). Фаулз предполагает, что эта недостаточность будет проявляться в
гипореактивности электродермальной системы. Не предполагается никакой
дисфункции BAS, но считается, что поведение, направленное на поиск
вознаграждения, у психопатов расторможено из-за неспособности условных
раздражителей, связанных с наказанием, затормозить реакции приближения.
Грей также сводит к минимуму роль
возбуждения в индивидуальных различиях, которые, как предполагается, более
тесно связаны со специфическими системами переднего мозга (Gray, 1981). В основе
измерения «тревожность» лежит система торможения поведения (ВТ),
септо-гиппокампальная система, которая чувствительна к условным раздражителям,
связанным с наказанием, или к отсутствию ожидаемого вознаграждения и потому
опосредует пассивное избегание. BIS взаимодействует с системой активации
поведения (BAS), которая опосредует быстроту реагирования на условные
раздражители, связанные вознаграждением или отсутствием наказания, и лежит в
основе импульсивности, хотя ее биологический субстрат менее ясен. Считается,
что психопаты характеризуются недостатком реактивности BIS и вследствие этого
относительно нечувствительны к угрожающим стимулам (Transler, 1978; Fowles,
1988). Фаулз предполагает, что эта недостаточность будет проявляться в
гипореактивности электродермальной системы. Не предполагается никакой
дисфункции BAS, но считается, что поведение, направленное на поиск
вознаграждения, у психопатов расторможено из-за неспособности условных
раздражителей, связанных с наказанием, затормозить реакции приближения.
5.
![]()
Квей (Фау, 1986), однако, высказывает мнение, что среди детских поведенческих проблем расстройство поведения является функцией сверхактивной BAS, расстройство дефицита внимания отражает низкоактивную BIS, тогда как социальная самоизоляция является следствием сверхактивной BIS. Похоже, что это больше согласуется с личностными коррелятами этих систем, гипотетически описанными Греем. И все же следует особо подчеркнуть, что все люди будут иметь значения координат по обеим осям, и у некоторых могут оказаться предельные значения обеих координат: функционирования BIS и BAS. Например, на рис. 5.1 точками А и В представлены позиции двух разлйчных, но в равной мере высокоимпульсивных людей. Следовательно, можно предсказать, что оба имеют сверхактивную BAS. Однако индивидуум В склонен к социальной самоизоляции, и можно предположить, что у него сверхактивная ВО, в то время как индивидуум А должен иметь низкоактивную BIS. В сущности, индивидуумы А и В соответствуют группам первичных (А) и вторичных (В) психопатов, установленных эмпирическим путем (Blackburn, 1986).
Утверждение, что социализация опосредована выработкой условно-рефлекторной тревоги или страха, трудно доказать. Хотя важность наказания в воспитании ребенка широко признается, многие отстаивают мнение, что не менее важную роль в воспитании играет подкрепление поведения, несовместимого с социально неодобряемым. Наблюдения за взаимодействием «родитель—ребенок» позволяют сверх того предположить, что девиантные семьи положительно подкрепляют девиантное поведение (см. главу 7), хотя в теориях социального наущения особо подчеркивается роль моделирования как просоциального, так и антисоциального поведения, а также развитие когнитивной саморегуляции в процессе социализации. Теория Айзенка, таким образом, критикуется на том основании, что она, будучи выведенной из лабораторных исследований животных, слишком узко понимает человеческое развитие (Passingham, 1972; Trasler, 1978). Условно-рефлекторная модель приобретения страха, всегда являвшаяся предметом споров в свете классических исследований Хеббом роли когнитивного несоответствия в реакциях страха (НеЬЬ, 1946), в последние годы вызывает еще большие сомнения (см., напр.: Rachman, 1977).
Мы отмечали выше, что при определенных условиях интроверты превосходят экстравертов в способности вырабатывать условные реакции. При отсутствии доказательств, что способность к образованию условных связей является обобщенной чертой, значимость вышеотмеченного факта для социализации зависит от принятия нами процедуры выработки мигательного или кожно-гальванического условного рефлекса в качестве аналога естественного обусловливания эмоциональных реакций. Тем не менее представляется сомнительным, что любые различия в приобретении условных реакций между интровертами и экстравертами могут адекватно объяснить различия между ними в реальной жизни. Как указывает Пассингхэм (Passingham, 1972), условия, благоприятствующие проявлению превосходства интровертов в выработке условных реакций (слабые безусловные стимулы, короткий интервал между условным и безусловным стимулами), нечасто встречаются в повседневной жизни. Грей (Grey, 1981) отстаивает сходное убеждение, что обусловливание релевантно социализации только в том смысле, что
![]()
интроверты биологически более подвержены страху и у них легче вырабатываются условные рефлексы на аверсивные раздражители.
Рейне и Венаблес (Raine, Venables, 1981) осуществили проверку теории социализации на нормальных подростках, используя модель выработки кожно-гальванического условного рефлекса, параметры которой благоприятствуют интровертам. Испытуемые были разделены на более и менее социализованных в зависимости от оценок по фактору, извлеченному из самооценочных тестов социализации и личности, однако никаких различий в выработке условных рефлексов у них обнаружено не было. Хотя в целом теорию Айзенка подтвердить не удалось, было получено ее частичное подтверждение благодаря эффекту взаимодействия между социальным классом и обусловливанием: мальчики с антисоциальным поведением из семей среднего класса хуже вырабатывали условные реакции, чем мальчики с менее антисоциальным поведением; обратная зависимость была наидена для мальчиков из низших слоев общества. Считается, что эти результаты говорят в пользу гипотезы Айзенка, согласно которой интроверты, выросшие в более криминогенном окружении, сами станут антисоциальными из-за своей более высокой способности вырабатывать условные реакции (хотя неясно, каким образом антисоциальное поведение можно прямо формировать путем обусловливания). Тем не менее и эти данные не обеспечивают проверки данного предсказания, так как меры социализации оказались не связанными с показателями Е Личностного опросника Айзенка.
Теория социализации Трэслера (Trasler, 1962, 1978) менее уязвима к приведенным выше критическим замечаниям. Хотя он также рассматривает социализованное поведение как зависящее от условно-рефлекторной тревоги, а не от аверсивных подкрепляющих последствий в непосредственном окружении при нарушении норм, он прямо связывает его с научением пассивному избеганию. Соответственно, сигналы, ассоциированные с наказанием, вызывают условно-рефлекторную тревогу, которая снижается при сдерживании наказуемой реакции. Однако это не зависит от процесса общего обусловливания, и «аверсивное тормозное обусловливание» (aversive inhibitory conditioning) считается примитивной и относительно независимой формой научения, которое у людей использует дополнительные возможности когнитивных способностей в виде инструкций и ссылок на правила или принципы. Уделяя особое внимание вербальному опосредованию, Трэслер отходит от позиций Айзенка, который рассматривал его как второстепенное в социализации.
В качестве средства наказания Трэслер выше оценивает лишение одобрения, чем физическое наказанию. Ожидание потери одобрения или невознаграждения является функционально равнозначным ожидаемой боли. Родители, которые используют методы воспитания, связанные с получением или лишением одобрения (что подразумевает зависимые отношения между ребенком и родителями), будут более эффективными агентами социализации, и в этом случае социализация будет оптимальной в «здоровых» семьях среднего класса. Таким образом, он делает больший упор на социальных условиях, в которых проходит воспитание детей. Криминальное поведение может быть обусловлено отсутствием адекватных условий для воспитания, а не только недостаточной способностью реагировать на воспитание, и Трэслер сомневается в том, что факторы личности, имеющие отношение к способности формировать условные связи, являются значимыми для большин5
![]()
ства преступников. Однако психопаты представляют собой «типичный случай девиации», поскольку у них налицо недостаток механизмов, необходимых для научения социальным запретам. И это обусловлено не каким-то генерализованным недостатком способности к образованию условных связей, а связано, скорее, со специфической дефицитарностью чувствительности к условным сигналам наказания. Трэслер приравнивает это к дефицитарности BIS Грея.
В нашем обсуждении мы коснулись ряда недостатков в общей теории Айзенка, которые заставляют усомниться в ее адекватности для объяснения криминальности. Тем не менее проведенные проверки сделанного Айзенком предсказания связи антисоциального поведения с высокими уровнями Е, лт и Р обеспечивают ясно освещенную область для изучения связей между личностью и преступностью. Исследования, в которых использовались более ранние формы опросников Айзенка, практически не ћодтверждают эту теорию. Кохрейн (Cochrane, 1974) суммировал результаты двадцати исследований, проведенных до 1972 г. Только в одном из них была продемонстрирована ббльшая экстравертированность делинквентов; в пяти исследованиях доказывалась их интровертированность. Последующие исследования, в которых использовался Личностный опросник Айзенка (EPQ), дают более согласованные результаты, хотя и не всегда те, которые предсказывались на основе теории. В своем весьма критическом аналитическом 0636ре, оспаривающем валидность опросников Айзенка, Фарринггон, Байрон и Ле Бланк (Farrington, Biron & LeBlanc, 1982) исследовали 16 сравнений преступников с контрольными группами. В большинстве случаев преступники имели более высокие оценки по Р и ЛУ, но далеко не всегда по Е. В противоположность этому, в семи исследованиях с использованием самоотчетов была показана связь с Е, хотя корреляция с Р предполагалась в нескольких исследованиях, использующих эту шкалу. Не было никакой ясной связи с N.
Фарринггон с коллегами описывают исследование делинквентности по данным самоотчетов в Монреале, которое тоже показало связь делинквентности с Е и Р, а также тенденцию мальчиков и девочек с сочетанием высоких показателей и Е сообщать о более делинквентном поведении. Согласно результатам Кембриджского исследования, существует значимая связь между Е и делинквентностью по данным самоотчетов, а также между лг и официально зарегистрированной делинквентностью, а комбинации высоких N и Е в возрасте 16 лет были связаны с делинквентностью во взрослом возрасте как по официальным данным, так и по данным самоотчетов. Так как эти связи не фиксировались при учете показателей делинквентности несовершеннолетних по данным самоотчетов, авторы предполагают, что связь между Е и делинквентностью по данным самоотчетов отражает систематическую ошибку в ответах (response bias). Они также опровергают наличие корреляции с Р, считая ее артефактом конструкции шкалы на том основании, что для нее были отобраны пункты, максимизирующие различия между делинквентами и неделинквентами. По нашему мнению, такое заявление не является обоснованным.
Хотя Фарринггон с коллегами пришли к выводу, что теории Айзенка недостает эмпирической поддержки, некоторые устойчивые соответствия, обнаруженные в их данных, были получены и в последующих исследованиях. Например, Раштон
![]()
и Кристджон (Rushton, Christjohn, 1981) установили, что делинквентность по данным самоотчетов устойчиво коррелирует с Е и Р и имеет отрицательную корреляцию с L. Эти результаты были получены на семи выборках школьников и студентов. Их вывод о том, что показатели делинквентности по данным самоотчетов имеют нагрузки по трем личностным факторам (экстраверсия, жесткость [11] и психотизм), по-видимому, также свидетельствует против любых простых интерпретаций, наподобие систематической ошибки в ответах. Гома, Перец и Торрубиа (Goma, Perez & Torrubia, 1988) составили сводку исследований, проведенных в Испании, которые также подтверждают, что делинквентность по данным самоотчетов в выборках «непреступников» значимо связана с Р и Е. Выборки лишенных свободы преступников имели высокие оценки по Р и N, но не по Е, что согласуется с данными, приведенными в обзоре Фаррингтона и др. Согласно же Айзенку и Мак-Гурку (S. В. G. Eysenk, McGurk, 1980), молодые преступники в центре для содержания под стражей задержанных правонарушителей имеют значимо более высокие показатели, чем испытуемые из контрольной группы по Р, Е и N, равно екак и по IMP.
Дополнительные доказательства приходят из исследований наблюдаемого антисоциального поведения школьников. Саклофс (Saklofse, 1977) установил, что шкала Р статистически значимо дифференцировала мальчиков, отнесенных учителями к категориям хорошо или плохо ведущих себя. Пауэлл и Стюарт (Powell, Stewart, 1983) получили аналогичные результаты и сообщают о том, что оценки учителей, касающиеся антисоциального поведения, коррелируют со шкалой Р Личностного опросника Айзенка для подростков (Junior EPQ). Проведя серию исследований, Лейн (Lane, 1987) установил, что дети, в личных делах которых зафиксированы серьезные нарушения в школе, имеют высокие оценки по Р и Е и что Р коррелирует с оценками враждебности. В пятилетних последующих исследованиях (follow-up) официально регистрируемая делинквентность предсказывалась высокими оценками по Р, но низкими по N, а также по L. Кроме того, Р коррелировал с числом и постоянством совершения преступлений, а также с насильственными преступлениями; корреляции с Е и лт были незначимыми. Таким образом, в этих исследованиях именно шкала Р обнаружила наиболее согласованную связь с антисоциальным поведением. Однако Берман и Пэйси (Berman, Paisey, 1984) установили, что более серьезные (применяющие насилие) делинквенты по сравнению с менее серьезными (преступления против собственности) имели более высокие оценки по Р, Е и лг и более низкие — по L.
Нам доступны лишь ограниченные доказательства прогнозов Айзенка, касающихся психопатии. Хэйр (Hare, 1982) нашел, что заключенные из канадской тюрьмы усиленного режима имели близкие к нормативным средним оценки по всем шкалам EPQ, однако им была обнаружена слабая положительная корреляция между шкалой Р и Контрольным перечнем психопатии, причем корреляции были наибольшими с пунктами, касавшимися скуки и импульсивности. Вопреки прогнозам Айзенка о том, что Р характеризует первичных психопатов, Блэкборн
(Blackburn, 1987) на выборке преступников с психическими расстройствами установил, что наиболее высокие оценки по шкале Р Личностного опросника Айзенка (EPQ) были получены вторичными психопатами, которые к тому же оказались более интровертированными, чем первичные психопаты. Обе психопатические группы имели высокие оценки по N, но первичные психопаты получили самые высокие оценки по Шкалам поиска ощущений (SSS). Последнее согласуется с более ранним исследованием психопатов (Blackburn, 1978), хотя поиск ощущений, как было установлено, также коррелирует с делинквентностью по данным самоотчетов (Wtite, Labouvie & Baltes, 1985; Goma, Petez & Torrubia, 1988), делинквентностью по официальным данным (Farley, Swell, 1976) и с более серьезным антисоциальным поведением среди делинквентов (Farley, Farley, 1972; Berтап, Paisey, 1984).
Айзенк приводит несколько соображений по поводу неудач предсказания относительно Е. Во-первых, это влияние возраста. В исследованиях на основе самоотчетов обычно используют выборки школьников, тогда как в исследованиях преступников чаще участвуют взрослые заключенные. Айзенк предполагает, что Е более значима для антисоциального поведения детей и подростков, а лт — для более старших преступников, хотя он также заявил, что его теория менее применима к делинквентности несовершеннолетних, чем к устойчивому преступному поведению взрослых (Eysenck, 1974). В одном исследовании, заключавшемся в сравнении заключенных и нормативной выборки EPQ, стратифицированной по возрастным группам, Р и лт различались во всех возрастах, но Е оказалась дифференцирующей переменной только для преступников старше 40 (S. В. G. Eysenck, Н. ј. Eysenck, 1977). Это не согласуется с утверждением, что Е значима в основном для преступного поведения несовершеннолетних. По-видимому, и устойчивое преступное поведение скорее всего связано с Р, а не с Е или N.
Второе соображение по поводу того, почему заключенные не получили высоких оценок по Е, сводится к следующему: их оценки социабельности могли понижаться вследствие ограничений, накладываемых тюремным режимом на социальное поведение заключенных. Это объяснение кажется неправдоподобным, поскольку оценки по личностным тестам социабельности отражают преДпочитаелЬое поведение в той же мере, что и фактическое, и, согласно любой теории мотивации, лишение возможности совершать предпочитаемые действия ведет к повышению, а не понижению интереса к ним. К тому же вероятность обнаружить экстраверта среди заключенных, получивших небольшой срок, не выше, чем среди преступников, отбывающих длительное наказание в условиях тюрьмы (Burgess, 1972). Более вероятным кажется предположение, что для антисоциального поведения значима именно ПИР, а не SOC составляющая экстраверсии; согласно некоторым данным, IMP связана и с делинквентностью по данным самоотчетов (Silva, Martorell & Clemente, 1986), и с делинквентностью по официальным данным (S. В. G. Eysenck, McGurk, 1980). Однако отмечается, что сегодня теория связывает ШР теснее с Р, чем с Е, что сводит на нет ее объяснительный потенциал.
Подводя итог, следует отметить, что теории криминальности Айзенка все же не хватает эмпирического подтверждения. При проведении ее проверок были подучены существенные результаты, которые по большей части не имели отношения к ядру теории, пытающейся связать экстраверсию, ее предполагаемый физиологический субстрат и процесс социализации. Наиболее сильная связь выдедяется между антисоциальным поведением и Р, а не Е, но если принять во внЙмание неоднозначность параметра Р и отсутствие теории, которая связала бы Р с социализацией, эта связь в настоящее время имеет очень слабую объяснительную силу. Более того, исследования методом кластерного анализа показывают, что лишь очень небольшая часть делинквентной популяции имеет высокие значения по Р. Очевидно, что экстраверты чаще описывают себя как склонных к совершению девиантных действий и что некоторые преступники — экстраверты, но основное теоретическое предсказание о том, что среди всех типов преступников превалируют экстраверты, не подтверждается эмпирикой с той степенью согласованности, которой бы хватило для оправдания доверия к этой теории.
В теориях социализации, обращенных к развитию Суперэго, совести или самоконтроля, криминальное поведение трактуется как аспект более общего нарушения морального развития. Мораль с этих позиций рассматривается как приобретение подобающего поведения и соответствующих убеждений путем обусловливания, моделирования или идентификации и представляет собой интернализацию норм и правил данного общества под влиянием родителей, учителей или сверст-, ников. С этой точки зрения моральные интуиции правоты и неправоты (справедл ливости и несправедливости) являются по происхождению аффективными реак циями, возникающими в силу биологической потребности или в силу стремлени к социальному вознаграждению и избеганию наказания. Нравственное действие; следовательно, — это иррациональное следование стандартам определенной культуры (Lickona, 1976; Gibbs, Schnell, 1985).
В структурной теории Пиаже (Piaget, 1959) способность к моральному раесуждению является следствием интеллектуального развития, которое состоит из последовательных преобразований когнитивных структур в ответ на действие внутренних и внешних сил. Стадии морального рассуждения задаются универсальными стадиями когнитивного развития. Таким образом, детская стадия корнкретно-операционального мышления связана с гетерономным рассуждением, при котором правила взрослых принимаются безоговорочно. По мере продвижения детей к стадии формально-операционального мышления происходит соответствующиЙ сдвиг в сторону автономного рассуждения, при котором правила уже рассматриваются детьми как результат группового соглашения, а справедливость становится рациональным принципом, регулирующим межличностное взаимодействие.
Колберг также определяет развитие морального рассуждения с точки зрения последовательно прогрессирующего понимания универсального принципа справедливости, суть которого заключается в распределении прав и обязанностей, регулируемом представлениями о равенстве и взаимности. Однако он расширяет теорию Пиаже, предполагая уже три уровня морального рассуждения, каждый из которых состоит из двух стадий (табл. 5.1). Эти уровни отображают три типа отношений между субъектом и нормами общества. ПреДконвенциональный уровень
Таблица 5.1
Уровни и стадии морального развития по Колбергу
|
Уровень 1 Предконвенциональный, или доморальный: моральные и своекорыстные ценности не дифференцируются: правила и социальные ожидания являются внешними по отношению к субъекту (Я) СтаДия — ориентация на поДчинение и наказание: правильное действие состоит в подчинении правилам, что поддерживается наказанием и управляется другими, обладающими властью людьми. Избегание наказания является причиной поступать правильно СтаДия 2 — инструментальные цели и обмен: правильным считается действие, отвечающее непосредственному интересу субъекта, равно как и действие, являющееся честным обменом. Акцент делается на удовлетворении собственных потребностей при одновреМенном признании потребностей других |
|
Уровень 2 Конвенциональный: моральные ценности определяются с точки зрения социального соответствия, взаимных межличностных ожиданий и взаимозависимых отношений: субъект идентифицируется с другими и интернализует правила и ожидания других СтаДия З — межличностное согласие и соответствие: правильное действие состоит в том, чтобы поступать согласно предполагаемым ролям другого. Поведение оценивается
с точки зрения благих намерений, доверия, лояльности и заботы о других СтаДия 4 — социальное согласие и поДДержание системы: правильное действие состоит в исполнении установленных (по согласию сторон) обязанностей, поддержании законов, работе на благо группы, общества или социального института |
|
Уровень З Постконвенциональный: правила и соглашения в рамках конкретной социальной системы отделяются от признаваемых стандартов и универсальных нравственных принципов, субъект (Я) отделяется от правил и ожиданий других. СтаДия 5 — общественный Договор, полезность и права личности: правильным считается действие, которое соответствует ценностям и правилам близкой к субъекту группы, так как эти ценности и правила составляют предмет общественного договора. Некоторым безотносительным правам личности, таким как жизнь и свобода, отдается предпочтение СтаДия 6 — универсальные этические принципы: правота определяется с точки зрения самостоятельно выбранных и универсальных ?тических принципов справедливости, соблюдения прав и достоинства человека. Законы и социальные соглашения поддерживаются до тех пор, пока они отвечают этим принципам. Причина поступать правильно — рациональное убеждение в справедливости универсальных нравственных принципов и следования им |
Вторую стадию каждого уровня составляет более прогрессивная форма общей перспективы. Например, перспектива стадии З характеризуется взаимно обязывающими отношениями заботы, доверия и преданности между двумя и более людьми, тогда как на стадии 4 такие отношения рассматриваются в перспективе социальной системы как целого. Каждая стадия определяется исходя из того, что значит поступить правильно (справедливо), доводов, по которым следует так поступить, и социальной перспективы, лежащей в основе такого рассуждения, и представляет собой логически последовательную структуру связанных между собой представлений. Таким образом, эти шесть стадий образуют иерархическую последовательность все более сложных и абстрактных способов морального рассуждения, причем каждая последующая стадия включает в себя логику предыдущей. В последних формулировках этой теории внутри каждой стадии выделяются подстадии нравственной ориентации. Подстадия А ориентируется на установленные властью правила, а подстадия В — на честность и личную ответственность (kohlberg, Candee, 1984). Также, стадия 6 теперь рассматривается как развитие подстадии В стадии 5, а не как отдельная стадия.
Уровень морального рассуждения (или, как еще говорят, моральных суждений) оценивался различными способами. В Интервью моральных суждений (МоralJudgement Intemiew — ЛОГ) испытуемому предлагают гипотетические моральные дилеммы, которые ставят человека перед выбором между действием, санкционированным властью, и действием, оправданным насущными человеческими потребностями. Ответы анализируются с целью выявления рассуждений о таких вопросах, как наказание, личные отношения или совесть, и кодируются в виде доминирующей стадии, или показателей моральной зрелости, связанных с порядком стадий. Если более ранние оценочные процедуры критиковались как субъективные, в настоящее время пользователям доступен стандартизированный метод с удовлетворительными психометрическими свойствами (Colby, kohlberg, 1987). Были также разработаны объективные, самоприменяемые процедуры, которые довольно высоко коррелируют с D(JI (см.: Jennings, kilkenny & kohlberg, 1983), но они основаны на понимании и предпочтении моральных аргументов, а не на спонтанном продуцировании суждений, и не дают идентичных результатов.
Колберг не предлагает ни теории поведения в общем, ни теории делинквентного поведения в частности. Тем не менее он считает моральное рассуждение важнейшим, единым для всех людей, хотя и не единственным фактором, опосредующим нравственное действие. Действительно, люди могут рассуждать с позиций высоконравственных принципов, но при этом не могут жить по ним, и наоборот, просоциальная деятельность не является прерогативой лишь тех, кто способен мыслить высоконравственными категориями. В теории признается, что неморальные факторы, такие как внимание, сила Эго, пробуждение эмпатии или ситуативные факторы, также включены в нравственное действие и что воздействие морального рассуждения на поведение зависит не только от оцененной правильности действия, но и от сознаваемой личной ответственности 0ennings, kilkenny & kohlberg, 1983). Было показано, что моральные решения также являются функцией характеристик задачи и индивидуальной изменчивости предпочитаемых моральных ценностей (kurtines, 1984). Связь между нравственными размышлениями и действием, таким образом, нельзя назвать ни простой, ни прямой (Blasi, 1980).
Отношения между моральным развитием и делинквентностью также сложны. Делинквентность не представляет собой синонима аморального поведения, и нельзя ожидать четкой взаимосвязи между стадией морального развития и статусными правонарушениями или между моральным рассуждением и преступлениями, совершенными при снижении способности к рассуждению. Как отмеча-
6 Зак 364
ет Торнтон (Thornton, 1987а), даже если в рассуждениях, соответствующих высшим стадиям морального развития, значительно реже одобряется криминальный образ жизни, оправдания нарушения закона можно обнаружить на всех стадиях, например, в тех случаях, когда оно не влечет за собой наказания (стадия 1), способствует сохранению отношений (стадия З) или защищает основные права человека (стадия 5). Отсутствие половых различий в моральных суждениях также свидетельствует против наличия прямой связи между моральным рассуждением и делинквентностью. Дженнингс с коллегами (Jennings et al., 1983) обосновывают мнение, что эта связь слишком сложна, чтобы можно было претендовать на какие-либо причинные объяснения, и что в лучшем случае моральное рассуждение можно рассматривать как необходимое, но не достаточное условие. Оно составляет необходимое условие в том смысле, что предконвенциональные стадии ограничивают обязательства подчиняться любым нормам, тогда как постконвенциональное рассуждение отдаляет от делинквентности. И его недостаточно, потому что в делинквентность вносят вклад и другие личные и социальные факторы.
Частично также находит подтверждение предположение о том, что моральная незрелость является следствием ограниченных возможностей для разыгрывания ролей (role-playing) в семьях делинквентных подростков. Более зрелое рассуждение обнаруживается у тех детей, чьи родители поощряют участие в совместных делах и коллективное решение проблем, а также используют в качестве дисциплинирующих средств убеждение (Hoffman, 1971; 01ejnik, 1980). Отсутствие этих условий может быть значимым фактором в моральном развитии делинквентов. Согласно Хадженсу и Прентису (Hudgens, Prentice, 1973), например, матери делинквентов демонстрируют моральные суждения гораздо более низкого уровня, чем матери неделинквентов, хотя эти данные неоднозначны (Jurkovic, 1980). Те делинквенты, которые росли без отца или лица, его заменяющего, вероятнее всего, также будут демонстрировать более низкий уровень морального рассуждения (Тит, Bieliauskas, 1983).
И все же вывод о том, что делинквенты чаще демонстрируют моральные суждения предконвенционального уровня, должен быть ограничен по нескольким осНОВаНИЯМ. Во-первых, он относится только к официально зарегистрированным делинквентам, ибо между стадией морального развития и делинквентностью по данным самоотчетов никакой устойчивой связи обнаружено не было. Эмлер, Хитер и Винтон (Emler, Heather & Winton, 1978), например, установили, что делинквенты демонстрируют менее принципиальные суждения, чем сопоставимые с ними неделинквенты, и получают более высокие показатели делинквентности по данным самоотчетов, но между мерами принципиальности суждений и делинквентности по данным самоотчетов не наблюдается никакой связи. Щимото и Нарди (Tsujimoto, Nardi, 1978) обнаружили, что моральные суждения предсказывали показатели по самооценочной шкале избегания воровства, но не были связаны с более общей шкалой соблюдения норм и правил.
По-видимому, связь между моральным развитием и совершением преступлений также варьируется в зависимости от типа преступлений. Торнтон и Рейд (Thornton, Reid, 1982) обратили внимание на то, что рассуждения на предконвенциональном уровне могли бы оправдать совершение преступлений, при которых личная выгода перевешивает риск наказания (расчетливые преступления), тогда как «нерасчетливые» преступления, возможно, менее связаны с определенной стадией морального развития. Как они и предсказывали, оказалось, что рецидивисты, осужденные за расчетливые преступления (грабеж с насилием или разбой, ночная кража со взломом, кража), чаще демонстрировали предконвенциональное рассуждение, чем контрольная группа или рецидивисты, осужденные за нерасчетливые преступления (нападение, не имевшее целью получение материальной выгоды), которые не отличались от контрольной группы. Сходные различия были обнаружены для расчетливых и нерасчетливых преступников, осужденных за половые преступления (Thornton, 1987а). Ренвик и Эмлер (Renwick, Emler, 1984) также выявили различие в связях между стадией морального рассуждения и делинквентностью по данным самоотчетов среди студентов: стадия 4 имела слабую отрицательную корреляцию, а стадия 5 — слабую положительную корреляцию с делинквентностью. Они объясняют обнаруженное различие тем, что влияния этих стадий смешиваются с влиянием такой переменной, как консерватизм—радикализм.
Несмотря на то что, по-видимому, лишь редкие преступники демонстрируют рассуждения на постконвенциональном уровне, уже то, что многие преступники достигли в развитии моральных суждений конвенционального уровня, заставляет отнестись с сомнением к утверждению, будто более высокий уровень морального развития ограждает от вовлечения в преступную деятельность. В ряде аналитических обзоров высказывается предположение, что преступления, совер•шаемые подростками, достигшими конвенциального уровня рассуждений, больше связаны с давлением ситуационных обстоятельств или с внутриличностными конфликтами, и наркоманы, например, зачастую более зрелы в моральном отношении, чем другие делинквенты 0ennings et al., 1983). Юркович (Jurkovic, 1980) также отмечает, что решения гипотетических нравственных дилемм могут не иметь прямого отношения к тем проблемным ситуациям, в которые попадают делинквенты в реальной действительности, и что выполнение тестовых заданий делинквентами может не соответствовать их уровню компетентности в формировании суждений либо вследствие давления обстоятельств, например «моральной атмосферы» учреждения, либо по причине недостатка других когнитивных навыков.
Комплексные теории
Ни одна из традиционных криминологических теорий не может быть названа 60лее чем умеренно прогнозирующей криминальность или преступные действия, и потому остается надеяться, что объединение в одно целое самых многообещающих частей этих теорий, возможно, даст более мощный теоретический инструмент прогнозирования. Например, Акерс (Akers, 1977, 1990) рассматривает процесс становления девиантной личности с точки зрения подкрепления. В теориях аномии, субкультуры и конфликта выделяются социальные условия, которые де-
Комплексные теории
![]()
терминируют паттерны и режимы подкрепления, а теория контроля определяет исход процесса развития. Теория навешивания ярлыков отражает изменения в дифференцированном подкреплении девиантного поведения в дальнейшей жизни.
Объединение теорий напряжения, контроля и социального научения предлагалось рядом авторов (Elliott, Huizinga & Ageton, 1985). Не соглашаясь с Хирши, они доказывают, что делинквентность требует позитивной мотивации, которая обеспечивается опытом неудач в школе и связями с делинквентными сверстниками (см. главу 7). Эта интеграция представляет собой нечто большее, чем ее отдельные компоненты-теории, поскольку в ней точно определяется последовательный процесс индивидуального развития, зависящий от опыта последовательного воздействия социализацирующих сил. Колвин и Паули (Colvin, Pauly, 1983), однако, возражают на это, что такой анализ пренебрегает макросоциальными структурами, учитываемыми в теориях конфликта и в радикальных теориях. По их мнению, общие системы контроля в более широкой классовой структуре определяют форму и содержание опыта социализации в семье, в школе и в среде сверстников. Так, опыт контролирования со стороны авторитетного лица на работе определяет характер связей человека с Общеустановленным порядком, которые могут быть негативными (отчужденными), промежуточными (расчетливыми) или позитивными (нравственными). В свою очередь, эти контролирующие отношения будут воспроизведены при воспитании детей и будут избирательно подкрепляться в школе учителями и сверстниками с аналогичным опытом социализации.
Учитывая психологические процессы научения, эти
социологические интеграции в то же время находятся в русле традиционного
однонаправленного средового детерминизма и не уделяют внимания индивидуальным
различиям, которые являются основным фактором, например, в работе Уилсона и
Херрнштейна (Wilson, Herrnstein, 1985). Они описывают общую эклектическую
теорию, объединяющую теории оперантного обусловливания и рационального выбора,
но, в добавление к этому, использующую идеи классического обусловливания,
допущения теории справедливости и описание индивидуальных различий по
переменным, предложенным Айзенком и Колбергом. Предметом их теории является
криминальность как склонность совершать «корыстные преступления», но в своем
анализе они сосредоточиваются на преступном действии как результате выбора, при
котором люди сталкиваются с искушением или благоприятной возможностью для
совершения преступления. Общий выигрыш от совершения преступления может ![]() включать
как материальные выгоды, так и психологические последствия, такие как
одобрение, эмоциональное удовлетворение, восстановление справедливости;
проигрыш включает «угрызения совести», осуждение и возмездие. Ценность
несовершения преступления лежит в будущем и включает выгоды избежания законного
наказания, потери социального положения •и чувства стыда. Поэтому важны
индивидуальные различия в способности просчитывать будущие последствия, а эти
различия могут иметь биологические корни. Уилсон и Херрнштейн принимают
представление Аизенка о совести как условном рефлексе, но доказывают, что при
наличии благоприятной или внезапно возникающей возможности результат будет
определяться, скорее, взвешиванием степейи риска, что является функцией
оперантного обусловливания. Импульсивность и нетерпеливость (discounting of
time) делают индивидуумов менее подверженными оперантному научению. Индивидуумы
различаются и по тому, какую ценность они придают
включать
как материальные выгоды, так и психологические последствия, такие как
одобрение, эмоциональное удовлетворение, восстановление справедливости;
проигрыш включает «угрызения совести», осуждение и возмездие. Ценность
несовершения преступления лежит в будущем и включает выгоды избежания законного
наказания, потери социального положения •и чувства стыда. Поэтому важны
индивидуальные различия в способности просчитывать будущие последствия, а эти
различия могут иметь биологические корни. Уилсон и Херрнштейн принимают
представление Аизенка о совести как условном рефлексе, но доказывают, что при
наличии благоприятной или внезапно возникающей возможности результат будет
определяться, скорее, взвешиванием степейи риска, что является функцией
оперантного обусловливания. Импульсивность и нетерпеливость (discounting of
time) делают индивидуумов менее подверженными оперантному научению. Индивидуумы
различаются и по тому, какую ценность они придают
![]()
совершению и несовершению преступления в результате перемены в чувствах, таких как чувства сострадания и справедливости. Однако ценность также является функцией социального контекста, поскольку чем больше совокупные ресурсы подкрепляющих стимулов, тем меньше воздействие небольшого вознаграждения преступления.
Эта теория, как полагают, не противоречит традиционным социологическим теориям, которые, однако, считаются неполными. Теория напряжения делает упор на наличии некоторых подкрепляющих стимулов для несовершения преступления, таких как хорошая работа, но оставляет без внимания другие, такие как санкции; в теориях контроля подчеркивается значение социальных подкрепляющих стимулов, связанных с несовершением преступления, но игнорируются индивидуальные различия временнбй перспективы или импульсивности, которые могут превосходить их; в теориях субкультуры также основное внимание уделяется роли социальных подкрепляющих стимулов, но не учитываются индивидуальные различия в подверженности влиянию девиантных и недевиантных групп.
В качестве психологической модели эта теория потерпела неудачу в своей попытке включить когнитивные промежуточные переменные, такие как предвосхищаемые последствия или оценки справедливости, в некогнитивную оперантную модель. Кроме того, хотя «награда» (reward) и «подкрепитель» (reinforcer) используются как взаимозаменяемые термины, первое слово сохраняет свое общепринятое значение «того, что ценится» и не имеет оперантного значения подкрепителя как любого последствия, усиливающего поведение. Таким образом, виды последствий, которые подкрепляют преступное поведение, оставлены в этой теории без должного внимания (Gibbs, 1985). Однако Гиббс оценивает данную теорию как «вызов» социологической криминологии, и эту точку зрения поддерживают Коэн и Мохалек (Cohen, Mochalek, 1989). Они доказывают, что индивидуум является адекватной единицей наблюдения, а адекватной единицей анализа являются повеДенческие стратегии, выбор которых зависит от эволюции и распределения альтернативных стратегий в пределах популяции. Таким образом, выбор стратегии, которая лишает других людей их ресурсов, зависит как от социальной динамики выборов, принимаемых другими, так и от биологических и психологических различий.
Наиболее эклектичную интеграцию предложил Фарринггон (Farrington, 1990, 1992), который объясняет результаты Кембриджского исследования, основываясь на теории социального научения Траслера и используя положения теорий субкультуры, благоприятных возможностей, контроля, дифференциальной ассоциации, рационального выбора и навешивания ярлыков. Склонность к антисоциальному поведению зависит от ряда личностных факторов, таких как низкое возбуждение, импульсивность, слабая эмпатия, неразвитая совесть, и от интернализованных убеждений и мотивов к получению материальных благ, приобретению статуса среди близких друзей и переживанию возбуждения. Эти убеждения и мотивации усиливаются у детей из семей рабочего класса вследствие классовых пристрастий в пользу близких целей, а относительный недостаток просоциальных убеждений и мотивов является следствием слабого надзора, суровых, несистематических и часто неоправданных наказаний, а также моделирования поведения родителей и сверстников. Дети из рабочего класса также склонны выбирать незаконные или осуждаемые методы реализации этих мотивов из-за больших
Комплексные теории
![]()
проблем с учебой в школе и занятости на непрестижных работах, что в свою очередь является функцией низкого уровня интеллекта вследствие нестимулирующих окружающих условий. Совершение преступления зависит от оценки выгод и затрат, и на него оказывают влияние социальные подкрепляющие стимулы, а также такие личностные характеристики, как импульсивность. Стигматизация может усложнить достижение целей законным путем, в то время как удачное совершение преступления подкрепит криминальные убеждения. Начало криминальной карьеры во многом зависит от бедности, низкого интеллекта и плохого воспитания, а ее продолжение может быть поддержано сверстниками и девиантными членами семьи. Прекращению же может способствовать женитьба, стабильная работа и переезд из криминогенных районов.
В таких эклектических интеграциях разнородных теорий субъект действия трактуется как пассивный объект действия множества разнородных причин, и в них игнорируется принципиальное различие допущений о природе человеческого поведения, положенных в основу объединяемых теорий (Hirschi, Gottfredson, 1988). Например, согласно теориям контроля, люди по своей природе гедонистичны, а теория субкультуры отвергает первенство эгоизма и предполагает, что социальная конформность есть не что иное, как естественный порядок. Аналогично, рационализм Колберга и теории рационального выбора нелегко примирить с иррационализмом Айзенка и Фрейда. Таким образом, комплексные теории, отражающие попытки объединения различных теоретических перспектив, пока не обнаружили преимуществ перед более традиционными теориями, и это произошло, скорее всего, из-за отсутствия ясной и логически непротиворечивой «модели человека».
![]()
ГЛАВА 6
Биологические корреляты антисоциального поведения
Введение
Люди, как известно, имеют биосоциальную природу, являясь одновременно биологическими и социальными существами, но многие криминологи противятся признанию взгляда, что преступность может быть связана с биологическими характеристиками человека. Такая позиция, говорят они, отражает представление о врожденной ущербности преступника, отвлекает внимание от криминогенных социальных условий, а также подспудно содержит возможность радикального контроля преступности при помощи генной инженерии или психохирургии. Таким образом, биологические подходы часто изображаются как имеющие душок методологического индивидуализма, ратующие за медицинское решение социальных проблем и пропитанные идеологией правого политического крыла (Nassi, Abramowitz, 1976; Rose, kamin & Lewontin, 1984).
Такая критика часто опирается на искаженные представления, однако ее нельзя назвать совершенно необоснованной. Те исследователи, которые описывают влияние наследственности на криминальность как «генетическое расстройство» (genetic disorder), не позаботились рассеять подозрения в том, что они уравнивают неподчинение правилам с дефектом или нездоровьем, а некоторые неврологи позволяли себе делать чрезмерные обобщения о роли патологии мозга в антисоциальном поведении на основе редких клинических феноменов. С другой стороны, политические взгляды исследователей-биологов, вероятнее всего, не являются едиными, да и обоснованность научного предположения не может оцениваться тем, кто его придерживается. Более того, только очень немногие поддерживают идею одностороннего биологического детерминизма. На книгу «Преступление как судьба» (Crime as Destiny) (Lange, 1931), первое близнецовое исследование преступности, часто ссылаются как на пример отстаивания позиции, что именно наследственность определяет, кто станет преступником, а кто нет. Однако Лэнг ни о чем таком не говорил, а просто полагал, что «естественные врожденные тенденции и окружающие условия, в которых растет человек, — это главное, это судьба». В наши дни исследователи сходным образом отстаивают позицию биосоциального интеракционизма, с которой «природа» (nature) и «воспитание» (nurture) рассматриваются как взаимозависимые (Rowe, 0sgood, 1984). Например, различия темперамента по уровню активности, социальной реактивности и эмоциональности очевидны практически с рождения и играют важную роль в последующем развитии (Chess, Thomas, 1984), но их эффекты зависят от возможностей проявления этих различий и реакций на них в различном социальном окружении. Таким образом, социализация не является однонаправленным процессом, в котором ребенок выступает абсолютно пассивным реципиентом родительских влияний. Скорее всего, поведение родителей и опекунов частично формируется под воздействием характеристик ребенка (Bell, 1968; Harper, 1975; Bouchard et al., 1990).
Также следует подчеркнуть, что, несмотря на близость к позитивистским теориям, биологические исследования преступности не обязательно должны быть редукционистскими, делающими психологический либо социальный анализ излишним. Существуют разные уровни анализа, требующие использования различных языков, передающих свои собственные контекстно-зависимые значения. Например, действие является «криминальным» только в социальном контексте. Мы можем пытаться перевести с одного языка на другой, что вполне законно, но при этом не забывать об ограниченных возможностях такого перевода (Rose, 1987). Однако, хотя поведение может быть рассмотрено как эмерджентная функция физических систем, которая не может быть описана исключительно в терминах этих систем, мозговая активность обеспечивает каузальные (порождающие) механизмы поведения и налагает ограничения на его форму (Manicas, 1987). Следовательно, биологические процессы могут быть такой же причиной преступности, как и социальные процессы, и отрицать это — значит склоняться к одностороннему социологическому детерминизму.
Генетика и криминальность
Часто говорят, что гены устанавливают границы поведения человека, в то время как среда определяет развитие в рамках этих границах. Такая позиция отражена в попытках ученых, занимающихся генетикой поведения, количественно измерить генетический вклад путем оценки «наследуемости». Однако- это предполатает оценку действия независимых причин, и есть сомнения в том, позволит ли постоянное и взаимозависимое взаимодействие генов со средами обитания осуществить такое разделение (0verton, 1973). Мы не будем здесь затрагивать такие оценки, поскольку гораздо важнее понять, каким образом гены могут повлиять на криминальное поведение, чем оценить то, насколько они могут это сделать.
Однако не существует единственного пути от генотипа к фенотипу. Скарр и Мак-Картни (Scarr, McCartney, 1983) предположили, что генотипы оказывают влияние на фенотипы через комбинацию генов и условий жизни, обеспечиваемых родителями, через дифференциальные реакции других на биологически разнящихся индивидов и через дифференциальный отбор «среды обитания» этими индивидами. Генетические исследования криминальности пытаются установить наследственные влияния на эти комплексные пути, используя различные исследовательские планы, предполагающие изучение семей, близнецов, приемных детей и хромосомных аномалий.
При изучении семьи или родословной сравнивают распространение антисоциального поведения у биологических родственников преступников и непреступников. Практически все исследователи сходятся по крайней мере в том, что дети родителей-преступников чаще встают на криминальный путь (см. главу 7). В Кембриджском исследовании, например, шансы мальчиков, имевших криминальных отцов, стать делинквентами были оценены как вдвое превышающие шансы мальчиков законопослушных отцов (West, 1982). Исследования семей с делинквентнами женского пола тоже свидетельствуют о том, что у них больше социально девиантных родственников, чем у сравнимых с ними лиц женского пола, а также больше выражена семейная патология (familial pathology), чем у лиц мужского пола с антисоциальным поведением, хотя семейные факторы в равной степени важны для развития криминальности у обоих полов (Cloninger et al., 1978). Тем не менее изучение семей не позволяет четко отделить генетические влияния от средовых.
Идентичные, или монозиготные, близнецы (МО имеют идентичный генотип, в то время как у дизиготных близнецов (Щ общих генов половина, как и у других сиблингов. Таким образом, исследования близнецов следуют простой логике: фенотипические различия между однополыми монозиготными и дизиготными близнецами отражают генетические влияния (при допущении одинаковых условий воспитания). Релевантные различия обычно выражаются в виде процента криминальных близнецов, имеющих второго криминального близнеца (парная конкордантность).
Ранние исследования проводились на выборках с предварительным отбором близнецов и в них использовались ненадежные методы определения зиготности (Dalgaard, kringen, 1976). Меньшие коэффициенты конкордантности были получены в более поздних скандинавских исследованиях, в которых были использованы случайные выборки близнецов из государственных реестров учета населения, а зиготность определялась по анализу крови. Кристиансен (Christiansen, 1977b) провел исследование всей популяции близнецов, 3586 пар, из островной части Дании. Среди близнецов мужского пола, ставших впоследствии преступниками, парная конкордантность составила 3596 (МТ) и 13 0/0 (Щ, а среди близнецов женского пола — 21 % (МТ) и 80/0 (Щ. Абсолютная дискордантность, таким образом, является достаточно высокой во всех случаях, что указывает на существенные негенетические эффекты. Однако в аналогичных исследованиях, проведенных в Норвегии, конкордантность среди близнецов мужского пола составила 260/0 (МО и 15 0/0 (Щ (Dalgaad, kringlen, 1976). Это различие статистически незначимо, и авторы заключают, что вклад наследственности в преступность является «несущественным».
И все же во всех исследованиях обнаруживаются различия между MZ и DZ близнецами, причем эти различия носят устойчивый однонаправленный характер. Разнящиеся результаты датских и норвежских исследований остаются необъясненными. Далгаард и Кринглен утверждают, что фенотипическая схожесть MZ близнецов отражает более одинаковое отношение к ним со стороны родителей, и это остается возможным источником смешивания эффектов в исследованиях близнецов, растущих вместе. Однако Скарр и Картер-Зальцман (Scarr, Carter-Salzman, 1979) установили, что, хотя до 4096 родителей и близнецов не придают значения зиготности, сходство между близнецами в паре по показателям психологических тестов в большей мере связано с фактической, чем с субъективно воспринимаемой зиготностью. Таким образом, больший опыт средового сходства у MZ близнецов может быть эффектом их генетического сходства.
Если дети, вскоре после рождения взятые на воспитание в другие семьи, обнаруживают большее сходство со своими биологическими родителями, чем с приемными, это становится сильным презюмируемым [12] доказательством генетического влияния. В исследованиях криминальности приемных детей используются два основных экспериментальных плана. Первый предполагает выявление родителей-преступников, отказавшихся от своих детей в пользу усыновления, и сравнение их детей с приемными детьми от биологических родителей, не привлекавшихся к уголовной ответственности. Кроув (Crowe, 1972) обнаружил, что 8 из 52 приемных детей (пробандов) от лишенных свободы преступниц имели досье арестов (arrest record), по сравнению всего лишь с 2 приемными детьми из равной по количеству (52 человека) контрольной группы, причем 19 и 8 соответственно арестовывались за нарушение правил дорожного движения. Шесть пробандов (и ни одного из контрольной группы) также отвечали критериям асоциальной личности. Кадорет (Cadoret, 1978) установил, что 4 из 18 приемных детей, биологические родители которых имели диагноз антисоциального расстройства личности, получили тот же диагноз, в то время как из контрольной группы приемных детей числом в 25 человек такой диагноз не получил никто.
В другом датском исследовании изучалась криминальность 14 427 приемных детей, среди которых 981 мужчина и 212 женщин имели одну или более судимостей (Mednick, Cabrielli & Hutchings, 1984). Если и биологические и приемные родители (отец или мать) были преступниками, то 24,5 0/0 сыновей также становились преступниками в сравнении с 20 0/0, когда преступником был только биологический родитель, 14,7 0/0, когда только кто-то из приемных родителей был преступником, и 13,5 0/0, когда ни один из родителей не был преступником. Обнаруженный эффект статистически значим для биологических родителей и незначим для приемных. Хотя имела место положительная корреляция между рецидивизмом биологических родителей и сыновей, она была значимой для имущественных и незначимой для насильственных преступлений, что согласуется с результатами исследований Бомана (Bohman et al., 1982). Тем не менее число преступлений оказалось более важным, чем тип преступления, совершенного биологическими родителями, свидетельствуя о передаче скорее общей, чем специфической предрасположенности.
Согласно этим исследованиям, только малая часть приемных детей от криминальных родителей становятся преступниками, что подразумевает довольно скромный генетический вклад в преступность, если учесть к тому же влияния определенной среды. Однако влияния, предшествующие усыновлению, включают и перинатальные осложнения, обусловленные жизненными условиями матери.
Стоп (Stott, 1982) отмечает, что стресс во время беременности, плохая гигиена беременных и преждевременные роды повышают риск возникновения у ребенка физических недостатков, задержек развития и нарушений поведения. Такие стрессы в первую очередь встречаются в группах с низким доходом, из которых чаще всего происходят матери-преступницы незаконнорожденных детей, и Стотт предполагает, что это само по себе может объяснять связь между криминальным поведением приемных детей и биологических родителей. Эта возможность заслуживает доверия, если обратиться к результатам наблюдений Медника с коллегами (Mednick et al., 1984), согласно которым больший эффект наблюдается в том случае, когда из двух биологических родителей преступником является мать, а не отец.
Хромосомные аномалии
Отклонения от нормального набора хромосом (23 пары) обычно обусловлены ошибками в делении клеток и представляют собой генетические факторы, которые являются врожденными, а не унаследованными. Эти редко встречающиеся аномалии, определяемые по внешнему виду хромосомного набора (кариотипа), оказались сцепленными с нарушениями поведения, причем особый интерес представляют специфические наборы половых хромосом, которые отклоняются от типичных конфигураций 46 ХУ у мужчин и 46 ХХ у женщин. Большинство исследований сосредоточиваются на изучении мужчин с кариотипом 47 ХУУ (синдром дополнительной У-хромосомы) или с конфигурацией 47 ХХУ (синдром Клайнфелтера).
Кариотип ХХУ долгое время считался наиболее распространенным среди умственно отсталых, но исследования, проведенные в 1960-е гг., также показывают повышенную встречаемость мужчин с кариотипом ХУУ среди заключенных и среди преступников с психическими расстройствами. Например, Прайс с коллегами (Price et al., 1966) выявили 9 мужчин с кариотипом ХУУ среди 315 пациентов государственной больницы в Шотландии, специализированной больницы для преступников с нарушенной психикой, и ни одного в случайных выборках населения. Большинство из них характеризовались ростом выше среднего, умственной отсталостью и, по мнению авторов исследования, проявлениями расстройств личности. Однако в дальнейших сравнениях с пациентами контрольной группы был выявлен одинаковый уровень интеллекта и лишь незначительные различия
иг
![]()
в показателях личностных тестов (Норе, Philip & Loughran, 1967). Последующие исследования подтвердили более высокую распространенность ХУУ кариотипа среди популяций заключенных с антисоциальным поведением, в особенности среди преступников с 'психическими расстройствами, но также показали, что частота встречаемости этого кариотипа в общей популяции составляет около 0,1 0/0 0arvik, klodin & Matsuyama, 1973; Shah, Roth, 1974).
Первоначальные исследования предпринимались с целью проиллюстрировать генетическую детерминацию криминального поведения и к тому же интерпретировались с точки зрения того, какой вклад в преступность может вносить нормальная У-хромосома. Предполагалось, что половое различие в преступности отражает маскулинные черты, обусловленные У-хромосомой: обладание избыточной У-хромосомой усиливает маскулинность и делает заметной связь между природой мужского пола (maleness) и насилием (Jarvik, klodin & Matsuyama, 1973). Однако обладание дополнительной Х-хромосомоЙ также коррелирует с криминальностью, к тому же характеристики мужчин с ХУУ набором обычно выводились из данных, полученных при изучении малых выборок в тюрьмах и больницах (0wen, 1972). В исследовании, избежавшем использования смещенных выборок, Виткин с коллегами (Witkin et al., 1976) определили кариотипы у 90 0/0 из 4591 мужчины, которые родились в Копенгагене в период с 1944 по 1947 г. и имели рост, превышающий 184 см. Среди мужчин были обнаружены 12 человек с кариотипом ХУУ и 16 человек с кариотипом ХХУ. Хотя 41,7 % мужчин с кариотипом ХУУ, 18,8 0/0 с кариотипом ХХУ и 9,396 остальных обследованных мужчин имели судимости, подтверждая таким образом связь добавочной У-хромосомы с криминальностью, совершенные представителями первых двух групп преступления квалифицировались в основном как мелкие и ненасильственные. Поскольку мужчины из обеих групп (ХУУ и ХХУ) имели к тому же сниженный интеллект, а мужчины с кариотипом ХУУ в дополнение к этому еще и отклоняющуюся от нормы ЭЭГ, авторы предполагают, что хромосомная аномалия вносит неспецифический вклад в криминальность через посредство генетической дезорганизации и нарушения развития. Дальнейшее исследование этой выборки показало, что хотя мужчины с кариотипом ХУУ имеют повышенный уровень тестостерона в плазме, это не опосредует их криминальное поведение (Schiavi et al., 1984).
Внимание было уделено также длине У-хромосомы у мужчин с типичной конфигурацией 46 ХУ. В некоторых исследованиях предполагалось, что преступники обладают более длинной У-хромосомой. Кан с коллегами (kahn et al., 1976) пришли к заключению, что хотя по длине У-хромосомы не удается дифференцировать подростков, отбывающих срок в колонии, и заводских рабочих, у испытуемых с более длинной У-хромосомой, входящих в контрольную группу, все же чаще можно обнаружить судимость в прошлом. Однако эти post hoc данные не позволяют сделать окончательных выводов, а другие исследования демонстрируют разнородные результаты. Дорус отмечает (Dorus, 1978), что хотя нам и известны локусы на У-хромосоме, которые контролируют развитие яичек, сперматогенез и телосложение, вклад У-хромосомы в поведение может быть незначительным. Поскольку оказалось невозможным подтвердить ранние гипотезы о том, что конфигурация ХУУ формирует антисоциального «супермужчину», в последнее время наблюдается спад интереса к этому редкому феномену.
![]()
Конституциональные исследования
Попытки связать девиантные психологические характеристики с явными физическими характеристиками часто вызывают насмешки, поскольку ассоциируются с френологией и физиогномикой, которые оказали влияние на «криминальную антропологию» Ломброзо. Идея Ломброзо о том, что преступники представляют собой генетически примитивные и низшие виды, основывалась на высокой частоте физических аномалий, например черепа, ушей или лица, у содержащихся в тюрьмах преступников, которые он обнаруживал при патологоанатомических и антропометрических измерениях. Его наблюдения критиковались как статистически несостоятельные, однако более современные исследования тем не менее доказывают наличие корреляции между внешним обликом (physical арреатпсе) и антисоциальным поведением. Например, Энью (Agnew, 1984) говорит о более высоком уровне делинквентности по данным самоотчетов среди школьников, оцененных как непривлекательные по общему виду. Булл (Вии, 1982) также продемонстрировал, что стереотипы криминальных «типов», которые распространены среди полицейских и широкой публики, приобретают некоторую мотивированность на основе оцениваемой внешности задержанных преступников. Тем не менее эта связь может отражать самоисполняющееся пророчество в том смысле, что внешне непривлекательные люди оцениваются другими негативно и соответственно реагируют на эту оценку.
Исследования телосложения, или соматотипа, следуют европейской традиции в своих попытках связать телосложение с темпераментом и психиатрическими болезнями (psychiatric disorder). Шелдон (Sheldon, 1949) [13] оценивал соматотип на основе трех имеющих эмбриологическое происхождение понятий: энДоморфии (большое количество жира, округлые формы), мезоморфии (мускулистость, широкая грудная клетка и плечи и узкие бедра) и эктоморфии (долговязость). Предполагалось, что эти компоненты телосложения соответствуют трем компонентами темперамента: висцеротонии (расслабленность в осанке и движениях, любовь к комфорту), соматотонии (уверенность в осанке и движениях, энергичность, любовь к приключениям) и церебротонии (скованность в осанке и заторможенность в движениях, склонность к уединению). Оценивая три компонента соматотипа — эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный — по фотографиям 200 студентов колледжа с использованием равноинтервальной шкалы от 1 до 7 (от наименьшей до наибольшей выраженности компонента), Шелдон вычислил средние оценки этих компонентов, которые составили 3,2, 3,8 и 3,6 соответственно (со стандартными отклонениями 1,3 для каждого компонента). Сопоставимый соматотип, рассчитанный на выборке 200 делинквентов мужского пола, имел вид 3,5—4,6—2,7. Таким образом, у делинквентов оказался значимо более выраженным мезоморфный компонент и менее выраженным — эктоморфный. Шелдон также разделил делинквентов на несколько типов по критерию анормальности, или «доставляемых неприятностей» («disappointingness») (например, умственно недостаточный, криминальный, нормальный). Криминальная группа имела наиболее отличающийся от статистической нормы соматотип 3,4—5,7—1,8. Хартл, Моннелли
Конституциональные
![]()
и Элдеркин (Hartl, Monnelly & Elderkin, 1982) описывают 30-летнее последукощее наблюдение делинквентов Шелдона. Используя аналогичную классификацию, они установили, что наиболее серьезные взрослые преступники имели соматотип 3,5—5,0—2,3. Отличаясь от «нормальной» группы более выраженным мезоморфным компонентом, они также имели более высокие оценки по андроморфии — показателю маскулинности вторичных половых признаков.
Исследование Шелдона критиковалось Сазерлендом (Sutherland, 1951), а также Кортесом и Гатти (Cort& Gatti, 1972) за подобранность его «делинквентов», за ненадежность процедуры соматотипирования и за произвольность выделения типов делинквентов. Его «преступники» фактически выделялись скорее по отсутствию других форм «доставляемых неприятностей», чем на основе досье делинквентности как единственно объективного критерия. После повторной классификации людей на основе юридического критерия делинквентности, Сазерленд заключйл, что большинство делинквентов не отличается по соматотипу от неделинквентов. Однако Кортес и Гатти (Cortes, Gatti, 1972) показали, что в этом повторном анализе были не замечены значимые связи между делинквентностью и мезоморфией. В их собственном исследовании 100 делинквентов, помещенных в исправительное учреждение, они нашли, что 570/0 из них были мезоморфными и 160/0 эктоморфными, по сравнению с 19 и 33 0/0 в контрольной группе. Гиббенс (Gibbens,- 1963) также обнаружил, что эндоморфная мезоморфия преобладала в выборке из 56 английских подростков, отбывающих срок в колонии, а Эппс и Парнелл (Epps, Parnell, 1952) установили, что делинквентные девушки были более мускулистыми, низкорослыми и тяжеловесными, чем студентки. Однако Мак-Кандлес, Персонс и Робертс (McCandless, Persons & Roberts, 1972) не нашли никакой связи между мезоморфией и официально зарегистрированной делинквентностью или делинквентностью по данным самоотчетов среди заключенных мужского пола; в Кембриджском исследовании также не было наидено никаких отличий в телосложении делинквентов (West, 1982).
Ни одно из этих исследований нельзя назвать свободным от методологических проблем, таких как надежность соматотипирования или сомнительная репрезентативность либо делинквентной, либо контрольной выборок, и Айзенк с Гудджонсоном (Eysenck, Gudjonsson, 1989) считают, что соматотип правильнее оценивать на основе длины тела и мощности телосложения (width of body built). Тем не менее, согласно имеющимся данным, делинквенты, по-видимому, все же имеют более мускулистое и менее хрупкое телосложение. Однако мезоморфия не является ни необходимым, ни достаточным условием делинквентности, и значение этой связи остается неясным. Она может быть опосредована сопутствующими факторами темперамента, такими как настойчивость или уровень активности, поскольку Кортес и Гатти (Cortbs, Gatti, 1972) установили, что мезоморфы описывают себя как существенно более активных, доминирующих и агрессивных, а эктоморфы — как необщительных, скрытных и склонных к уединению, что согласуется с гипотезами Шелдона. Сочетание мезоморфии и андроморфии может также отражать более высокий уровень тестостерона и повышенную агрессивность. (Hartl, Monnelly & Elderkin, 1982). В качестве альтернативы, делинквентные группы сверстников могут дифференцированно подкреплять мощное, плотное телосложение и буйный нрав, а представители системы уголовного правосудия могут реагировать более негативно на грубую внешность.
![]()
Психофизиологические и биохимические исследования
Весьма вероятно, что генетические эффекты должны проявляться в стабильных свойствах нервной системы, и потому корреляты криминальности пытались отыскать, идя по пути периферической регистрации активности коры головного мозга и автономной нервной системы или проведения биохимических анализов. Ранние исследования носили описательный характер и не опирались на теорию, но с 1960-х гг. подобные исследования получили теоретическое обоснования благодаря теориям Айзенка, Траслера и Грея (см. главу 5), которые связывают функционирование нервной системы с личностью, мотивацией, научением, а в последнее время и с обработкой информации. Физиологические механизмы, опосредующие агрессию, поиск стимуляции, научение пассивному избеганию, споробность к образованию условных связей и эмоциональную реактивность (emotional responsiveness), обеспечили спектр основных возможных связей с антисоциальными наклонностями, и потому исследования сосредоточиваются главным образом на психопатической личности. Однако следует заметить, что подобные исследования являются преимущественно корреляционными и что психофизиологические вариации часто могут быть следствием как устойчивых физиологических различий, так и психологических реакций на экспериментальные условия. Реакции автономной нервной системы на «стрессоры», например, могут в большей степени зависеть от когнитивной оценки индивидуумом событий как стрессовых, чем от собственных (врожденных или унаследованных) свойств его автономной нервной системы. Кроме того, физиологические различия между людьми, по всей видимости, отражают как генетические влияния, так и адаптацию к жизни в различных внешних условиях.
ЭЭГ (электроэнцефалограмма), регистрируемая с помощью отводящих электродов, накладываемых на определенные участки кожного покрова черепа, представляет собой крлебательный сигнал сложной формы, образованный множеством ритмов и переходных изменений, который отображает уровень активности нейронных групп коры головного мозга. Ее компоненты обычно описываются на основе амплитудных и частотных характеристик; ритмы условно делят на четыре частотных диапазона дельта- (0,5—3 Гц), тета- (4—7 Гц), альфа- (8—13 Гц) и бетаактивности (14—30 Гц). Клинический интерес в основном вызывают аномалии формы волны в периоды покоя или стимуляции, хотя представление о «анормальности» достаточно произвольно. Она включает необычные очаговые спайковые разряды, но преимущественно относится к диффузной медленно-волновой активности или эксцессам тета-активности в центральной или задней височной областях. Эти отклонения интерпретируются по-разному: либо как отражающие задержку развития или патологию ядер лимбической системы, участвующих в ре1улировании эмоциональной экспрессии, либо как функция уровня кортикального возбуждения, ибо переход от состояния релаксации к состоянию активного бодрствования обычно сопровождается уменьшением амплитуды и повышением частоты альфа-ритма. Однако их функциональное значение остается неясным, так как они не всегда совпадают со структурными аномалиями в глубоких участ-
ках головного мозга. Более того, они обнаруживаются примерно у 15 0/0 нормальных взрослых и более чем у четверти маленьких детей, и притом базисные амплитудные и частотные характеристики электрической активности головного мозга в значительной степени детерминированы генетически (Bounchard et al., 1990). Таким образом, то, что описывается как аномалии, может представлять собой количественные, а не качественные отклонения от нормальности.
ЭЭГ-корреляты нарушений поведения изучались достаточно широко, и, согласно имеющимся данным, аномалии часто встречаются в агрессивных и психопатических выборках. Так, в своем раннем исследовании участвовавших в боевых действиях солдат, которые были направлены на психиатрическое лечение, Хилл и Ваттерсон (Hill, Watterson, 1942) выявили аномалии ЭЭГ у 6596 агрессивных психопатов, 3296 неадекватных психопатов, 260/0 невротиков и у 1594 здоровых мужчин из контрольной группы. Тем не менее соответствующая литература изобилует противоречивыми результатами исследований, которые часто подпорчены ненадежностью анализа ЭЭГ и классификации испытуемых, пристрастиями экспериментаторов и неадекватным контролем таких переменных, как возраст или условия записи ЭЭГ (Gale, 1976). Некоторые данные могут объясняться врёменными ситуативными эффектами, так как медленно-волновая активность в альфа- или тета-диапазоне увеличивается вместе с ощущением скуки и дремоты при монотонных условиях. Жендро с коллегами (Gendreau et al., 1972), например, указывают на то, что содержание заключенных в одиночных камерах имеет следствием замедление волн ЭЭГ.
Хотя доказательства аномалий ЭЭГ у склонных к насилию взрослых и гиперактивных детей выглядят несколько убедительнее, они тоже далеко не однозначны (Gale, 1976). По данным Вильямса (Williams, 1969), из 206 преступников, привычно совершающих акты агрессии, 65 0/0 обнаружили ненормальные отклонения ЭЭГ, тогда как из 127 преступников, совершивших единичные акты агрессии, только 24 0/0 обнаружили такие отклонения. В противоположность этому, Блэкборн (Blackburn, 1975b) не нашел различий в амплитуде альфа- или тета-ритма между привычно ведущими себя агрессивно преступниками с психическими расстройствами и относительно неагрессивными пациентами. По-видимому, аномалии ЭЭГ чаще будут наблюдаться у агрессивных преступников, имеющих отклонения и в других аспектах личности.
Смешанные данные были получены также на не отбираемых предварительно выборках преступников и делинквентов, находящихся в тюрьмах и исправительных учреждениях. В проспективном исследовании датских мальчиков Медник с коллегами (Mednick et al., 1981) соотнесли записи ЭЭГ, полученные, когда испытуемым было 10—13 лет, ст историей их делинквентности шестью годами позже. Мальчики, которые арестовывались два или более раз, демонстрировали значимо более медленную альфа-активность в ранних ЭЭГ, чем неделинквенты. Эти результаты были воспроизведены в двенадцатилетнем последующем наблюдении на шведской выборке (Peterson et al., 1982). Делинквенты в этих исследованиях оказались преимущественно лицами, совершавшими имущественные преступления, свидетельствуя таким образом, что отклонения ЭЭГ от нормы не специфичны для лиц, совершающих насильственные преступления. Однако они не специфичны и для преступников, и Хсу с коллегами (Hsu et al., 1985) выявили одинаковые аномалии у четверти делинквентов и пациентов подростковых психиатрических клиник. Высокая амплитуда и медленные волны ЭЭГ, таким образом, могут быть связаны с повышенным риском возникновения социальных проблем вообще, а не только антисоциального поведения в частности.
В нескольких исследованиях психопатии производилась регистрация условного отрицательного колебания (СМ), или «волны ожидания» (Е-волны)[15], вызываемого в эксперименте на время реакции с предварительным сигналом, но результаты оказались противоречивыми. Мак-Каллум (McCallum, 1973) зафиксировал у психопатов меньшую амплитуду CNV в период от подачи предваряющего условного сигнала до сигнала к действию (нажать на кнопку), но это не нашло подтверждения в исследовании Синдалко (Syndulko et al., 1975), а Фентон с коллегами (Fenton et al., 1978) зарегистрировали более высокую амплитуду CNVy психопатических преступников по сравнению с непсихопатическими преступниками, однако она не превышала амплитуду CNV в контрольной группе. В противоположность этому, Райне и Венаблес (Raine, Venables, 1987) не нашли никакой связи между амплитудой СЛЛ/\и социализацией у школьников. Эти противоречия, по-видимому, отражают использование как разных критериев психопатии, так и различающихся инструкций выполнения экспериментальной задачи. Говард, Фентон и Фенвик (Howard, Fenton & Fenwick, 1984) показали, что в задаче с простым нажатием на кнопку более высокая амплитуда CNV коррелировала с общительностью (sociability), отличающей первичных психопатов. Испытуемыми в более ранних исследованиях Мак-Каллума и Синдалко, по-видимому, были преимущественно вторичные психопаты. Однако, хотя низкая амплитуда CNV, как было установлено, характеризует импульсивных преступников и непреступников в том случае, когда реакция устраняет белый шум, этот результат варьирует в зависимости от места измерения (Brown, Fenwick & Howard, 1989). Таким образом, к настоящему времени исследования не принесли результатов, позволяющих сделать четкие выводы в отношении психофизиологии психопатии.
Тем не менее Ньюман, Видом и Натан (Newman, Widom & Nathan, 1985) попытались доказать, что дефицит пассивного избегания у психопатов ограничивается ситуациями, в которых имеются конкурирующие сигналы (cues) вознаграждения и наказания. Согласно их предположению, психопаты чрезмерно сосредоточиваются на вознаграждении, что мешает им направить внимание на сигналы возможного наказания. Предпочитая аттенционные объяснения мотивационным, они утверждают, что именно неспособность изменить доминирующую направленность реакции имеет следствием недостаточное избегание наказания. В задаче последовательного различения по типу «годен—не годен», в которой одна и та же реакция могла вознаграждаться вторичными подкрепителями или наказываться их лишением, психопатические делинквенты (Newman, Widom & Nathan, 1985) и взрослые преступники (Newman, kosson, 1986) показали ббльшую дефицитарность пассивного избегания, чем непсихопаты. Однако при отсутствии конкурирующих целей психопаты и непсихопаты научались тормозить наказуемые реакции одинаково хорошо. Эта картина имеет сходство с эффектами разрушения септальной области головного мозга (перегородки) у крыс и интерпретируется
как согласующаяся с низкоактивной системой торможения поведения (BIS) у психопатов. Впрочем, поскольку полученные результаты не доказывают нечувствительности к сигналам наказания, они, кажется, больше согласуются с предположением о сверхактивной системе активации поведения (BAS).
Тем не менее исследования реакций психопатов в виде изменений ЭДА и ЧСС, предшествующих вредящей (noxious) стимуляции, подтверждают наличие у них дефицитарности в антиципации наказания. Например, при предупреждении, что удар током будет следовать за определенным стимулом в серии, психопаты демонстрировали меньшее антиципаторное возбуждение ЭДА (ED arousal), чем непсихопаты (Hare, 1965). Однако, хотя в ранних работах также обнаружено 60лее слабое обусловливание ЭДА у психопатов, исследование Хэйра и Куинна (Hare, Quinn, 1971), в котором применялись вредящие и приятные безусловные раздражители и регистрировались изменения как ЭДА, так и ЧСС, было продемонстрировано, что их дефицитарная способность к образованию условных связей ограничивается антиципаторными реакциями на вредящие раздражители и системой ЭДА. Эти данные противоречат гипотезе Айзенка о генерализованном, распространяющемся на все случаи дефиците способности к образованию условных связей у психопатов, но согласуются с дефицитарностью BIS, проявляющейся главным образом в электродермальной гипореактивности.
Мы не располагаем непротиворечивыми доказательствами того, что психопатам в общем свойственна гипореактивность в ориентировочных реакциях (ОР) на простые, неаверсивные раздражители, но она наблюдалась у вторичных психопатов (Blackburn, 1979b) и у шизоидных преступников (Raine, 1986). В некоторых исследованиях, однако, сообщается, что психопаты различаются по скорости габитуации ОР, которая в известной мере независима от реактивности автономной нервной системы, или способности к образованию условных связей, и связана с высшим уровнем кортикальной деятельности. Хэйр (Нате, 1968) установил, что психопаты демонстрировали замедленное привыкание в сердечных ОР на звуковой тон, но не обнаруживали этой тенденции в кожно-электрических ОР; он связывает эту диссоциацию с сонливостью (drovsiness) и низким кортикальным возбуждением. Блэкборн (Blackburn, 1979b) также наблюдал это разобщение автономной и кортикальной активности, когда испытуемые впадали в полусон, но быстрая кожно-электрическая и замедленная сердечная габитуация отличали вторичных психопатов.
Связанное явление — неспецифические флуктуации (НСФ) в записях ЭДА, появляющиеся при недостаточной стимуляции испытуемых, что связано с вигильностью и распределением ресурсов внимания. Меньшие величины НСФ были обнаружены у вторичных психопатов (Blackburn, 1979b) и у преступников с низкими показателями по шкале социализации (So) (Schalling et al., 1973). Скэллинг (Schalling, 1978) указывает на то, что НСФ связаны с уровнем кортикального возбуждения через главный возбуждающий канал ствола головного мозга, и высказывает предположение, что малые НСФ отражают слабую яркость внутренних образов, а также дефицитарность принятия роли и эмпатии. Это предположение находит подтверждение в обнаруженной у вторичных психопатов-делинквентов слабой яркости внутренних образов, которая к тому же коррелирует с низкими показателями по шкале So (Blackburn, 1980а).
Еще одна вызывающая интерес переменная ЭДА — это время восстановления реакции. Согласно Меднику (Mednick, 1975), медленное восстановление вегетативной (автономной) активности может служить причиной невозможности подкрепления реакций пассивного избегания путем снижения страха и оно характерно для антисоциальных личностей. Сиддл с коллегами (Siddle et al., 1976) установили, что делинквенты с чрезвычайно выраженным антисоциальным поведением демонстрируют более медленное восстановление кожно-электрических реакций и что медленное восстановление также связано с низкими показателями по шкале So у преступников (Levander et al., 1980) Однако функциональное значение времени восстановления ЭДА остается неясным.
Проведенные к настоящему времени' исследования предоставляют нам лишь ограниченные доказательства наличия у преступников в общем и у психопатов в частности характерных психофизиологических особенностей. Наиболее согласующийся результат состоит в том, что психопаты демонстрируют кожно-электрическую гипореактивность при антиципации или актуальном переживании аверсивной стимуляции. Хотя это вроде бы говорит о низкоактивной BIS, психопаты демонстрируют недостаточное пассивное избегание только в ограниченном круге ситуаций и, следовательно, не являются вообще нечувствительными к сигналам наказания. К тому же, хотя среди молодых делинквентов, по-видимому, чаще встречаются «понижатели», психопаты не обнаруживают тенденции ослаблять сенсорный вход в общем, как и не отличаются более низким возбуждением. Моусон и Моусон (Mawson, Mawson, 1977) предположили, что расхождения в эмпирических данных могут отражать тенденцию психопатов совершать маятникообразные колебания от состояния низкого возбуждения и низкой реактивности к состоянию высокого возбуждения и высокой реактивности, однако на наш взгляд более вероятной причиной является неоднородность преступников, идентифицируемых как «психопаты». Например, есть некоторое подтверждение тому, что низкое возбуждение и низкая реактивность могут быть характерны для вторичных психопатов, которые являются социально тревожными или шизоидными. Это поднимает вопросы о роли возбуждения страха или тревоги в антисоциальном поведении, так как эта группа отличается более высокими уровнями склонности к тревоге и потому, можно ожидать, имеет сверхактивную BIS. По мнению Фаулза (Fowles, 1988), однако, шизоидный уход в себя отражает дефицитарность мотивации к сближению и завязыванию контактов (approach motivation), что является следствием низкоактивной BAS.
Решающую роль в половой дифференциации плода и в появлении вторичных половых признаков в пубертатном периоде играют андрогены, и потому уровень тестостерона всегда считался возможным фактором объяснения универсальной корреляции криминального поведения с тендером и возрастом, а также и большей агрессивности лиц мужского пола. Например, по мнению Эллиса (Ellis, 1987), избыточная секреция андрогенов может повышать вероятность антисоциального поведения вследствие понижения уровня возбуждения (arousal). Гудман (Goodтап, 1976) попытался установить связь женского антисоциального поведения с избыточной секрецией мужских гормонов. Из выборки объемом 400 человек он выделил семь делинквентов женского пола, отличавшихся агрессивным поведением и гиперсексуальностью, и обнаружил, что шесть из них подверглись воздействию вирилизирующих [16] гормонов в период внутриутробного развития или в раннем детстве.
Тем не менее выводы относительно личностных коррелятов уровня тестостерона достаточно противоречивы. Перски, Смит и Базу (Persky, Smith & Basu, 1971) установили, что и интенсивность продуцирования, и уровень тестостерона положительно коррелировали с оценками по шкалам Инвентаря враждебности Басса—Дарки у младших, но не у старших неправонарушителей, однако в нескольких последующих исследованиях эти результаты воспроизвести не удалось. Например, Олвеус с коллегами (01weus et al., 1980) обнаружили связь уровня тестостерона с реакцией на провокацию по данным самоотчетов подростков мужского пола, однако не выявили никаких связей с оцениваемой агрессией, антисоциальным поведением, телосложением, показателями Личностного опросника Айзенка (EPQ) или шкалы социализации So. В другом же исследовании (Daitzman, Zuckerman, 1980) уровень тестостерона коррелировал с поиском ощущений, экстраверсией по EPQ, а также с низкой степенью нейротизма и социализации.
Однако тестостерон может оказывать непрямое воздействие на поведение через изменение активности нейротрансмиттеров. Он тормозит активность фермента моноаминоксиДазы (МАО), которая разрушает некоторые нейротрансмиттеры: и это дает возможность моноаминам, таким как норадреналин, накапливаться в избыточном количестве в головном мозге. Активность МАО кровяных пластинок (тромбоцитов) у мужчин ниже, чем у женщин, и более низкая активность МАО связывается с переменными «расторможенного» темперамента, такими как импульсивность, поиск ощущений и недостаточная социализация (Zuckerman, 1984; Schalling et al., 1987). Низкая активность МАО также коррелирует с низкой концентрацией метаболита серотонина, 5-гиДроксиинДолилоуксусной кислоты (5-HIAA) в спинномозговой жидкости, а Вирккунен, Дейонг и Братко (VirkКипеп, Dejong & Bratko, 1989) обнаружили существенно более низкий уровень 5-HIAA у импульсивных преступников и рецидивистов. Уровень 5-HIAA также понижен у суицидальных пациентов и у пациентов, у которых наблюдались нарушения поведения и проявления агрессии, но не заранее обдуманные насильственные действия. Поэтому Коккаро (Coccaro, 1989) высказывает предположение о связи пониженного содержания серотонина в ЦНС с более низкими порогами «импульсивной агрессии».
Преступные действия иногда совершаются в состояниях гипогликемии, которые связаны с повышенной секрецией инсулина. Гипокликемия (уменьшенное, ниже нормального содержание сахара в крови) может быть вызвана голоданием, потреблением пищи, насыщенной углеводами, и в частности приемом большой дозы алкоголя; последствия включают нарушение функционирования головного мозга, которое проявляется в резком ослаблении концентрации внимания и в раздражительности. Пристрастие к определенному пищевому рациону, как предполатается, может иметь значение для возникновения антисоциального поведения, и есть некоторые непроверенные данные, согласно которым пониженное потребление сахара уменьшает количество нарушений дисциплины у институционализированных делинквентов (Schoenthaler, 1983). Исследования также указывают на связь насилия с дисфункцией метаболизма глюкозы. Подверженность человека гипогликемии может быть оценена по падению содержания сахара в крови вслед за приемом внутрь (через рот) глюкозы на голодный желудок (проба с сахарной нагрузкой). Было установлено (Yaryura-Tobias, Neziroglu, 1975), что агрессивное поведение у пациентов психиатрических больниц связано с дисфункцией метаболизма глюкозы и аномалиями ЭЭГ. Вирккунен (Virkkunen, 1988) также сообщает о более медленном восстановлении нормального состояния после гипогликемии у взрослых преступников с привычным насильственным поведением. Он также зарегистрировал более выраженное снижение уровня холестерина после голодания у убийц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, и отмечает, что совершению преступных деяний во многих случаях предшествовало длительное употребление алкогольных напитков без закуски, не говоря уже о нормальном питании. По его мнению, такие люди особенно чувствительны к повышенной секреции инсулина при таких обстоятельствах. Однако остается неясным, как гормональные изменения «запускают» акт насилия, и хотя предрасположенность к гипогликемии может отражать в некоторых случаях эндокринную патологию, она варьируется в пределах общей популяции. Например, реактивная гипогликемия коррелирует с агрессивностью студентов по данным самоотчетов (Benton, Китай & Brain, 1982).
![]()
МАО. Низкое кортикальное возбуждение, пониженная ЧСС, предрасположенность к гипогликемии и сниженная выработка адреналина — параметры, которые по данным некоторых исследований характеризуют лиц с более выраженным антисоциальным поведением, хорошо согласуются с ваго-инсулиновой (vago-insulin) доминантностью, или парасимпатическим балансом. Однако такая интерпретация сталкивается с серьезной трудностью, ибо эти параметры более выражены у делинквентов, совершающих ненасильственные правонарушения, тогда как гипогликемия связывается с проявлениями насилия.
Повреждение головного мозга может быть результатом перинатальных осложнений, черепно-мозговых травм, опухолей, инфекций или воздействия токсических веществ, таких как атмосферный свинец, но эти факторы не приводят неизбежно к структурным нарушениям. Как отмечает Раттер (Rutter, 1982), повреждение головного мозга должно быть тяжелым, чтобы вызвать существенные психические нарушения, и несоциализированное поведение необязательно является его следствием. Например, Вирккунен, Нуутия и Хууско (Vikkunen, Nuutia & Huusko, 1976) установили, что из 507 ветеранов, перенесших ранение в голову, менее 696 получили тюремный срок за уголовное преступление в течение 30 лет после ранения. За исключением инсульта, патологию мозга сложно обнаружить. Большинство исследований полагается на косвенные признаки, такие как анамнез, «умеренные» неврологические симптомы, записи ЭЭГ или результаты нейропсихологических тестов, однако все эти признаки указывают на Дисфункцию мозга, но необязательно на повреждение тканей.
Даже если твердо устанавливается корреляция между повреждением головного мозга и антисоциальным поведением, любые заключения о причинах будут недостаточно определенными из-за взаимодействия дисфункции мозга с социально-экономическими условиями или темпераментом. Исследования в этой области часто основывались на имплицитном допущении о связях между мозгом и поведением. Согласно традиционному представлению об иерархической организации мозга, кора контролирует более примитивные подкорковые области. Рассматриваемые с этих позиций, импульсивные и агрессивные действия могут быть положительными симптомами дезорганизации головного мозга, отображающими высвобождение подкорковой активности из-под тормозящего контроля коры. Сохраняющееся влияние этой точки зрения прослеживается в понятии «синдром дисконтроля» (dyscontrol syndrome) и в сложившейся тенденции относить расстройство поведения, гиперактивность и антисоциальное расстройство личности к категории «расторможенной психопатологии» (disinhibitory psychopathology). С другой стороны, антисоциальное поведение может быть отрицательным СИмптомом патологии мозга, если повреждение мозга имеет результатам отсутствие или дефицит функций, необходимых для когнитивного развития и социализации.
Эпилепсия, или повторяющиеся судорожные припадки, представляет собой симптом электрической дезорганизации головного мозга. Во многих случаях источник пароксизмальной активности неизвестен (идиопатическая эпилепсия), но в дру-
6
![]()
гих специфический патологический очаг может быть идентифицирован; интерес к такого рода аномалиям вызван предполагаемыми связями между височными долями и ядрами лимбической системы мозга, которая считается связанной с регуляцией агрессивного поведения. Хотя большинство страдающих эпилепсией лиц удовлетворительно адаптированы в психологическом отношении, примерно у трети обнаруживаются психологические проблемы (Parsons, Hart, 1984). Однако их возникновение необязательно напрямую обусловлено биологическими факторами, часто психологические проблемы являются результатом переживания человеком стигмы, которая образуется вследствие социальных реакций или ослабленного чувства личного контроля. Эпилепсия также коррелирует с социоэкономическим статусом: она наиболее распространена в социально обделенных группах. Поэтому корреляция эпилепсии с преступностью не является однозначным доказательством причинно-следственной связи между патологией головного мозга и антисоциальным поведением.
Согласно английским и американским оценкам, около 0,5 0/0 населения страдает от эпилепсии. Есть данные, что она чаще встречается среди преступников, по крайней мере в выборках заключенных. Ганн и Бонн (Gunn, Вопп, 1971) нашли, что ее распространенность составляет 0,7196 среди английских заключенных, и считают эти показатели заниженными. Хотя более позднее обследование дало показатель распространенности в 0,50/0 (Gunn, Maden & Swinton, 1991), Уитман с коллегами (Whitman et al., 1984) обнаружили, что 2,40/0 американских заключенных мужского пола в прошлом страдали судорожными припадками. Согласно же Льюису и другим (Lewis et al., 1982), 180/0 помещенных в исправительное учреждение делинквентов страдали в прошлом точно или предположительно судорожными припадками, хотя использованные ими критерии оценки были подвергнуты критике (Whitman et al., 1984). Основные вопросы заключаются в том, могут ли люди, страдающие эпилепсией, совершать правонарушения автоматически, не сознавая этого (автоматизм), и увеличивает ли височная эпилепсия (ВЭ) вероятность проявления насилия. Автоматизм входит в сферу юридического интереса, так как он может свести на нет требование наличия виновно совершенного действия, однако им крайне редко объясняют преступления уголовников, страдающих эпилепсией (Goldstein, 1974; Fenwick, 1990). Например, Ганн и Фэнтон (Gunn, Fanton, 1971) установили, что толвко 13 из 187 преступников, страдающих эпилепсией, совершили преступление в период, близкий к припадку, и только в трех из этих случаев можно было предположить наличие автоматизма в действиях. Несмотря на утверждение Марка и Эрвина (Mark, Ervin, 1970) о частой связи реакций ярости с психомбторными пароксизмами, Родин (Rodin, 1973) не смог найти ни одного случая проявления агрессии при анализе фотографий индуцированных припадков у 150 пациентов. Делгадо-Эскуэта с коллегами (Delgado-Escueta et al., 1981) засняли на видеокамеру припадки 13 пациентов, отобранных из большой выборки из-за их предполагаемой агрессивности во время эпилептического припадка. Они наблюдали барождающуюся агрессию у семи пациентов, но во всех случаях такое поведение было кратковременным, неустойчивым и ненамеренным. Они предположили, что криминальное поведение, которое представляет собой нечто большее, чем фрагментарные автоматические действия, не может быть объяснено припадком. Таким образом, редкие случаи, в которых преступ-
![]()
ление связано с приступом, скорее отражают постиктальную [17] спутанность (FenМСК, 1990).
Предполагаемая взаимосвязь между ВЭ и насилием также ставилась под вопрос (Goldstein, 1974; Stevens, Hermann, 1981). Реакции ярости или агрессивные вспышки были замечены более чем у трети детей и взрослых, страдающих ВЭ (0unstead, 1969), но эти данные могут содержать систематическую ошибку, связанную с образованием изучаемых групп из лиц, направленных на медицинское обследование, и не отражать истинной распространенности этого явления в общей популяции. Из 700 пациентов, направленных в больницу для лечения эпилепсии, Родин (Rodin, 1973) нашел зафиксированное в анамнезе агрессивное поведение у 4,896, причем они не отличались от неагрессивных пациентов по характеру припадков. Мангас установил (Mungas, 1983), что склонные и не склонные к насилию амбулаторные пациенты с неврологическими заболеваниями не различались по патологии височных долей. Хотя Херцберг и Фенвик (Herzberg, Fenwick, 1988) также свидетельствуют, что их агрессивные и неагрессивные пациенты с ВЭ не различались по ЭЭГ, срезам КТ или нейропсихологическим пробам, агрессивные пациенты все же отличались существенно более ранним началом эпилепсии, ббльшими поведенческими проблемами в детстве и более низкими достижениями в образовательной и трудовой сферах. По мнению авторов, агрессия этих пациентов может быть только частично объяснена поражением мозга.
В двух исследованиях, где проводилось сравнение заключенных с эпилепсией и без нее, оказалось, что страдающие эпилепсией заключенные не превосходили прочих по частоте совершения насильственных преступлений (Gunn, Вопп, 1971; Whitman et al., 1984). Однако Гунн и Бонн (Gunn, Вопп, 1971) установили, что насильственные преступления чаще совершались преступниками с идиопатической эпилепсией, чем преступниками, страдающими ВЭ. В отличие от этих авторов, Льюис с коллегами (Lewis et al., 1982) получили корреляцию 0,38 между оценками насилия (по данным анамнеза и досье) и симптомами психомоторной эпилепсии у 97 делинквентов. Они также идентифицировали по меньшей мере один еимптом эпилепсии в 7896 выборки. Однако их критерии насилия и эпилепсии являются слишком широкими.
Столь же спорным является и понятие синдрома Дисконтроля, которое предполагает, что повреждения в височной доле и лимбической системе вызывают вспышки насилия, даже когда отсутствуют наблюдаемые судорожные припадки. Понятие «эпилептоидного» дисконтроля было предложено Монро (Monroe, 1978) для характеристики перемежающихся, эксплозивных вспышек насилия в ответ на минимальную провокацию, с явно адекватной социальной адаптацией между эпизодами. Более широкую концепцию дисконтроля разработали Марк и Эрвин (Mark, Ervm, 1970), которые рассматривали физическое нападение, жестокость во время алкогольного опьянения, импульсивное сексуальное поведение и серьезные нарушения дорожного движения, повлекшие за собой жертвы, как основные симптомы этого синдрома.
Считается, что дефицит контроля отражает эпилептоподобные разряды из участков очаговой патологии лимбической системы. Такое мнение основывается
6.
![]()
на косвенных признаках, таких как аномалии ЭЭГ, перинатальные травмы, черепно-мозговые травмы, гиперактивность, различные виды недостаточной обучаемости или умеренные неврологические симптомы, которые также образуют основу для предположения минимальной мозговой дисфункции (см. ниже). Клинические исследования указывают на распространенность этих признаков у пациентов, направляемых на неврологическое или психиатрическое обследование после повторяющихся эпизодов неспровоцированной ярости или насилия (Bach-y-Rita et al., 1971; Elliot, 1982), и Монро (Monroe, 1978) сообщает о том, что такие признаки были обнаружены у 30 0/0 заключенных, совершивших насильственные преступления. Однако дисконтроль — это просто описательный термин для обозначения корреляции между нечетко определенным поведенческим синдромом и признаками патологии мозга, достоверность которых не установлена. Как отмечалось другими авторами, депривация в детстве, насилие в семье или ее распад могли бы быть равноценным объяснением проявлений насилия у плохо контролирующих себя пациентов (Bach-y-Ryta, 1971).
Специфические нервные механизмы инициирования
агрессии не были установлены (Valenstein, 1976), и исследование Мангаса
(Mungas, 1983) позволяет говорить скорее о непрямом и неспецифическом участии
мозговой дисфункции в проявлении насилия. Он проанализировал эпизоды проявления
насилия амбулаторными пациентами с неврологическими заболеваниями с точки
зрения их частоты, степени тяжести, наличия провокации и организации и
посредством кластерного анализа выделил пять однородных подгрупп. Две из них
отличались ![]() характерными для синдрома дисконтроля
симптомами (отмеченными в историях болезни): частыми, серьезными, относительно
спонтанными (неспровоцированными) и дезорганизованными актами насилия; но хотя
пациенты из этих двух подгрупп были более подвержены судорожным припадкам, они
не отличались от не склонных к насилию пациентов по другим неврологическим
нарушениям,
характерными для синдрома дисконтроля
симптомами (отмеченными в историях болезни): частыми, серьезными, относительно
спонтанными (неспровоцированными) и дезорганизованными актами насилия; но хотя
пациенты из этих двух подгрупп были более подвержены судорожным припадкам, они
не отличались от не склонных к насилию пациентов по другим неврологическим
нарушениям, ![]() включая нарушения функций височных долей
головного мозга. Мангас высказывает предположение, что склонность к насилию
зависит от предшествующей истории личности и что роль дисфункции мозга может
заключаться в ослаблении контроля у предрасположенных к этому индивидуумов.
Ухудшение функционирования головного мозга также может сочетаться с насилием
вследствие сниженной толерантности к алкоголю (Hifner, B6ker, 1982).
включая нарушения функций височных долей
головного мозга. Мангас высказывает предположение, что склонность к насилию
зависит от предшествующей истории личности и что роль дисфункции мозга может
заключаться в ослаблении контроля у предрасположенных к этому индивидуумов.
Ухудшение функционирования головного мозга также может сочетаться с насилием
вследствие сниженной толерантности к алкоголю (Hifner, B6ker, 1982).
Считается, что многие нарушения детского поведения являются симптомами дисфункции мозга, возникшей вследствие мозговой травмы в перинатальном периоде или раннем младенчестве, и в анамнезе делинквентов часто можно обнаружить такие неблагоприятные факторы. Анализ медицинских карт, например, показывает, что, хотя перинатальные проблемы являются значимыми только для помещенных в исправительные учреждения и склонных к насилию делинквентов, вообще говоря, у многих делинквентов женского и мужского пола были травмы головы и лица во младенчестве (Lewis et al., 1979; Shanok, Lewis, 1981). Такие истории болезней навели исследователей на предположение о связи делинквентности с минимальной мозговой дисфункцией (ММД) и гиперактивностью (или синдромом дефицита внимания с гиперактивностью). Диагнозы ММД и гиперак-
![]()
тивности также частично пересекаются с педагогической идентификацией различных видов недостаточной обучаемости (см. главу 8).
Как было отмечено в главе З, диагнозы гиперактивности и расстройства поведения ребенка частично перекрываются. Однако дети, демонстрирующие гиперактивное поведение, не обладают одинаковыми антисоциальными характеристиками, которые выражены ярче, если гиперактивность сочетается расстройством поведения (Walker et al., 1987). Тем не менее детская гиперактивность, как считается, предрасполагает к антисоциальному поведению в ранней юности и взрослости. Согласно катамнестическим исследованиям клинических выборок, проблемы, связанные с моторикой и вниманием, обычно уменьшаются с возрастом, но при этом многие, если не большинство, из тех, кому был поставлен диагноз «гиперактивность», демонстрируют не поддающиеся коррекции нетерпеливость, раздражительность и отвлекаемость, сопровождаемые более низкими академическими достижениями, пониженной самооценкой и антисоциальным поведением (Weiss et al.; 1985, Lambert, 1988). Саттерфилд, Хоппе и Шелл (Satterfeld, Норре & Schell, 1982) сравнили уровень арестов за совершение серьезных преступлений у гиперактивных подростков и подростков из контрольной группы спустя 8 лет после их направления на обследование в детскую клинику. Испытуемые были разделены на категории в соответствии с низким, средним или высоким социоэкономическим статусом, и на 58, 36 и 5296 гиперактивных детей в этих категориях впоследствии были заведены полицейские досье по сравнению с 11, 9 и 2 0/0 детей контрольной группы. Вдобавок 25 0/0 гиперактивных детей — против 196 из контрольной группы — были заключены в пенитенциарные учреждения. В некоторых исследованиях также было установлено, что гиперактивные дети впоследствии чаще (сравнительно с контролем) отвечают критериям антисоциального расстройства личности (Satterfield, 1978). Например, при последующем наблюдении через 15 лет за гиперактивными детьми и контрольной группой были получены следующие результаты: АРЛ было единственным диагнозом, который дифФеренцировал эти две группы уже взрослых людей, поскольку его критериям отвечали 23 0/0 гиперактивных детей и только 2,40/0 детей из контрольной группы (Weiss et al., 1985).
Однако похоже, что именно взаимодействие гиперактивности с другими характеристиками способствует формированию девиантного поведения. Например, Ламберт (Lambert, 1988) пришел к следующему заключению: хотя проявляющиеся в широком спеутре ситуаций агрессивность или гиперактивность в детстве в равной степени предсказывали возникновение расстройства поведения в возрасте 17 лет, делинквентность, ведущую к судимости, предсказывало только их сочетание. Проспективное исследование Маннуцца с коллегами (Маппииа et al., 1989) также указывает на косвенную роль гиперактивности в развитии антисоциального поведения. При последующем наблюдении в период ранней взрослости оказалось, что значимо больше (по сравнению с контрольной группой детей) «бывших» гиперактивных детей было арестовано (39 и 20 0/0), осуждено (28 и 11 0/0) и лишено свободы (9 и 1 0/0). Однако эта связь почти полностью объяснялась наличием антисоциального расстройства поведения в ранней взрослости, и, хотя у многих из гиперактивной группы наблюдалось такое расстройство, гиперактивность сама по себе не оказывала влияния на последующее развитие криминального поведения.
7 зак 364
6
![]()
Значимое меньшинство гиперактивных детей демонстрирует впоследствии антисоциальное поведение, но если отвлечься от очевидных проблем, которые возникнут с воспитанием ребенка, который постоянно возбужден и не способен долго удерживать внимание, то окажется, что нам неизвестно, какой именно вклад вносит гиперактивность в криминальность. Ранние объяснения гиперактивности ссылкой на ММД теперь кажутся упрощенными, поскольку бесспорных доказательств того, что гиперактивность является симптомом повреждения мозга не существует, и ММД в качестве причины основывается на шатком предположении о том, что повреждение мозга приводит к одинаковым поведенческим последствиям. Тем не менее гиперактивность продолжают рассматривать в биологической плоскости. По мнению Саттерфильда (Satterfield, 1978), неугомонность отражает поиск стимуляции, связанный с низким возбуждением. Согласно же Ламберту (Lambert, 1988), делинквентные поступки гиперактивных в прошлом детей были связаны как с биологическими аспектами раннего детства, так и с более поздними семейными и социальными условиями жизни. Таким образом, в антисоциальном развитии гиперактивных детей играют важную роль не только биологические, но и средовые факторы, включая реакцию родителей и значимых других.
Нейропсихологические тесты используют для выведения заключений о мозговой дисфункции в силу их способности дифференцировать популяции с хорошо известными повреждениями головного мозга. Однако их польза для локализации повреждений у неклинических популяций находится под вопросом, и когда их применяют с этой целью, они слишком часто дают подтверждающий результат («ложная тревога»). Такие тесты «прощупывают» Сар) сложные когнитивные функции, которые зависят от координированной работы различных систем головного мозга, и хотя когнитивные дефекты подразумевают мозговую дисфункцию, объяснять их структурными нарушениями при отсутствии других доказательств может быть рискованным.
Результаты нейропсихологических тестов преступников во многих исследованиях приводились в качестве доказательства их мозговой дисфункции (см.: Miller, 1988). Ранние доказательства дефицитарности были основаны преимущественно на результатах тестов интеллекта, в особенности Векслеровской шкалы интеллекта взрослых ( WAIS) или Векслеровской шкалы интеллекта для детей ( WISO (см. главу 8), и свидетельствовали, в частности, о превосходстве у делинквентов невербального интеллекта (IQp) над вербальным (IQv). Предполагается, что (IQp) и (IQv) имеют некоторую связь с различающимися функциями левого (обработка лингвистической информации, последовательный анализ) и правого (пространственный и качественный анализ) полушарий соответственно. Поэтому преобладание (IQp) у делинквентов интерпретировалось с точки зрения уменьшенной латерализации левого полушария. Эта интерпретация нашла поддержку в работе Габриелли и Медника (Gabrielli, Mednick, 1980), которые получили более высокие показатели латерализации, указывающие на доминиробание правого полушария у 12-летних мальчиков, впоследствии ставших делинквентами.
Бирман и Сигал (Berman, S1egal, 1976) сравнили осужденных делинквентов и неделинквентных подростков одного с ними возраста и социоэкономического статуса по показателям Батареи нейропсихологических тестов Халстеда—Рейта-
![]()
на (НМ). Делинквенты не только дали ббльшую разность IQp > IQv, но и получили более низкие показатели по пяти из семи тестов, составляющих Индекс повреждения HRB — общую меру кортикальной дисфункции. Картина дефицитов, обнаруженных делинквентами, свидетельствовала только о минимальной дисфункции моторных навыков и умений управлять вниманием или сенсорной деятельности в целом, но выявляла значительную дефицитарность процесса решения задач (problem-solvmg), требующего умений оперировать словами, образами восприятия и невербальными концептами. Моффитт (Moffitt, 1988) излагает сходные выводы из исследования делинквентности по данным самоотчетов, проведенного в Новой Зеландии. Из общей выборки 850 13-летних подростков на основе комплексного критерия была отобрана группа наиболее антисоциальных мальчиков и девочек, которая была обследована с помощью батареи тестов, оценивавших мнемические, речевые и «исполнительные» (связанные с лобными долями) функции. Делинквентные мальчики обнаружили существенные дефициты в выполнении заданий для оценки IQv и IQp, языковых тестов и тестов памяти, но не показали снижения в выполнении тестов, измеряющих нелингвистические функции или функции лобных долей. В противоположность этому делинквентные девочки обнаружили дефицитарность главным образом в выполнении последних двух тестов.
В других исследованиях, однако, высказывается предположение, что латерализованные дефициты левого, или доминантного, полушария более характерны для психопатических преступников и для преступников, осужденных за насильственные преступления. Йодал и Фромм-Аух (Yeudall, Fromm-Auch, 1979) обобщили исследования с использованием HRB и показали, что нетипичные тестовые профили, в которых отклонения от нормы указывают в основном на левополушарные дисфункции и дисфункции передней области коры головного мозга, имели место у 89 0/0 преступников. Аналогичные результаты были получены у 6096 психопатов. Однако у преступников-непсихопатов с расстройствами личности и аффективными расстройствами выявленные тестами дефициты указывают преимущественно на дисфункцию передней области коры и правого полушария. Такая картина была также преобладающей в группе из 99 закоренелых делинквентов, 84 0/0 которых имели анормальные профили HRB в противоположность 11 % неделинквентов из контрольной группы (Yeudall, Fromm-Auch 8, Davies, 1982). Однако в этом исследовании склонные к насилию делинквенты не отличались от делинквентов, не совершающих насильственных действий, хотя число первых было
небольшим.
Исследования с использованием других тестовых батарей также указывают на значимую нейропсихологическую дисфункцию у несовершеннолетних и взрослых преступников, совершивших насильственные преступления; обнаруживаемые при этом дефициты чаще всего предполагают нарушение функций передней области коры и/или левого полушария. Криницки (krynicki, 1978), например, обнаружил, что агрессивные делинквенты и подростки с органическими нарушениями отличались от менее агрессивных делинквентов, но не друг от друга, по тестам латеральности, свидетельствующим о дисфункции левого полушария. В другом исследовании (Bryant et al., 1984) было установлено, что заключенные, осужденные за насильственные преступления, отличались от заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, по показателям всех шкал Нейропси-
6.
![]()
хологической батареи Лурия—Небраска. 73 0/0 заключенных, которым по тестовым критериям был поставлен диагноз повреждения мозга, оказались из группы преступников, осужденных за применение насилия, по сравнению с 2896 тех, у кого не было выявлено повреждений мозга. На основе анализа срезов КТ авторы исследования заключили, что в первую очередь речь может идти о поражении лобно-височных областей. Тем не менее Тартер с коллегами (Tarter et al., 1983) полагают, что нейропсихологические нарушения характерны только для малой части популяции преступников. Они сравнивали группы лиц, отбывших наказание за совершение насильственных, ненасильственных и половых преступлений, и, судя по результатам обширной батареи тестов, не имевших никаких заведомых неврологических отклонений, не нашли значимых различий между этими группами. В более позднем исследовании они также не смогли обнаружить никакой связи между величиной разности IQp > IQv и ретроспективными оценками насилия (history of violence) у делинквентов (Tarter et al., 1987).
Предположение о том, что психопаты характеризуются дисфункцией лобных долей и левого полушария головного мозга, получило ограниченное подтверждение. Повреждения лобных долей уже давно связывались с импульсивным, расторможенным и плохо планируемым поведением, и в настоящее время считается, что лобные доли участвуют в интеграции, регуляции и определении направления произвольного поведения. Связи между передними отделами и лимбическими ядрами мозга к тому же составляют часть гипотетической BIS, понятие которой было предложено Греем. Горенштейн выдвинул гипотезу, согласно которой расторможенные синдромы (dzsinhibitory syndromes), в том числе психопатия, связаны с дефицитами, подобными тем, которые вызваны повреждениями лобных долей, и сравнил психопатических и непсихопатических пациентов по нескольким пробам, предположительно чувствительным к дисфункции лобных долей (Gorenstein, 1982). Эта гипотеза была подтверждена выполненйем нейропсихологических проб психопатами, которое свидетельствовало о существенном нарушении способности корректировать установки на ответ (response sets). Однако Хэйр (Hare, 1984) не смог воспроизвести эти результаты при обследовании психопатических заключенных, отобранных с помощью Контрольного перечня психопатии.
Используя тахистоскопический вариант задачи на распознавание слов, Хэйр не нашел подтверждения гипотезе, будто у психопатов более слабая левополушарная латерализация. Однако последующие исследования, связанные с более сложной семантической обработкой информации, говорят о том, что психопаты, возможно, характеризуются менее специализированной латерализацией речевых функций (Hare, Harpur & Williamson, 1988). Хэйр полагает, что мозговая организация языка у психопатов отличается более слабой интеграцией аффективных и других компонентов, связывающих когницию и поведение. По его мнению, это отражает скорее генетически обусловленные особенности мозговых структур, ответственных за обработку семантической информации, чем структурные повреждения мозга.
Выводы нейропсихологических исследований преступников в силу методологических проблем, таких как небольшие выборки, отсутствие контрольных групп и явный перекос в сторону изучения популяций, содержащихся в местах лишения свободы, до сих пор носят ограниченный характер (Moffitt, 1988). Тем не менее Миллер (Miller, 1988) полагает, что ухудшение навыков обработки вербаль-
![]()
ной информации и регулятивных функций, контролируемых лобными долями, с удовлетворительной регулярностью обнаруживалось в антисоциальных популяциях. Он расценивает это скорее как свидетельство нарушения индивидуального развития, чем как признак неврологических нарушений, и считает, что делинквенты, особенно агрессивные и импульсивные, могут быть относительно неспособными к использованию внутренней речи для регулирования внимания, аффекта, мышления и поведения в условиях стресса.
![]()
ГЛАВА 7
Семейные и социальные корреляты преступности
Исследования, рассмотренные в предыдущей главе, показывают, что индивидуальные особенности генетического происхождения играют определенную роль в развитии криминального поведения. Ребенок не является просто tabula rasa, чьи характерные черты формируются контролирующим каждый шаг окружением, но и сам содействует своему развитию, влияя на реакции других людей. Однако индивидуальные вариации темперамента и стратегий решения задач, обнаруживающие себя уже в начале жизни, видимо, основываются на более фундаментальных параметрах физиологической активности, и их дифференциация на сложные психологические функции возникает только благодаря реципрокному взаимодействию с социальной средой.
Эта глава посвящена рассмотрению социальных влияний на развитие криминальности. Также будут рассмотрены исследования коррелятов расстройства поведения и агрессии, поскольку эти последние являются не только предвестниками более поздней социальной девиантности (см., напр.: Robins, 1978; Farrington, 1989), но, по-видимому, имеют предпосылки, сходные с предпосылками развития криминальности. Психологи традиционно проявляют повышенное внимание к семье как первичному агенту социализации, тогда как социологов больше интересует влияние соседей, школы, места работы и брака. Такое разделение интересов нашло отражение и в данной главе. Тем не менее социализация предполагает не только передачу культурных традиций через родителей, но и усвоение ценностей и стандартов, связанных с меняющимися на протяжении жизни социальными ролями. Поэтому в данной главе будет также обсуждаться воздействие на криминальность социальных сил за пределами семьи.
Семейные структуры и взаимодействия
Сравнение семейной среды делинквентов и неделинквентов показывает, что делинквенты часто растут в неблагоприятных условиях. Многие из результатов, которые нам предстоит суммировать в этой главе, были предвосхищены в ранних работах Хили (Healy, Bronner, 1936) и Глюков (Glueck, Glueck, 1950) и впоследствии воспроизведены в лонгитюдных исследованиях, таких как Кембриджское исследование (Farrington, West, 1990) и долгосрочное последующее наблюдение за мальчиками в Кембриджско-Соммервилльском исследовании в Массачусетсе (McCord, 1979, 1986), а также в многочисленных поперечно-срезовых сравнениях (см. обзоры: Hetherington, Martin, 1979; Loeber, Stouthamer-Loeber, 1986; Snyder, Patterson, 1987). В большинстве исследований семейных коррелятов преступности, проведенных до 1950-х гг., чувствуется влияние психоаналитических концепций о значении первых пяти лет жизни для дальнейшего развития; сохранившийся интерес к отношениям в раннем детстве и сегодня прослеживается в теории привязанности. Однако в более близких к нашим дням исследованиях основное внимание сосредоточивается на взаимодействиях между родителем и ребенком в доподростковый и подростковый периоды развития, что отражает возросшее влияние теорий социального научения и социального контроля. Это повлекло за собой не только изменения в методологии, состоящие в использовании наряду с интервью и ретроспективными отчетами методов прямого наблюдения, но и смещение акцентов с эмоциональных потребностей детей на эффективность их воспитателей с точки зрения формирования и передачи навыков и стандартов поведения. Хотя переменные, получающие наибольшее внимание в исследованиях семейных коррелятов, во многих случаях совпадают, их можно разделить на функциональные аспекты, или межличностные процессы, которые оказывают прямое воздействие на поведение, и структурные аспекты, такие как размер семьи, влияние которых является менее прямым. Эти аспекты рассматриваются в нижеследующих разделах.
Попытки систематизировать имеющиеся данные сосредоточиваются вокруг содержания, стиля и последовательности дисциплинирующих воздействий. В одном подходе идентифицируются паттерны вознаграждений и наказаний, раздаваемых при дисциплинарных конфронтациях, и проводится различие между применением силы/власти (power assertion) (физическое наказание, критика и угрозы, лишение материальных благ), лишением любви (love withdrawal) (нефизическое выражение неодобрения и воздержание от проявлений привязанности) и индукцией (разъяснением проступка и сосредоточением внимания на последствиях действий ребенка для других; см.: Hoffman, 1977). У нормальных детей моральное развитие положительно связано с предпочтительным использованием родителями методов индукции и отрицательно — с опорой на применение силы/власти, однако не имеет единообразной связи с лишением любви как мерой наказания (Ноктап, Saltzstein, 1967). Относительная неэффективность применения силы/власти в качестве дисциплинирующего воздействия в процессе социализации объясняется его зависимостью от присутствия наказывающего и страха перед ним, а также тем, что применение силы снабжает ребенка моделью враждебного поведения. Лишение знаков привязанности действенно только во взаимоотношениях, которые уже являются любящими. С другой стороны, индукция лучше всего обучает правилам поведения в конкретной ситуации, вызывает реакции, несовместимые с текущей девиантной деятельностью, и извлекает выгоду из способности ребенка к эмпатии (Hoffman, 1977).
Однако содержание дисциплинирующих воздействий не является независимым от стиля интеракции. Материнское поведение по отношению к ребенку можно систематизировать на основе плоской круговой модели, в которой различные формы интеракции размещаются вокруг двух независимых измерений (или осей координат) — любви (принятие и душевная теплота/отвержение и враждебность) и контроля (предъявление требований и наложение запретов/нетребовательность и потворство; см.: МассоЬу, Martin, 1983). Благодаря этой модели становится возможным объяснить, например, такое внешне противоречивое описание родительского стиля в делинквентных семьях как «суровый, но не контролирующий», поскольку эти два дескриптора отображают полюса разных измерений. Комбинации этих измерений дают четыре различных родительских стиля: авторитетный (принимающий — требовательный); потакающий (принимающий — нетребовательный); авторитарный (отвергающий — требовательный) и игнорирующий (отвергающий — нетребовательный). Дисциплина, основанная на авторитете и доверии взрослого, побуждает ребенка к самоконтролю и повышает его уверенность в себе. Авторитарный стиль связан с применением силы и, скорее всего, оказывает отрицательное воздействие на ребенка, выражающееся в более низком уровне морального развития, повышенной агрессивности и пониженной самооценке. Однако недостаточная социализация может также быть результатом потакающего и игнорирующего стилей воспитания, а в соответствующей литера-. туре авторитарный и игнорирующий стили неизменно рассматриваются в качестве предпосылок делинквентности.
Конкретные последствия стилей дисциплинирования будут также варьироваться в зависимости от того, насколько интенсивно, часто и последовательно они воплощаются в практике воспитания. Переменчивый и непоследовательный курс воспитания может указывать на отсутствие согласия между родителями по поводу способов приучения детей к дисциплине или на непоследовательность одного из родителей в применении дисциплинарных мер, причем и то и другое нередко наблюдалось в семьях делинквентов. Например, часто сообщается о слабом материнском контроле и отцовской рестриктивности (Hetherington, Martin, 1979). Однако в поведенческих подходах особое значение придается непоследовательности в форме необусловленных последствий (noncontingent consequences). Хорошей иллюстрацией здесь могут быть работы Паттерсона (Patterson, 1982, 1986), который разработал ориентированную на воспитательную практику программу исследований, чтобы с позиций социального научения построить теорию процесса семейного принуждения, призванную объяснить антисоциальное поведение у дошкольников и детей предподросткового возраста.
Паттерсон, таким образом, подчеркивает, что именно применение суровых, но непоследовательных наказаний, а не сами по себе наказания, отличает девиантные семьи. Впрочем, он различает два стиля дисциплинирования в семьях с антисоциальными детьми, которые соотносит с различными формами детской девиантности (Patterson, 1982; Snyder, Patterson, 1987). «Социальные агрессоры» дразнят и задирают братьев и сестер и подвержены частым вспышкам гнева, тогда как «ловцы внимания» (stealers) прибегают к целому букету прегрешений, включая ложь, неуемную активность, поджоги и мелкое воровство. Для родителей «социальных агрессоров» более вероятен вовлекающийся (enmeshed) стиль, когда тривиальные проступки детей вызывают у них сильное раздражение, имеющее продолжение в большом числе приказов и критических замечаний, и в таких семьях особенно часто развиваются принуждающие интеракции. Родители «ловцов внимания» предпочитают не вовлекаться в занятия ребенка, демонстрируя безучастный стиль, при котором наказываются только некоторые антисоциальные проступки. Если они применяют наказание, оно часто не связано непосреДственно с поступком ребенка. Оба эти стиля неэффективны в том, что касается изменения (в лучшую сторону) девиантного поведения ребенка.
Безучастный стиль во многом связывается с недостаточным надзором за детьми, или текущим контролем детского прведения, который подразумевает осведомленность родителей о том, где находится ребенок в данный момент, кто его друзья, чем он занимается вне дома в свободное от учебы время, когда он должен приходить домой и др. Недостаточный надзор, как было установлено в некоторых исследованиях, значимо коррелирует и с официально зарегистрированной делинквентностью, и с делинквентностью по данным самоотчетов (Hlrsh1, 1969; McCord, 1979; Wilson, 1980; Patterson, Southamer-Loeber, 1984; Cerncovich, Giorgano, 1987). Недостаточный надзор также часто упоминается в анамнезе агрессивных мальчиков (Feldhusen, Thurston & Benning, 1973; Loeber, Dishion, 1984). Согласно исследованиям Уилсона, проведенным с мальчиками из бедных городских районов (Wilson, 1980, 1987), плохой контроль со стороны матерей является более важным фактором в различении делинквентов и неделинквентов, чем неблагоприятное социальное положение или криминальность родителей.
Тем не менее, несмотря на очевидное практическое значение надзора за детьми для их дисциплинирования, это понятие обладает небольшой объяснительной силой. Паттерсон считает контролирование поведения детей важным компонентом материнской компетентности, который коррелирует с эффективностью преодоления конфронтаций и применения социального подкрепления (Patterson, Stouthamer-Loeber, 1984). Он отводит этому аспекту центральную роль в развитии делинквентного поведения, так как многие девиантные поступки остаются ненаказанными. Хирши и Готтфредсон (Hirshi, Gottfredson, 1988), однако, полдгают, что данный аспект имеет отношение скорее к совершению преступлений, чем к развитию криминальности, поскольку первое, вероятно, происходит раньше. С этим положением согласуются данные, согласно которым родительский контроль более тесно связан с делинквентностью старших подростков, чем с делинквентностью детей предподросткового возраста (Snyder, Dishion & Patterson, 1986; Weintraub, Gold, 1991).
Крайние формы отвержения и безразличия, обнаруживаемые в стилях дисциплинирования, в известной степени распространяются на взаимодействия между всеми членами делинквентных семей. Конфликт между родителями, выражающийся в спорах, постоянных ссорах, враждебных позициях, а также непрочный брак или распад семьи, как было установлено в результате лонгитюдных исследований, оставляют в ранней жизни делинквентов заметный след (McCord, 1979, 1986; West, 1982; kolvin et al., 1988). Супружеские склоки также коррелируют с расстройством поведения у мальчиков (Emery, 0'Leary, 1982) и с распространением мальчиками агрессии на объекты и ситуации за пределами семьи (Loeber, Dishion, 1984).
Делинквенты также негативно воспринимают свои семьи. Багат и Фрейзер (Bhagat, Fraser, 1970) установили, что делинквенты оценивали своих матерей по семантическому дифференциалу ниже, чем неделинквенты. Делинквенты-рецидивисты описывают свои семьи как менее сплоченные и менее экспрессивные по Шкале семейной среды Мооса, а также как менее ориентированные на достижение или отдых, чем неделинквенты (Leflore, 1988). Делинквентность по данным самоотчетов также связана с недостатком участия и поддержки со стороны родителей (Hirshi, 1969) и, как свидетельствуют сами подростки, с постоянными конфликтами между родителями и детьми, низким доверием родителей к детям и отсутствием близких взаимоотношений (Cernkovich, Giordano, 1987). Впрочем, согласно данным Кантера (Canter, 1982b), недостаток семейной привязанности сильнее связан с делинквентностью мальчиков, чем девочек.
Недостаток участия в делах друг друга находит отражение в том, что делинквентные семьи редко проводят вместе свободное время (Bandura, Walters, 1959; Cortes, Gatti, 1972). Фарринггон и Вест (Farrington, West, 1990) сообщают, что редкое участие отца в занятиях сына 12-летнего возраста значимо предсказывает совершение сыном преступлений после 20 лет. Когда же они взаимодействуют друг с другом, их обмен реакциями чаще всего обнаруживает разногласия. Хетеринггон, Стоуви и Ридберг (Hetherington, Stouwie & Ridberg, 1971), например, отметили, что в ходе структурированных взаимодействий (в терапевтической ситуации) члены делинквентных семей проявляют меньше тепла и больше враждебности, имеют более негативные ожидания относительно друг друга и реже достигают согласия, чем члены неделинквентных семей. Аналогичные результаты были получены в наблюдениях за интеракциями матери и сына в семьях без отца; в делинквентных семьях коммуникация была более негативной и отношения были менее теплыми (Blaske et al., 1989).
Уже давно отмечено, что преступники часто происходят из распавшихся семей, в которых отсутствуют один или оба фактических родителя. Например, в обзоре детских дел, переданных на рассмотрение в суд штата Флорида, Чилтон и Маркл (Chilton, Markle, 1972) обнаружили, что 28 0/0 белых делинквентов мужского пола происходили из неполных семей (для сравнения, национальный уровень для белых лиц мужского пола составляет 13 0/0); показатели для чернокожих делинквентов мужского пола составили 59 и 43 0/0 соответственно. Наиболее высокие показатели обычно наблюдаются у лишенных свободы преступников (см., напр.: Cort&, Gatti, 1972; Hollander, Turner, 1985). Однако поскольку отсутствие целой семьи само по себе может повлиять на решение направить делинквента в места лишения свободы, такие данные, по-видимому, несколько переоценивают эту связь, и согласно результатам Кембриджско-Соммервилльского исследования, отсутствие отца в детстве не предсказывало совершение преступлений в юношеском или взрослом возрасте (McCord, 1979). Результаты обследований населения общин тоже говорят об относительно слабой связи, и Хирши также не нашел однозначной связи между отсутствием отца и делинквентностью по данным самоотчетов • (Hirshi, 1969). Хотя некоторые постулируют наличие такой связи (Canter, 1982b), Ранкин считает, что отсутствие по крайней мере одного биологического родителя связано только с некоторыми формами делинквентности, особенно со статусными правонарушениями несовершеннолетних, такими как прогулы или побеги (Rankm, 1983).
Рассмотрение причин, по которым отсутствует один родитель или оба, позволяет сделать вывод, что связь между неполной семьей и делинквентностью наиболее очевидна, когда семья распадается в результате развода, оставления семьи одним из родителей или раздельного проживания супругов, и менее очевидна в случае смерти одного из родителей (Gibson, 1969; Rutter, 1971). Аналогичным образом, студенты, определенные как некоммуникабельные и плохо приспособленные к социальной жизни, чаще сообщали о разводе родителей, чем студенты с более развитыми социальными навыками (Megargee, Parker & Levine, 1971). По некоторым наблюдениям, мальчики, выросшие без отца, чаще имеют судимости, чем мальчики из целых семей, однако не отличаются от мальчиков из целых, но конфликтных семей (McCord, McCord & Thurber, 1962). Таким образом, на делинквентность больше всего влияет распад семьи, который предшествует разводу или разъезду супругов либо следует за этим (Rutter, 1971; Loeber, Stouthamer-Loeber, 1986). То же справедливо и в отношении расстройства поведения у детей в семьях разведенных родителей. Лейхи с коллегами (Lahey et al., 1988) обнаружили, что в детской клинической популяции расстройство поведения у детей было значимо связано с антисоциальным расстройством личности у родителей, но не с разводом последних, свидетельствуя о том, что связь между разводом и расстройством поведения является следствием большей склонности антисоциальных родителей к разводу.
Впрочем, стресс, испытываемый оставшимся с ребенком родителем (обычно матерью) в результате развода или раздельного проживания, может обострить конфликты между родителем и ребенком. Матери-одиночки при этом страдают от слабой социальной поддержки, испытывают финансовые затруднения, не имеют возможности отдохнуть от домашних обязанностей и потому обычно мало занимаются воспитанием ребенка в течение года после развода (Hetherington, Martin, 1979). Разумеется, это зависит от особенностей матери, ибо Мак-Корд с коллегами (McCord et al., 1962) установили, что вероятность возникновения делинквентности в семьях без отца снижалась в тех случаях, когда мать отличалась душевной теплотой и не имела склонности к девиантному поведению. Наблюдение, согласно которому распавшиеся семьи повышают вероятность статусных преступлений (по данным самоотчетов) больше, чем других форм делинквентности (Rankin, 1983), особенно у мальчиков (Canter, 1982b), также поддерживает эту точку зрения, так как ребенок чаще всего начинает прогуливать школу и сбегать из дома, когда мать не заботится о нем, игнорирует его.
Альтернативная гипотеза заключается в том, что отсутствие отца само по себе является критическим фактором, так как у детей нет модели мужского поведения. Эта гипотеза нашла подтверждение в кросс-культурном исследовании дописьменных обществ (ВасКоп, Child & Ватту, 1963). Исследователи установили, что уровень имущественных преступлений и преступлений против личности был существенно выше в тех обществах, где отцы в силу традиций не участвуют в воспитании детей; этот факт они объясняют недостатком возможностей для маскулинной идентификации и, как следствие, последующей озабоченностью маскулинностью. Это могло бы быть объяснением большего воздействия распавшихся семей на мальчиков и большего влияния группы сверстников на делинквентность в семьях без отца (Hanson et al., 1984). Однако этим не удается объяснить, почему явно большее воздействие на делинквентность оказывают семьи, распавшиеся вследствие вражды между супругами, чем семьи, разрушенные смертью родителя.
В одной социологической теории семья рассматривается не просто как агент социализации и контроля, но и как первопричина последующего положения индивидуума в более широкой социальной структуре (Wells, Rankin, 1986). В этом смысле распавшаяся семья может быть причиной делинквентности, поскольку изменяются социальные взаимосвязи семьи, например возникают стереотипные представления о детях разведенных родителей как о девиантных, что может стать самоисполняющимся пророчеством. Более сильная связь распавшихся семей с официально зарегистрированной делинквентностью, чем с делинквентностью по данным самоотчетов, также согласуется с таким представлением. С другой стороны, это могло бы служить объяснением вторичной, но не первичной девиантности, возникающей как в распавшихся, так и целых семьях.
Было предложено несколько возможных объяснений. Согласно одному из них, эта связь обусловлена генетическими факторами, общими у родителя и ребенка, хотя такое объяснение более правдоподобно для постоянного совершения преступлений, чем для кратковременной делинквентности. Второе объяснение состоит в том, что родители служат моделями антисоциального поведения. В Кембриджском исследовании эта связь была сильнее, когда родители совершали преступные действия в период воспитания ребенка, и не обнаруживалась,в том случае, когда родители впервые совершили преступление после достижения ребенком 18-летнего возраста (West, 1982). Тем не менее Вест и Фарринггон не нашли доказательств тому, что родители прямо моделируют криминальное поведение или вовлекают сыновей в преступную деятельность. По их мнению, даже если более плотное наблюдение полиции за криминальными семьями оставляет для этого некоторую возможность, они рассматривают неэффективную воспитательную практику в качестве более правдоподобного фактора, так как при контролировании других переменных самой характерной чертой криминальных родителей является плохой надзор за детьми. Кроме того, родительская криминальность оказалась связанной со слабой дисциплиной детей, живущих в бедных кварталах Бирмингема (Wilson, 1980).
Однако родительская криминальность коррелирует также с отсутствием постоянной работы и зависимостью от социальных пособий, что может вносить свой вклад в распад семьи и семейный стресс (West, 1982); как было обнаружено, родители делинквентов отклоняются от среднестатистической «нормы» и во многих других аспектах. Мак-Корд (McCord, 1936) установил, что родительская девиантность давала наибольший эффект, когда сочеталась с родительской агрессивностью и конфликтом в семье, но ее эффект был относительно слабым, когда отец проявлял уважение к матери и любовь к ребенку. По наблюдениям Колвина с коллегами (kolvin et al., 1988), родители мальчиков, позже ставших преступниками, чаще характеризовались как агрессивные и «неэффективные». Таким образом, неспособность девиантных родителей предоставить своим детям образцы нормативного и просоциального поведения является еще одним возможным объяснением эффектов родительской криминальности.
Большой размер семьи — это еще один установленный коррелят делинквентности (Fischer, 1984). По материалам Кембриджского исследования, делинквенты чаще происходили из семей с четырьмя и более детьми (West, 1982), а Хирши выявил такую же связь для делинквентности по данным самоотчетов (Hirschi, 1969). Рецидивисты также часто происходят из больших семей (Buikhuisen, Hoekstra, 1974), хотя размер семьи, по-видимому, не является значимым для делинквентов женского пола (0ford, 1982).
Самым сильным фактором может быть воздействие делинквентных сиблингов. Глюк и Глюк отмечают, что 65 0/0 их делинквентной выборки имели делинквентного сиблинга, по сравнению с 260/0 неделинквентов (Glueck, Glueck, 1950). Поскольку данное утверждение справедливо для семей как большого, так и малого размера (Robins et al., 1975), этот фактор может быть более важным, чем размер семьи сам по себе. Более того, влияние размера семьи зависит от числа братьев в семье и не зависит от числа сестер, что указывает на эффект «пагубного влияния» (0fford, 1982). Связь делинквентности с большой семьей может, таким образом, отражать тенденцию растущих в ней детей больше полагаться на своих сиблингов, выступающих для них в качестве моделей и источников социального обучения.
Психологические эффекты таких условий опять же не совсем ясны из-за их взаимосвязи с другими переменными, такими как родительская криминальность и родительский надзор. Впрочем, маловероятно, что они оказывают прямое воздействие на криминальное поведение, так как понятие депривации скорее относительное, чем абсолютное, и делинквенты редко воруют по той причине, что им не хватает еды или одежды. Более того, далеко не во всех бедных семьях вырастают делинквенты. Например, Уилсон нашел, что в бедных районах неблагоприятное социальное положение было связано со слабым родительским контролем, но не с серьезной делинквентностью по данным самоотчетов (Wilson, 1980).
В теориях напряжения и субкультуры эти эффекты рассматриваются как опосредованные нормами, которые усваиваются детьми, растущими в таких условиях, однако подобные теории не слишком преуспели в объяснении делинквентного поведения (см. главу 5). Тем не менее жизненные условия, характерные для социально обделенных семей, могут благоприятствовать таким ценностям и стандартам, которые иллюстрируют особенности воспитания детей, приписываемые большей частью рабочему классу. К таким особенностям относят более частое применение силы как меры дисциплинарного воздействия, что, в свою очередь, может быть связано с приданием большего значения внешним правилам, чем самоуправлению, использованием «ограниченного» в отличие от «развернутого» лингвистического стиля коммуникации и ориентацией скорее на настоящее, чем на будущее (Gecas, 1979). Другое возможное объяснение заключается в том, что тяжелое экономическое положение вызывает стресс, нарушающий воспитатель-
![]()
ный процесс в семье (Patterson, 1982). Имеющиеся на данный момент данные не позволяют сделать выбор между этими альтернативами.
В большинстве исследований семейных переменных акцент делался на неспецифических воздействиях на делинквентность, рассматриваемую как общий исход, тогда как их возможным связям со специфическими формами девиантного поведения уделялось мало внимания. Однако и здесь удалось получить некоторые релевантные данные. На основе множественного регрессионного анализа Мак-Корд (McCord, 1979) идентифицировал различные паттерны семейных предикторов имущественных преступлений и преступлений против личности. Первые были связаны с конфликтом в семье, а также с недостатком материнской любви и контроля, а последние — главным образом с недостатком материнской любви и контроля. Ранее мы отмечали, что «ловцы внимания» в исследовании Паттерсона в основном происходили из нестрогих семей с безучастным стилем воспитания, «социальные агрессоры» — из вовлеченных (в жизнь детей) и принуждающих семей, а дети, демонстрирующие оба девиантных паттерна, — из наиболее принуждающих семей.
Хьюитт и Дженкинс (Hewitt,Jenkins, 1946) также нашли, что социализированные агрессивные делинквенты чаще происходили из семей, отличавшихся невыполнением родительских обязанностей и пермиссивностью, несоциализированные агрессивные дети обычно отвергались своими родителями, а тревожные замкнутые дети страдали от чрезмерного родительского контроля. Дженкинс сравнил бывших участников военных действий, страдающих психопатией или неврозом, и определил, что первые значимо чаще описывали конфликты между родителями и отвержение со стороны отца, но при этом также чаще негативно относились к матери (Jenkins, 1960). Фодор также обнаружил, что, в отличие от непсихопатических делинквентов, психопаты описывали своих отцов как менее воспитывающих, опекающих и вознаграждающих, а своих матерей как требующих меньших достижений (Fodor, 1973).
Хетерингтон, Стоуви и Ридберг (Hetherington, Stouwie & Ridberg, 1971) сравнили семьи неделинквентов с семьями психопатических, невротических и субкультурных делинквентов (определенных так согласно измерениям Квея) по степени поведенческой интеракции и показателям родительского опросника. Родители субкультурных делинквентов меньше конфликтовали как супруги и в меньшей степени отвергали своих детей, однако были более пермиссивными. Родители невротических испытуемых были более отвергающими и, вероятно, прибегали к применению силы для наведения дисциплины. Семьи психопатических делинквентов были больше похожи на вторые, но при этом поощряли сыновей на агрессивное поведение вне дома. Также были найдены различия в отношениях доминирования: отцы чаще всего доминировали в семьях субкультурных делинквентов и, в меньшей степени, в семьях психопатов; матери же были более властными в семьях невротических делинквентов. Менее четкие различия были обнаружены для семей делинквентов женского пола.
На основе этих данных можно выделить некоторые тенденции, в частности, более частые и серьезные конфликты между родителями, отвержение со стороны отца и использование принуждающих дисциплинарных мер в семьях агрессив-
![]()
ных и психопатических делинквентов, в то время как в семьях субкультурных делинквентов и тех, кто ворует, имеет место более слабая дисциплина и безответственное отношение к выполнению родительских обязанностей. Однако эти выводы могут носить только предположительный характер.
Как было показано, семейные переменные дифференцируют делинквентов и в поперечно-срезовых, и в лонгитюдных исследованиях, причем как в случае официально зарегистрированной делинквентности, так и делинквентности по данным самоотчетов. Сходные связи остаются в силе применительно к расстройству поведения и агрессии детей, а возможно, и к другим формам девиантности, таким как злоупотребления алкоголем и наркотиками (Loeber, Stouthamer-Loeber, 1986). Роль семьи подчеркивается также тем обстоятельством, что явное меньшинство семей ответственно за большую долю преступлений. Например, к тому времени, когда мальчики, наблюдавшиеся в Кембриджском исследовании, достигли взрослости, на 4,696 семей приходилось 48 0/0 судимостей (West, 1982). Однако теоретическое значение связи между семейными переменными и текущей либо последующей делинквентностью остается гипотетическим по нескольким причинам.
Во-первых, эта связь, как правило, не слишком сильная. В Кембриджском исследовании большинство семейных переменных переставало коррелировать с делинквентностью по данным самоотчетов после исключения официально зарегистрированной делинквентности, свидетельствуя о том, что вклад семьи в делинквентность может преувеличиваться вследствие повышенного внимания полиции к известным ей делинквентным семьям. Вряд ли этим можно объяснить связь между делинквентностью и характером внутрисемейных интеракций, которая также обнаруживается в случае расстройства поведения у более младших детей (Rutter, Giller, 1983), но этот результат привлекает внимание к относительно малой доле дисперсии, объясняемой семейными факторами.
Во-вторых, относительная важность и независимость различных переменных остается неясной. В своем метаанализе Лоэбер и Стоутамер-Лоэбер (Loeber, Stouthamer-Loeber, 1986) обнаружили изменения относительной прогнозирующей силы переменных в зависимости от того, проводились ли исследования параллельно или продольно, но функциональные переменные, такие как родительский надзор, родительское отвержение и взаимный родительско-детский интерес и участие, были при всех условиях более сильными предикторами, чем структурные переменные. Тем не менее семейные переменные не являются независимыми. Мак-Корд (McCord, 1979) нашел доходящие до 0,40 корреляции между родительской девиантностью, родительским надзором, конфликтом и аттитюдами к своему ребечу, а Паттерсон и Стоутамер-Лоэбер (Patterson, Stouthamer-Loeber, 1984) сообщают о корреляциях от 0,14 до 0,73 между родительским надзором, эффективностью дисциплинарных мер, использованием социального подкрепления и решением проблем.
Эту взаимозависимость еще предстоит распутать, однако комбинация переменных имеет тенденцию сильнее коррелировать с делинквентностью, чем каждая переменная в отдельности. Например, делинквентность и расстройство пове-
![]()
дения более вероятны, когда отвергающими являются оба родителя, чем когда таковым оказывается один из них (Rutter, 1971), а надзор сильнее связан с делинквентностью в контексте родительской криминальности (Wilson, 1980; West, 1982) или отвержения со стороны матери (Patterson, Stouthamer-Loeber, 1984), чем при отсутствии этих факторов. Носят ли эти эффекты аддитивный или мультипликативный характер неясно, но некоторые исследователи использовали комбинации переменных для предсказания делинквентности. Индекс прогнозирования Глюка, в котором учтены материнская любовь, отцовская любовь, материнский надзор, дисциплинарные меры отца и семейная сплоченность (Glueck, Glueck, 1950, 1964), например, предсказывает последующую делинквентность на уровне значительно выше случайного (Loeber, Stouthamer-Loeber, 1986). В Кембриджском исследовании низкий семейный доход, большой размер семьи, неудовлетворительное воспитание детей, низкий коэффициент интеллекта и родительская криминальность были относительно независимыми предикторами делинквентности. Из 63 мальчиков, которые были «уязвимы», поскольку их семьи отвечали трем или более из указанных критериев, 46 (73 0/0) имели судимости в возрасте до 32 лет, по сравнению с 30,7 % оставшихся мальчиков (Farrington, 1990). Однако хотя эта связь и высокозначима, больше двух третей делинквентов не происходят из групп высокого риска. Сходным образом, Колвин с коллегами установили (kolvin et al., 1988), что более половины из тех, кто испытал одну или более форм депривации (нестабильность брака, болезнь родителей, отсутствие заботы, социальная зависимость? скученность, вызванная плохими жилищными условиями, и плохой материнский уход), впоследствии представали перед уголовным судом, однако более двух третей преступников из выборки не были депривированы. Это снова указывает на умеренный вклад семейных переменных в делинквентность. В-третьих, ни в одном случае не был доказан причинный характер этой связи, и корреляция семейных факторов с делинквентностью может отражать влияние третьего фактора, например генетических факторов или темперамента ребенка. С другой стороны, плохое воспитание может быть результатом стресса, созданного такими структурными факторами, как бедность и плохие жилищные условия или делинквентность самого ребенка. Сам процесс, посредством которого внутрисемейные интеракции могут способствовать девиантным тенденциям, остается пока неясным.
В теориях научения критическим фактором считается степень оперативности и эффективности родительских дисциплинарных мер (Trasler, 1978; Patterson, 1982, 1986). Паттерсон считает неумелое родительское руководство поведением ребенка главным причинным фактором. Оно связано с недостаточными умениями осуществлять текущий контроль за поведением ребенка, формулировать и устанавливать правила, наказывать за проступки, сообразуясь с обстоятельствами, подкреплять соблюдение ребенком правил и преодолевать разногласия путем переговоров, в результате чего ребенок научается девиантным способам удовлетворения своих потребностей. Подобным же образом, при отсутствии участия и нарушенной коммуникации родители не могут передать своим детям нормативные ценности и навыки решения проблем (Snyder, Patterson, 1987). Антисоциальный ребенок не только неприятен для сверстников и учителей при поступлении в школу, ему также не хватает совершенно необходимых навыков самопомощи, установления близких отношений и совместной учебной деятельности. В резуль-
![]()
тате — плохая школьная успеваемость, дальнейшее отвержение как семьей, так и сверстниками и низкая самооценка, и все это ускоряет дрейф к делинквентности. Акцент на родительских навыках согласуется с теорией контроля, так как именно семья оказывается не способной упрочить обязательства ребенка перед общественным порядком.
Другим фактором может быть наличие возможностей для ребенка развивать девиантные стили поведения вследствие моделирования девиантности родителей либо сиблингов. Однако и теории социального научения, и теории привязанности предсказывают, что распад отношений зависимости имеет результатом не только враждебность ребенка, но и сниженную мотивацию к идентификации с родителем или к подражанию ему. Было замечено, что делинквенты мужского пола на самом деле не склонны принимать своих родителей в качестве ролевых моделей (Bandura, Waltes, 1959; Canter, 1982b).
Еще одна возможность связана с тем, что отсутствие родительской любви, которая является самым важным фактором, и сопутствующее отвержение ребенка родителями, по всей видимости, представляет собой один из наиболее сильных предикторов делинквентности. К такому выводу подводят и психодинамическая теория, и теория контроля, но это также согласуется с предположениями относительно плохих родительских умений и возможностей моделирования. Навыки не применяются механически, но скорее зависят от мотивации к их использованию. Родители, которые считают своих детей отвратительными, обычно редко взаимодействуют с ними позитивным образом и мало внимания уделяют их социальному воспитанию. И наоборот, дети редко подражают родителям, которые холодны или враждебно настроены по отношению к ним. К тому же они больше подвержены различным влияниям вне дома.
Пик делинквентности приходится на последние годы обязательного среднего образования и на период, непосредственно следующий за ними. Академическая неуспеваемость в это время связана с повышенными рисками делинквентности, оцениваемыми как по критериям официальной статистики, так и по данным самоотчетов (Hirsci, 1969; Elliott, Voss, 1974). Взрослые преступники также чаще имеют низкий уровень образования (Thornberry, Farnworth, 1982). Однако роль школы как причинного фактора остается неясной. Некоторые теоретики полагают, что система образования способствует возникновению делинквентности, навязывая стандарты среднего класса молодежи из рабочего класса, которая не желает их принимать (Cohen, 1955). Радикальные криминологи идут еще дальше, утверждая, что всеобщее обязательное обучение было задумано для формирования у большинства повиновения и готовности выполнять повседневные рутинные задания на производстве: те, кто мешает этому и становится делинквентом, просто восстают против требования заниматься отчужденным трудом (Liazos, 1978).
Хотя мы располагаем данными, что неуспевающие ученики становятся отчужденными и враждебно настроенными по откошению к школьной системе, и они действительно чаще прогуливают уроки и раньше покидают школу, некоторые теоретики считают особенности неуспевающих учеников, такие как ограниченная интеллектуальная способность (Hirschi, Hindelang, 1977) или отсутствие соци-
![]()
альных навыков, необходимых для соответствия общим требованиям к классу и для формирования отношений со сверстниками (Patterson, 1986; Patterson, DeBarshye & Reynolds, 1989; Dishion et al., 1991), более важными факторами по сравнению со школьной системой как таковой. Связь интеллектуального развития и других характеристик с делинквентностью подробно рассматривается в главе 8. Здесь важно отметить, что в этих анализах школьные факторы полагаются относительно постоянными, и школа не рассматривается как играющая активную роль. Однако сложно спорить с тем, что школы различаются между собой по образовательным приоритетам и социальной организации и могут в разной степени способствовать делинквентности или предотвращать ее возникновение.
Известно, что школы широко варьируют в зависимости от степени делинквентности их учеников, однако не совсем ясно, является ли это следствйем происходящих в школе процессов или чего-либо еще. В исследовании 20 средних школ, расположенных в старой части Лондона, Пауэр с коллегами (Power et al., 1967) установили, что годовые показатели делинквентности (количество явок в суд) варьируют от менее чем 1 до 19 0/0, и они практически не менялись в течение шести лет. Эти вариации не были связаны с показателями делинквентности на территории, обслуживаемой конкретной школой, что свидетельствует о вкладе внутришкольных факторов в обнаруженные вариации. Рейнольдс (Reynolds, 1976) также отметил различие показателей делинквентности в девяти средних школах Уэльса, которое не было обусловлено принадлежностью к социальному классу или уровнем способностей поступающих в эти школы детей, что снова указывает на процессы внутри школы. Данные Кембриджского исследования, однако, не подтверждают такие выводы (Farrington, 1972). Шесть начальных школ, из которых была составлена изучаемая когорта, не различались по уровню последующей делинквентности среди своих учеников, однако значительная дисперсия показателей была обнаружена в 13 средних школах, в которые перешло большинство мальчиков. Впрочем, школы с высокими показателями делинквентности приняли большее количество мальчиков, оцененных как «трудные» («troublesome») учителями в восьмилетнем возрасте и сверстниками в десятилетнем возрасте. Эта переменная хорошо предсказывала последующую делинквентность: 44,696 наиболее трудных мальчиков стали делинквентами, по сравнению с 3,5 0/0 наименее трудных. Поскольку последовательность перехода от «трудности» к делинквентности не зависела от типа школы, которую посещал мальчик, Фаррингтон пришел к выводу, что школы как таковые не имеют отношения к возникновению делинквентности. Он объяснял более высокие показатели делинквентности в некоторых школах характерными особенностями посещающих их мальчиков, что, возможно, отражает выбор родителями школ с лучшей репутацией или отбор школами мальчиков с хорошим поведением.
Общий вывод Фаррингтона подтвердили Раттер с коллегами (Rutter et al., 1979), исследовавшие 12 общеобразовательных средних школ в старой части Лондона. Они изучали связи между некоторыми переменными учебного процесса, такими как компетентность учителей, использование вознаграждений и наказаний, участие учеников в жизни школы, и четырьмя показателями результатов (прогулы, поведение в школе, успехи в учебе, делинквентносрь), контролируя профес-
![]()
сию и уровень образования родителей на момент поступления ребенка в школу. Уровень делинквентности в школе оказался связанным прежде всего с приемом детей: школы с более высоким уровнем делинквентности набирали существенно меньше детей с высокими способностями. На другие показатели результата прием детей оказывал относительно мало влияния, но все четыре показателя результата учебного процесса значимо коррелировали на совокупном (т. е. общешкольном) уровне, и хотя делинквентность лучше всего предсказывалась набором детей, она также была значимо связана со следующими переменными учебного процесса: высокой автономией учителей в планировании учебных курсов; тенденцией учителей преподавать только собственный предмет; варьируемыми, а не групповыми стандартами дисциплины; частыми вызовами к доске и оставлением после уроков в качестве наказания; нерегулярным использованием похвалы учеников за работу; отсутствием ожиданий, что ученики будут использовать свою находчивость, а также низкой стабильностью малых групп учеников.
Это исследование критиковалось за атеоретичный выбор переменных учебного процесса (см.: Graham, 1988), а также за то, что полученные результаты не позволяют сделать непосредственные социально-психологические выводы и действовать согласно им. Тем не менее складывается впечатление, что хотя сдвиг в сторону делинквентности в наборе учеников в школу влияет на уровень делинквентности в ней, некоторые характеристики самой школы могут оказывать влияние на возрастание делинквентности. Результаты других исследований также носят предположительный характер. Например, проведя включенное наблюдение в одной средней школе, Харгривз (Hargreaves, 1980) предположил, что, некоторые формы распределения учащихся по классам согласно их способностям поддерживали формирование предрасполагающей к делинквентности субкультуры. Рейнолдс (Reynolds, 1976) отметил, что школы с высоким уровнем делинквентности обычно оказываются принудительными и косными в том, что касается дисциплины, тогда как школы с низким уровнем делинквентности чаще достигают «перемирия» в ходе переговорного процесса, в котором некоторые правила, такие как запрет курения или посещения определенных мест за пределами школы, не навязываются силой.
Харгривз (Hargreaves, 1980) объединил эти различные данные, пытаясь обрисовать характерные признаки школ с высоким уровнем делинквентности. Он отмечает, что имеет место сложное взаимодействие, в котором дух, или атмосфера, школы, ее социальная организация и интеракции на уровне класса влияют друг на друга, и что уровень делинквентности школы может быть непреднамеренным результатом политических решений, принимаемых в процессе борьбы за академическую репутацию и порядок в школе. «Типичная» школа с высоким уровнем делинквентности, полагает он, расположена в относительно неблагоприятном районе. И хотя школьный отбор учеников или выбор родителей может привести к «снятию сливок» в виде способных учеников, более важной является убежденность преподавательского состава в низких способностях учащихся, следствием которой является низкая преданность учителей школе и высокая текучесть кадров.
На этом фоне наиболее важные политические решения касаются подбора учеников и преподавателей, а также того способа, которым школа поддерживает свою репутацию. Во-первых, гибкая система распределения учащихся на потоки, при которой они регулярно перемещаются на более высокий или более низкий
![]()
уровень в зависимости от академических достижений, все больше и больше разделяет наиболее и наименее способных учеников. В отличие от стабильной системы распределения по классам, при которой образуются относительно разнородные группы сверстников, гибкая система в большей мере способствует образованию полярных субкультур: предрасполагающей к делинквентности субкультуры в низшем учебном потоке и академической субкультуры («снобы» и «зубрилы») в высшем учебном потоке. Она также в более явной форме навешивает некоторым ученикам ярлыки неудачников или девиантов. Во-вторых, эта поляризация усиливается, когда и учителя распределяются по потокам таким образом, что менее квалифицированные из них назначаются на работу с низшими потоками. Для таких учителей в большей мере характерны негативные ожидания относительно своих учеников, и если им предоставляется возможность устанавливать правила, они начинают «провоцировать на девиантность» или жестко контролировать класс. Принуждение неуклонно соблюдать правила, которые ученики не считают обоснованными, например запрещение приходить в школу не в форме, увеличивает «статусную депривацию» старшеклассников низшего потока, поскольку им отказывается в статусе взрослых, к которому они стремятся, и это усиливает их противостояние школе.
Харгривз признает, что такой процесс является умозрительным и доказательства в поддержку этой точки зрения остаются фрагментарными (Graham, 1988). Тем не менее есть некоторые релевантные данные, касающиеся эффектов распределения, стигматизации и дисциплинарных мер, применяемых учителями, которые Харгривз счел наиболее важными. Во-первых, распределение Пб потокам не единообразно связано с делинквентностью. Финлейон и Лафран (Finlayon, Loughran, 1976) установили, что ученики из высших потоков были больше ориентированы на учебные цели в школах как с низкой, так и высокой делинквентностью, но делинквенты преобладали в низших потоках только в школах с низкой делинквентностью. Хотя в некоторых американских исследованиях указывалось на то, что распределение по потокам способствует делинквентности, Виатровски с коллегами (Wiatrowski et al., 1982) не смогли подтвердить этого в лонгитюдном исследовании делинквентности по данным самоотчетов.
Есть некоторые доказательства того, что стигматизация учеников как девиантов связана с делинквентностью. В своем лонгитюдном исследовании американских учащихся средних школ Эллиотт и Восс (Elliott, Voss, 1974) обнаружили более высокие уровни делинквентности по данным самоотчетов у тех учеников, которые впоследствии бросили школу, однако их делинквентность снизилась после ухода из школы. Это, возможно, говорит о том, что антисоциальному поведению способствовала «роль неудачника», навязанная школой. Они предположили, что антисоциальное поведение было детерминировано сочетанием слабой успеваемости и реакцией школы на нее. Эту точку зрения подтверждают Менард и Морс (Menard, Morse, 1984), которые нашли, что сознавание учеником его негативного ярлыка в школе и общение с делинквентными сверстниками объясняли значительно большую долю дисперсии в делинквентности по данным самоотчетов у тринадцатилетних подростков, чем IQ и ШКОЛЬНаЯ успеваемость. Было также устаноклено, что школьная успеваемость связана с ожиданиями учителей, и это говорит о том, что иное обращение с теми, у кого низкие способности, может оказывать значимое воздействие на поведение (Jussim, 1986).
![]()
Дисциплинарным мерам, применяемым учителями, больше внимания уделялось в связи с поведением в классе, чем с делинквентностью. Тем не менее такие меры могут оказывать непрямое влияние на делинквентность, поскольку существует корреляция между плохим поведением в школе и делинквентностью за ее пределами (Graham, 1988). Согласно некоторым данным, в школах с высокой делинквентностью преобладает жесткая дисциплина, поскольку ученики в таких школах часто описывают своих учителей как авторитарных и использующих силовые методы (Finlayson, Loughran, 1976). Исследования модификации поведения в классе также высвечивают роль компетентности учителя в управлении классом, который может содействовать мешающему поведению или контролировать его. Грэхем (Graham, 1988), например, отмечает, что эффективная система принуждения к соблюдению правил требует применять наказания таким образом, чтобы они были систематическими, предсказуемыми и к тому же незамедлительно и согласованно налагаемыми учителями, непосредственно работающими с наказываемыми учениками и проявляющими неподдельную заботу о них, — схема, весьма напоминающая авторитетный стиль родцтельского поведения. И снова, ожидания учителей могут иметь решающее значение. У учителей быстро формируются ожидания относительно будущей компетентности их учеников, и они начинают обращаться с ними по-разному в зависимости от своих ожиданий хорошей или плохой успеваемости (Jussim, 1986). Ученики, от которых учителя не ждут больших успехов, будут больше критиковаться за неудачи, меньше поощряться за успехи и меньше поддерживаться эмоционально.
Таким образом, предварительный вывод заключается в том, что учебный процесс, который превращает некоторых учеников в «маргиналов», может способствовать их скатыванию к делинквентности. И наоборот, некоторые происходящие в школе процессы могут тормозить продвижение по этому пути. Это явно наводит на мысль о сложных взаимодействиях школьных процессов с индивидуальными особенностями учеников. Однако по-прежнему остается неизвестным, насколько разница в школах больше способствует риску развития делинквентности, чем 60лее ранние предрасполагающие факторы личного и семейного характера. Психологические механизмы, опосредующие воздействие школы на делинквентность, также неясны. Согласно анализу Харгривза, делинквентность порождается враждебностью к школе, ставящей препятствия на пути к статусу взрослого, который поддерживается антишкольной культурой. Другие ученые предполагают, что неудачи в школе снижают самооценку, которая восстанавливается при получении одобрения со стороны группы девиантных сверстников (см. главу 8). Также вероятно, что плохое поведение в школе мотивировано поиском стимуляции на фоне требований учебного заведения, которые отдельными взрослеющими учениками воспринимаются как все более неуместные и вызывающие скуку (Graham, 1988).
Вне зависимости от природы испытываемой к школе антипатии, поддержка сверстников считается определяющим фактором делинквентных последствий. В огромном числе исследований было установлено, что одним из самых сильных предикторов делинквентности у подростков является делинквентность близких друзей. Большинство преступлений несовершеннолетних совершается в группах. В исследовании явок в суд в штате Мериленд, например, Олтман (Aultman, 1980) об-
наружил, что примерно две трети преступлений были совершены не в одиночку, преимущественно малыми группами в два-три человека. Однако приговоры в совершении групповых преступлений чаще выносились в отношении ненасильственных деяний по сравнению с насильственными актами (65 0/0 против 43), а совершение преступлений в одиночку было больше распространено среди взрослых преступников (Zimring, 1981). В Кембриджском исследовании совершение преступлений в соучастии с другими, включая родных братьев, также было наиболее характерно для более юных делинквентов, причем соучастники обычно проживали рядом друг с другом и близко от места преступления (Farrington, West, 1990). Эта связь делинквентности с групповыми процессами, как считают, отражает 60лее общий переход влияния от родителей к сверстникам с началом подросткового возраста. Однако, как и для случаев семейных и школьных коррелятов, причинный эффект точно не установлен. Неясным остается не только то, как образуются делинквентные группы, но нет также согласия по поводу того, насколько такие группы влияют на склонность своих членов к участию в преступлениях.
Однако, по мнению Паттерсона, отвержение сверстниками агрессивных и неумелых в социальном плане подростков побуждает их присоединиться к сверстникам, находящимся в сходном положении; было установлено, что связь с девиантными сверстниками значимо коррелирует с дефицитарностью социальных навыков (Snyder, Dishion & Patterson, 1986), а также с отвержением сверстниками и неуспеваемостью у мальчиков предподросткового и раннего подросткового возраста (Dishion et al., 1991). С этим согласуются и выводы других исследователей, согласно которым дети, отвергаемые их ровесниками в школе, более агрессивны и деструктивны, а отвергаемые и агрессивные дети чаще имеют проблемы с приспособлением в будущем, в частности встают на криминальный путь (Parker, Asher, 1987).
И все же, если агрессивные дети социально изолированы и не
имеют необходимых навыков общения, их отношения с группой сверстников должны бы
по идее быть непрочными, что противоречит предполагаемой роли такой группы в
возникновении делинквентности. В исследовании на основе самоотчетов, которое
касалось связи дружбы и делинквентности (Giordano, Cernkovich & Риф, 1986),
был поставлен вопрос о способности делинквентов формировать дружеские
отношения. Как оказалось, большинство делинквентов не были социально
изолированными и без труда могли завязывать и поддерживать дружеские связи,
тогда как более послушные подростки были наименее привязаны к своим друзьям.
Другие авторы полагают, что хотя агрессивные дети менее популярны среди
сверстников, они не находятся в социальной изоляции и склонны завязывать
дружеские отношения с такими же агрессивными детьми (Cairns et al., 1988).
Ходжинс и ![]() Мак-Кой (Hodgins, МсСоу, 1989) также
отметили, что отвергнутые сверстниками, но неагрессивные дети отличалиёь
большей дефицитарностью своих социальных интеракций, чем отвергнутые, но
агрессивные дети. Таким образом, связи отвержения со стороны сверстников,
агрессии и навыков межличностного общения с образованием делинквентной группы
нуждаются в дальнейшем изучении.
Мак-Кой (Hodgins, МсСоу, 1989) также
отметили, что отвергнутые сверстниками, но неагрессивные дети отличалиёь
большей дефицитарностью своих социальных интеракций, чем отвергнутые, но
агрессивные дети. Таким образом, связи отвержения со стороны сверстников,
агрессии и навыков межличностного общения с образованием делинквентной группы
нуждаются в дальнейшем изучении.
![]()
В Теориях субкультуры предполагается, что подростки пассивны
при приеме в делинквентные группы, которые по-своему социализируют их,
подготавливая к делинквентному поведению. Согласно же теории социального
научения, подросток активно выбирает себе товарищей на основе личных качеств.
Так, те, кто выбирают себе плохо подготовленных к социальной жизни товарищей,
сами плохо подготовлены к ней, что является результатом предыдущего воспитания
(Вапdura, Walters, 1963; Patterson, 1986; Dishion et al., 1991). Это
согласуется с традиционным представлением, что межличностная аттракция зависит
от воспринимаемых сходств в аттитюдах и поведении. Доказательство того, что
имеет место ![]() двусторонний процесс — делинквентные
группы выбираются индивидуумами и в то же время вырабатывают у своих членов
девиантное поведение, — было предоставлено лонгитюдным исследованием Кендела
(kandel, 1978), который изучал
двусторонний процесс — делинквентные
группы выбираются индивидуумами и в то же время вырабатывают у своих членов
девиантное поведение, — было предоставлено лонгитюдным исследованием Кендела
(kandel, 1978), который изучал ![]() степень сходства в самоотчетах
подростковых дружеских пар в том, что касается употребления марихуаны,
политической ориентации, образовательных устремлений и делинквентности. На
первичное сходство как детерминанту межличностной аттракции указывал тот факт,
что дружеские пары, которые позже распались, демонстрировали меньше сходства,
чем пары, образовавшие со временем крепкие дружеские связи. Дружеские пары,
которые были устойчивыми, демонстрировали больше сходства с течением времени,
по-видимому, продолжая оказывать взаимное влияние.
степень сходства в самоотчетах
подростковых дружеских пар в том, что касается употребления марихуаны,
политической ориентации, образовательных устремлений и делинквентности. На
первичное сходство как детерминанту межличностной аттракции указывал тот факт,
что дружеские пары, которые позже распались, демонстрировали меньше сходства,
чем пары, образовавшие со временем крепкие дружеские связи. Дружеские пары,
которые были устойчивыми, демонстрировали больше сходства с течением времени,
по-видимому, продолжая оказывать взаимное влияние.
Однако некоторые исследователи доказывают, что группа сверстников не играет никакой роли в формировании склонности к делинквентности, которая складывается до образования группы. Глюк и Глюк считали (Glueck, Glueck, 1950), что делинквентные группы сверстников формируются из «птиц одного полета», равно как и Хирши (Hirschi, 1969) в своей первоначальной формулировке теории контроля предполагал, что девиантные сверстники относительно несущественны для делинквентности. Решающими факторами признавались слабые связи с семьей, отсутствие привязанности и обязательств перед семьей, школой и окружающими людьми, что оставляет подростка «свободным к девиации». Тем не менее позднее Хирши пришел к выводу, что наличие делинквентных друзей увеличивает степень делинквентности даже в случае сильных связей с семьей, и признал„ что теория контроля недооценивала влияние делинквентной группы сверстников.
Объединив теории напряжения, контроля и социального научения, Эллиотт (Elliott et al., 1985) с коллегами пытались доказать, что развитие сильных связей с девиантными сверстниками является наиболее прямой и ближайшей причиной возникновения и поддержания делинквентного поведения. Этому способствуют слабые связи с нормалЬно ведущими себя другими, на ослабление которых в свою очередь влияют состояния напряжения, неадекватная социализация и социальная дезорганизация. Их лонгитюдное исследование делинквентности по данным самоотчетов поддерживает эту модель, свидетельствуя о том, что эффекты переменных напряжения и контроля являются непрямыми и опосредуются влиянием этих переменных на формирование привязанностей к девиантным сверстникам. Выводы Эллиота согласуются с ранее полученными данными, согласно которым девиантные сверстники влияют на делинквентное поведение, но некоторые подростки при этом более чувствительны к «вербовке» делинквентными группами вследствие неадекватной социализации и фрустраций, испытываемых в семье и школе.
Хотя это исследование, по-видимому, несколько прояснило роль группы сверстников в возникновении и поддержании делинквентности, два вопроса по-прежнему остаются без ответа. Во-первых, насколько группа сверстников составляет необходимое или достаточное условие развития подростковой делинквентности? Как было отмечено ранее, значительная часть делинквентов (хотя их и меньшин-
Работа вступление в брак
![]()
ство) совершают преступления в одиночку, и Эллиотт с коллегами (Elliott et al., 1985) признали, что их модель объясмла меньший процент дисперсии показателей совершения серьезных преступлений и приема сильных наркотиков по сравнению с объясняемым ею процентом дисперсии показателей общей делинквентности и употребления марихуаны. Хотя группы сверстников могут быть самым распространенным путем к делинквентности, они не обязательно имеют самое большое значение для всех типов преступлений и всех типов преступников. Во-вторых, если те, кто является членами делинквентных групп, уже предрасположены к делинквентности, какой вклад вносит группа сверстников в научение делинквентности, в отличие от простого содействия совершению делинквентных действий? Как предполагают Готфредсон и Хирши (Gottfredson, Hirshi, 1990), группа сверстников может облегчать совершение преступлений, но криминальная склонность, вероятно, является сформированной уже к началу подросткового возраста.
Снижение уровня преступности в период после окончания средней школы коррелирует с переходом от подросткового возраста к взрослости. Обычно принято считать, что это связанный с наступлением зрелости период «исправления» делинквентов, которому способствуют изменяющиеся взаимоотношения. Так, начало трудовой жизни или вступление в брак могут не только уменьшить влияние со стороны прежней группы сверстников, но и усилить приверженность к общеустановленным нормам поведения. И наоборот, безуспешные поиски работы могут поддерживать криминогенные влияния, а потеря работы может привести к финансовым трудностям, которые могут способствовать преступному поведению.
Самый высокий уровень безработицы обычно характерен для групп с наиболее высокими показателями делинквентности, например, бросивших школу юношей и девушек или лиц, живущих в городских трущобах. Тем не менее причинное влияние безработицы на криминальное поведение остается под вопросом. Психологические эффекты безработицы включают депрессию, тревогу и апатию, возникающие, возможно, вследствие снижения самооценки или потери субъективного контроля над происходящим; естественно, это зависит от возраста и от позиции на рынке рабочей силы. Например, Джексон и Уорр установили (Jackson, Warr, 1984), что безработные мужчины по сравнению с работающими имели более высокие показатели по Опроснику общего здоровья (General Health №estionnaire), оценивающему степень психологической дисфункции. Однако влияние безработицы было слабее у тех, кто недавно закончил школу, и сильнее у тех, кто работал уже достаточно давно. Финансовые затруднения также являются важным, хотя и менее сильным медиатором.
Насколько такие эффекты способствуют криминальному поведению среди безработных — неизвестно, однако в традиционных криминологических теориях предполагается связь между занятостью и преступлением. Теория напряжения предсказывает, что отсутствие возможностей для трудоустройства порождает фрустрацию и повышает привлекательность преступного образа жизни, а теория контроля рассматривает постоянную занятость как необходимое условие усиления социальной связи за счет повышения «ставок» на подчинение нормам и пра-
![]()
вилам. Помимо воздействия на склонность к криминальному поведению на индивидуальном уровне, условия рынка труда могут также оказывать непрямое воздействие на уровень преступности за счет влияния на общинные контролирующие органы. Таким образом, безработица может способствовать росту криминальной активности как среди безработных, так и среди работающих (Allan, Stefensmeier, 1989). Результаты экономического анализа на основе модели рационального выбора также показывают, что низкая доступность законных видов работ является «рыночным» фактором, который будет увеличивать уровень преступности — альтернативного источника материальных благ (Palmer, 1977).
Однако доказательства связи безработицы с совокупными показателями преступности являются спорными. Аллан и Стефенсмайер (Allan, Steffensmeier, 1989) предположили, что существуют другие важные свойства рынка труда в дополнение к уровню занятости и что они по-разному действуют на различные возрастные группы или различные виды преступлений. Они проанализировали связи уровня арестов по данным UCR[18] для четырех видов имущественных преступлениЙ с отдельными индексами условий рынка труда для несовершеннолетних и молодых взрослых. Более высокие уровни арестов оказались связанными с наличием работы (уровнем безработицы) только среди несовершеннолетних. Что касается молодых взрослых, то здесь существенным фактором, влияющим на уровень арестов, было качество работы по найму (низкая оплата, отсутствие полной занятости). Для тех, кто только закончил школу, отсутствие работы как таковой может повысить привлекательность криминальной деятельности, в то время как для молодых взрослых бесперспективная работа за скудное вознаграждение может уменьшить заинтересованность в следовании общеустановленным нормам и правилам.
Доказательства прямого воздействия безработицы на криминальное поведение на индивидуальном уровне также неоднозначны. Эллиотт и Восс (Elliott, Voss, 1974) обнаружили незначительное снижение уровня делинквентности по данным самоотчетов среди бросивших школу молодых людей, которые получили постоянную работу и женились, а в Кембриджском исследовании юноши в возрасте от 15 до 18 лет совершали больше преступлений с целью поправить финансовое положение в периоды безработицы, чем когда они работали (West, 1982). Есть также некоторые основания полагать, что выплаты пособия по безработице только что освободившимся заключенным снижают уровень рецидивизма (Dale, 1976; Rauma, Berk, 1987). Однако, хотя эти данные указывают на то, что опыт безработищ может усиливать мотивацию к совершению преступления или ослаблять контроль, безработица может быть результатом выбора или следствием личных качеств человека. Например, делинквенты не только чаще покидают школу с меньшим количеством знаний, навыков и умений, но также более склонны к развлечениям и менее заинтересованы в получении постоянной работы (Gottfredson, Hirschi, 1990). В Кембриджском исследовании делинквенты успели сменить много мест работы к 18 годам. В возрасте 32 лет те из них, кто имел судимость, обычно были заняты на низкооплачиваемой работе и имели длительные периоды безработищ, а те, кто постоянно совершал преступления, характеризовались минимально необходимым числом регистраций работы по найму (Farrington,
Защитные факторы
![]()
West, 1990). Торнберри и Фарнворт (Thornberry, Farnworth, 1982) также установили, что делинквентность среди молодых взрослых — как официально зарегистрированная, так и по данным самоотчетов — была связана с нестабильностью работы, но не с профессиональным уровнем или уровнем дохода. Следовательно, безработица может влиять на совершение преступлений, но и сама может быть обусловлена влиянием криминальной склонности.
Согласно данным Кембриджского исследования, простое однонаправленное влияние супружества на криминальное поведение маловероятно. Найт, Осборн и Вест (knight, 0sborn & West, 1977) не выявили различий в уровне делинквентности (как официальной, так и по данным самоотчетов в возрасте 21 года) между вступившими в брак и одинокими. Однако вступление делинквентов в брак чаще было связано с незапланированной беременностью, и среди тех, кто имел делинквентную предысторию, большинство жили вместе как муж и жена, но без регистрации брака. Интервью, проведенные с ними через три года (в 24 года), показали, что влияние женитьбы было сведено на нет тенденцией делинквентов жениться на делинквентных девушках и что у вступивших в брак делинквентов вероятность попасть на скамью подсудимых только повысилась (West, 1982). К тому времени, когда участники этого исследования достигли возраста 32 лет, большинство из тех, кто имел судимости, были разведены или жили раздельно либо часто конфликтовали со своими супругами/сожительницами (Farrington, West, 1990). Таким образом, устойчивый брак может оказать положительное воздействие на криминальное поведение либо за счет уменьшения контактов с делинквентными ровесниками или возможностей для совершения преступления, либо за счет увеличения склонности следовать общепринятым правилам и нормам жизни. Однако на устойчивость брака, по всей вероятности, влияет криминальность супругов.
Защитные факторы
Условия, коррелирующие с делинквентностью, рассматриваются как переменные риска постольку, поскольку пребывание в них увеличивает вероятность криминального поведения. Так как множество людей, прошедших через бедность, разлад в семье и высокоделинквентные школы, не стали делинквентными, встает вопрос о том, что отличает тех, кого можно назвать устойчивыми вопреки неблагоприятным обстоятельствам, от тех, кто тоже уязвим, но поддался им. Противодействие риску может исходить от личных диспозиций, взаимоотношений, системы социальной поддержки или событий, которые взаимодействуют с переменными риска и снижают вероятность делинквентного поступка (Rutter, 1987; Werner, 1989). Например, принадлежность к женскому полу в этом смысле безусловно защитный фактор, а постоянная работа может защитить предрасположенных к делинквентности молодых взрослых от продолжения криминальной карьеры.
Только несколько исследований были посвящены выявлению факторов, которые противодействуют или снижают риск делинквентности среди тех, кто растет в неблагоприятных условиях, например в семьях с делинквентными членами или в криминогенных микрорайонах. К диспозиционным переменным, которые могут выполнять предохранительную функцию, относятся интеллектуальные способности, сильная мотивация достижения и положительная самооценка (см. главу 8), а в некоторых случаях и факторы темперамента. В Кембриджском исследовании
![]()
те, кто входил в группу риска по делинквентности, но впоследствии не был осужден, обычно имели мало друзей в возрасте 8 лет или не имели их вовсе и в дальнейшем чаще выбирали уединенный образ жизни (Farrington et al., 1988). Защитные процессы неясны, но, по-видимому, включают ограниченное общение с делинквентными сверстниками и меньшее количество возможностей для делинквентных действий, поскольку такие индивидуумы редко выходят из дома по вечерам.
Поддерживающие отношения также могут уменьшать воздействие факторов риска за счет ограничения возможности контакта с делинквентами и подкрепления приверженности к нормальному образу жизни. В неблагополучных семьях, например, материнская любовь уменьшает криминогенные эффекты отцовской агрессии, пермиссивности и нелогичности наказаний (McCord, 1986). В Кембрйджском исследовании уязвимые, но наиболее социально успешные дети чаще позитивно оценивались матерями в десятилетнем возрасте (Farrington et al., 1988). ОпятЬ-таки, в семьях с делинквентным ребенком неделинквентные сиблинги чаще контактировали со взрослыми, являлись членами клубов и посещали воскресную школу (Reitsma-Street et al., 1985). Защитное влияние значимого взрослого было также установлено Россом и Глейзером (Ross, Glaser, 1972). Они сравнили взрослых афро- и мексиканоамериканцев, проживавших в гетто, которые имели постоянную работу и избежали проблем с законом, с теми, которые жили по соседству, но были неуспешны в этом отношении. Они нашли различия между группами в аспекте лояльности к двум контрастирующим субкультурам: первая проповедует ценности достижения, работы и принадлежности к «средним американцам», а вторая является уличной культурой силы, насилия и отсутствия долговременных целей. Данные проведенных интервью позволили предположить, что значимой детерминантой принадлежности к первой субкультуре был эффективный родитель или, в некоторых случаях, взрослый вне дома. Схожие факторы отношений отличали матерей из группы риска жестокого обращения с ребенком, но которые обращались с ним нормально, от матерей, жестоко обращавшихся со своими детьми (Egeland, Jacovitz & Stroufe, 1988).
Раттер (Rutter, 1987) отмечает, что многие защитные процессы связаны с ключевыми «поворотными моментами» в жизни людей, открывающими перед ними новые возможности. Например, делинквенты, освобожденные из мест лишения свободы, реже становились рецидивистами, если обосновывались вдалеке от родного дома (Buikhuisen, Hoekstra, 1973). Результаты Кембриджского исследования также свидетельствуют о том, что мальчики, уехавшие из Лондона, впоследствии реже осуждались, чем оставшиеся в нем; их делинквентность по данным самоотчетов также снизилась (West, 1982). Смена окружающей обстановки освободила мальчиков от влияния делинквентных сверстников, и у них также стало меньше возможностей для совершения преступных действий.
Впрочем, станут ли такого рода события действительно вехами в жизни человека, зависит от реципрокного влияния личных качеств и социальных переменных, поддерживающих развитие определенного жизненного пути (Bandura, 1982). Такие двунаправленные влияния были продемонстрированы в лонгитюдном исследовании детей с гавайского острова Кауаи, которым удалось стать законопослушными успешными гражданами вопреки неблагоприятным семейным условиям (Werner, Smith, 1982; Werner, 1989). По сравнению со ставшими делинквентами до 18-летнего возраста, эти устойчивые к неблагоприятным влияниям дети чаще
Защитные факторЫ
![]()
были первыми в семье, более активными и откликающимися на призывы окружающих к общению в период младенчества и уже к 2 годам выглядели более независимыми и уверенными в себе. Они, как правило, получали больше любви и поддержки со стороны родителей, что частично зависело от их способности вызывать положительные реакции со стороны своего социального окружения. Они также чаще имели комплементарные ролевые модели, в частности отцы являлись моделями для дочерей, и устойчивые дети чаще демонстрировали принятие андрогинной половой роли. Став взрослыми, они были больше ориентированы на достижение, демонстрировали интернальный локус контроля и чаще устраивались на требующую квалификации работу. Было также установлено, что делинквенты, не ставшие преступниками во взрослом возрасте, описывались в школе как менее «трудные» и чаще происходили из целых семей.
Хотя исследования защитных факторов проливают некоторый свет на связанные с развитием процессы, участвующие в оптимальном приспособлении, они пока еще не внесли ничего нового в понимание развития криминального поведения и отражают позитивистскую точку зрения на независимые «причины». Раттер и Вернер (Rutter, Werner, 1989) указывают на то, что внимание исследователей должно быть сосредоточено именно на взаимодействии защитных факторов и переменных риска, однако ни одно исследование, проведенное по сей день, не направлялось сколько-нибудь ясной теоретической схемой, позволявшей отделить либо защитные факторы, либо взаимодействующие процессы от огромного числа возможностей. Так, Мак-Корд (McCord, 1986) сообщает о взаимодействиях между семейными переменными, коррелирующими с криминальностью, из чего следует, что некоторые переменные риска практически не дают эффекта в тех случаях, когда отсутствуют другие факторы риска. Например, отсутствие проявлений материнской любви оказывает меньшее воздействие, когда мать уверена в себе и последовательна в применении дисциплинарных мер, однако материнская забота и ласка ослабляют эффекты непоследовательного воспитания. Поскольку факторы, определяемые как защитные, являются простой противоположностью факторов риска, демонстрация таких взаимодействий мало что прибавляет к уже существующим объяснениям.
Понятия «защита» и «риск», которые отражают метафору болезни, также вводят в заблуждение, поскольку они подразумевают, что различные психологические процессы управляют социально нежелательными и ценимыми обществом исходами. Мы ведь не задаемся вопросом о том, что «защищает» от «риска» успешной карьеры. На самом деле, вопрос о том, по каким причинам индивидуумы из очевидно криминогенной среды становятся законопослушными, является частью более общего вопроса о том, какие факторы влияют на жизненный путь людей. Как отмечает Бандура (Bandura, 1982), часто это могут быть случайные встречи, которые в принципе непредсказуемы.
8 Зи 364
![]()
ГЛАВА 8
Отличительные особенности преступников
Введение
Совершение преступных деяний, очевидно, зависит от их проксимальных антецедентов и ситуационных контекстов, в которых они происходят. Однако они должны быть рассмотрены и с точки зрения личных атрибутов, которые субъект действия привносит в ситуацию. Эта глава посвящена индивидуальным особенностям, которые могут способствовать криминальности как склонность или готовность к совершению преступных деяний. Эти особенности включают социальные черты и свойства темперамента, являющиеся предметом традиционного исследования личности, однако переменные, характеризующие человека, выходят за пределы этой области и охватывают разные виды компетентности, ценности, убеждения и цели, обнаруживающие себя в истории жизни индивидуума и опосредующие воздействия нового опыта (Alston, 1975; Mischel, Mischel, 1976).
В исследованиях личности преступников использовалось более сотни психологических тестов (Waldo, Dinitz, 1967; Arbuthnot, Gordon &Jurcovic, 1987). Несмотря на то что в большинстве исследований, сравнивающих криминальные выборки с контрольными группами по стандартизованным мерам, были выявлены значимые различия, не все они были воспроизведены. Некоторые авторы общих обзоров скептически относятся к тому, что найденные различия смогут пролить свет на личные антецеденты преступности, учитывая еще и то, что эту область исследований отличает множество концептуальных и методологических недостатков.
Во-первых, во многих исследованиях выбор измерительных инструментов диктовался больше их доступностью, чем опорой на ясное теоретическое обоснование того, что связывает личностные переменные с преступностью. К примеру, MMPI широко использовался в этом контексте, однако, хотя он и обладает эмпирической полезностью в том, что касается дифференциации преступников (Gearing, 1979), он все же больше ориентирован на диагностику психопатологии, чем на оценку черт личности, и к тому же не был стандартизирован для работы с преступниками (Dietrich, Berger, 1978). Вторая проблема заключается в выборе испытуемых и определении понятия «преступник» (criminat). Чрезмерное внимание всегда уделялось лишенным свободы преступникам, которые могут и не быть репрезентативной выборкой преступников в целом, или группам, отобранным по типу преступления, который не всегда служит надежным показателем склонности к занятию такого рода деятельностью. Единичное тяжкое насильственное преступление, например, необязательно указывает на наличие устойчивой склонности к насилию (см. главу 9). Холланд, Холт и Беккет (Holland, Holt & Beckett, 1982) полагают, что только совершение имущественных преступлений демонстрирует паттерн «карьеры», для которого могут быть установлены диспозиционные корреляты. К тому же дискреционные влияния в системе уголовного правосудия подрывают надежность «рецидивизма» как показателя постоянного совершения преступлений (Repucci, Clingempeel, 1978; Hollin, Henderson, 1984).
Еще одна проблема состоит в том, что многие исследования опираются на имплицитное допущение о преступниках как однородной группе. Несмотря на дискуссии о специализации среди преступников и постоянный интерес к антисоциальной личности, имеющиеся факты свидетельствуют, что преступники различаются по своим личным свойствам (см. главу З). Следовательно, предположение о некой отдельной «преступной личности» вызывает сомнение, и сравнение совокупной (без предварительного отбора) выборки преступников с непреступниками является, по-видимому, стратегией с ограниченным выигрышем. Также маловероятно, что специфические черты, взятые в отдельности, могут быть значимыми опосредующими факторами совершения преступлеуия, однако исследования взаимодействий между личностными переменными остаются скорее исключением, чем правилом.
Интеллект, учебные достижения и познавательная деятельность
Интеллектуальная способность не перестает вызывать интерес психологической криминологии со времени ранних исследований Годдарда (Goddard, 1914) и рассматривается когнитивными теориями развития и социального научения как критический для развития фактор. Тесты IQ не охватывают весь спектр когнитивных навыков, однако политические дискуссии вокруг их использования в целях образовательного отбора затмили собой обсуждение валидности этих тестов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они измеряют значимые аспекты навыков решения задач, составляющие относительно устойчивые индивидуальные характеристики, которые, однако, не остаются совершенно неизменными на протяжении жизни индивидуума (Weinberg, 1989).
Обзоры первой половины ХХ века указывали на то, что более трети преступников в соответствии с тестовыми критериями относились к слабоумным, поэтому был сделан вывод о прямой связи антисоциального поведения с низким интеллектом, который не позволял преступникам усваивать и понимать моральные нормы. Эти цифры сокращались по мере усовершенствования стандартизации тестов, и применив критическое значение IQ — 70 к данным Бине, собранным в большом количестве исследований, Зелени (Тепу, 1933) приблизительно подсчитал, что соотношение слабоумных преступников к слабоумным непреступникам составило 1,8 : 1.
Более современные оценки доли преступников с умственной отсталостью по-прежнему указывают на то, что они являются чрезмерно представленным меньшинством в совокупности преступников, хотя цифры заметно варьируются. Койд (Coid, 1984), например, приводит цифры из обзоров осужденных заключенных, колеблющиеся в интервале от 2 до 45 0/0. Однако с оценками распространенности, полученными на пенитенциарных популяциях, следует обращаться с осторожностью, так как они отражают не только местную и национальную политику перенаправления умственно отсталых преступников в специальные психиатрические учреждения, но и различия в критериях и методах оценки. В исследовании, проведенном во Флориде, Спруилл и Мей (Spruil, Мау, 1988) установили, что 40/0 популяции заключенных получили IQ < 70 по групповому тесту интеллекта (пересмотренному тесту бета), который заключенные проходили при поступлении в тюрьму. Последующее индивидуальное тестирование по Векслеровской шкале интеллекта взрослых ( WAIS) показало, что только 1 % отвечал этому критерию умственной отсталости и что групповое тестирование новых арестантов во время прибытия на место заключения давало завышенные оценки распространенности умственной отсталости вследствие переживаемой заключенными ситуативной тревоги либо неспособности тестирующих побудить их к сотрудничеству.
На основании всестороннего обзора исследований, сравнивающих делинквентов с неделинквентами, Хирши и Хинделэнг (Hirshi, Hinderlang, 1977) пришли к заключению, что средний IQ в делинквентных выборках без предварительного отбора составлял около 92 и что эта связь сохранялась, когда статистически контролировались такие переменные, как социальный класс и раса. Моффит с коллетами (Mofftt et al., 1981) также обнаружили значимую отрицательную корреляцию от 0,2 до 0,3 между уровнем интеллекта и числом преступлений в двух когортах одногодков в Дании, которая сохранялась при исключении влияния социального класса. Предположению о том, что более низкий интеллект официально осужденных делинквентов просто отражает неумение менее способного делинквента избежать разоблачения и ареста, противоречат данные о сопоставимой связи уровня интеллекта с делинквентностью по данным самоотчетов (West, 1982).
Некоторые исследования предполагают, что разность IQp > IQv может обладать особой различающей силой внутри делинквентных популяций. Хейнс и Бенч (Haynes, Bensch, 1981), к примеру, установили, что у 700/0 рецидивистов преобладал IQp по WISC-R, по сравнению с 420/0 делинквентов-нерецидивистов. Хаббл и Грофф (Ниме, Groff, 1982) также нашли, что у делинквентов, идентифицированных как психопатические или невротические по системе Квея, преобладание невербального интеллекта наблюдалось чаще, чем у классифицированных как субкультурные делинквенты. Однако признак IQp > IQv имеет относительно высокий базисный уровень в общей совокупности и потому обладает малой диагностической полезностью при рассмотрении индивидуальных случаев. Кроме того, лонгитюдное обследование большой когорты одногодков из Новой Зеландии (Mofftt, Silva, 1987) показало, что разности IQv — IQp (по: WISC-R) оказались только умеренно стабильными в возрасте от 7 до 11 лет и не были связаны с факторами, указывающими на мозговую дисфункцию. С другой стороны; значительное преобладание невербального интеллекта было единообразно связано с плохими академическими достижениями.
и учебные достижения
В Северной Америке в последние десятилетия значительное внимание уделялось связи между делинквентностью и различными видами неДостаточной обучаемости (leaming disabilities). Этот термин пользуется меньшим признанием в Великобритании, где понятие труДностей в обучении (leaming difficulties) пришло на смену понятию умственной отсталости или недостаточности. Недостаточная обучаемость (LD) указывает на несоответствие между тем, что ожидают от ребенка на основе усТановленной способности, и фактическими учебными достижениями и включает когнитивные и перцептивно-моторные проблемы, такие как дислексия, афазия или дефициты внимания. Принято считать, что различные виды LD имеют конституциональную основу.
Хотя ретроспективные оценки распространенности различных видов LD среди делинквентов варьируются от 26 до 73 0/0 (Zimmerman et al., 1981), нет оснований предполагать здесь причинную связь. В своем обзоре ранней литературы Мюррей (Murray, 1976) отметил, что хотя проблемы с научением (leaming problems), вероятно, обычное явление среди делинквентов, распространенность специфических видов LD остается невыясненной вследствие разных дефиниций LD и неадекватных выборок из популяции делинквентов. Циммерман с крллегами (Zimmerman et al., 1981) оценили расхождение между измеренным интеллектом и учебными достижениями в больших и неоднородных выборках школьников и делинквентов обоих полов. Они нашли, что 18 0/0 первых и 33 0/0 последних отвечают критериям для постановки диагноза LD, причем по сравнению с делинквентами женского пола распространенность LD среди делинквентов мужского пола была выше. Впрочем, между LD и антисоциальным поведением прямая связь, скорее всего, отсутствует, так как испытуемые с LD не отличались от испытуемых без LD в оценках делинквентности по данным самоотчетов.
В исследованиях, процеденных в последнее время, особо подчеркивается, что категория LD включает в себя различные расстройства, не имеющие общей этиологии. Например, было доказано существование варьирующих форм LD, которые по-разному связаны с академическими достижениями и социальными нарушениями (Rourke, 1988). Различные виды LD, проявляющиеся в невербальных дефицитах, более четко связываются с проблемами социального приспособления, чем разновидности LD, затрагивающие преимущественно психолингвистические навыки. Мельцер, Родити и Фентон (Meltzer, Roditi & Fenton, 1986) показали, что тщательный анализ разновидностей LD может выделить различные паттерны учебной и познавательной деятельности, которые не имеют единообразного проявления у делинквентов. Они сравнивали делинквентов, подростков с LD и нормально функционирующих школьников в отношении стилей учения и характера ошибок, обнаруживаемых при применении ряда учебных навыков, и установили, что 14 0/0 делинквентов имели профиль, схожий с профилем группы с LD, тогда как треть делинквентов имела сходство с контрольной группой. Следовательно, отдельные виды LD могут быть связаны с антисоциальным развитием у некоторых делинквентов.
Разумеется, существуют и другие объяснения связи интеллектуального функционирования с делинквентностью. Она может, например, отражать влияние третьего фактора, такого как класс, семья или свойства темперамента. Однако Хирши и Хинделэнг (Hirshi, Hinderlang, 1977) установили, что эффект IQ сохраняется и после введения контроля таких переменных, как социальный класс и раса. Аналогично этому, Мак-Гарви с коллегами (McGarvey et al., 1981) обнаружили, что хотя социальный класс родителей косвенно способствовал криминальности через свое влияние на учебную деятельность, интеллект вызывал независимый эффект. То же можно сказать и о семейных влияниях. Например, Оффорд установил (0fford, 1982), что делинквенты и их неделинквентные сиблинги не различались ни по Щ, ни по результативности учебной деятельности и что неуспевающие по школьным предметам делинквенты чаще происходили из дезорганизованных семей. По его мнению, и антисоциальное поведение, и неуспеваемость в школе являются следствием семейной дезорганизации. Другие, однако, утверждают, что делинквенты отличаются от своих неделинквентных братьев/сестер более низким интеллектом (Healy, Bronner, 1936), а согласно данным Кембриджского исследования влияние интеллекта на последующую делинквентность было независимым от семейных факторов (West, 1982).
Хотя в этом исследовании Щ не1 измерялся, его результаты согласуются с предположением, что влияние интеллекта на последующую делинквентность может опосредоваться факторами темперамента, и это подтверждается 22-летним последующим наблюдением Хьюсманна, Эрона и Ярмела (Huesmann, Eron & Yarmel, 1987). Они обнаружили, что IQ был связан с оценкой агрессии сверстниками в 8-летнем возрасте, однако взрослые интеллектуальные достижения лучше предсказывались по детской агрессии, чем взрослая агрессия (включая криминальное поведение) — по IQ в детском возрасте. Хьюсманн с коллегами предполагают, что низкая интеллектуальная способность ухудшает формирование навыков решения социальных проблем и тем самым вносит свой вклад в развитие детской агрессии, но что агрессивность позднее оказывает постоянное воздействие на учебные достижения. Это не исключает ни последующих дополнительных воздействий образовательной подготовки на делинквентность, ни роли разного обращения с некоторыми детьми в рамках школьной системы (Menard, Morse, 1984; см. также главу 7). Тем не менее это еще раз подчеркивает, что связь IQ и учебной деятельности с делинквентностью находится в зависимости отболее ранних факторов возрастного развития.
Самоконтроль и импульсивность
Способность задерживать или тормозить реакцию представляет интерес при любом анализе развития и научения и в разное время исследовалась под разными названиями: контроль импульсов, самоконтроль, отсрочка вознаграждения или толерантность к фрустрации. Поскольку криминальные действия часто включают удовлетворение сиюминутных потребностей с риском долговременных аверсивных последствий, преступники в основном рассматриваются как люди с плохо развитыми функциями контроля и отсрочки удовлетворения (Wilson, Herrnstein, 1985; Gottfredson, Hirschi, 1990). Импульсивность также занимает центральное положение в клинических концепциях психопатической личности, да и отличительные признаки «антисоциального образа жизни», которые, по общему признанию, связаны с делинквентностью по данным официальной статистики и по данным самоотчетов, — запойное пьянство, курение, игра в азартные игры, раннее начало половой жизни и употребление наркотиков (см. главу 2), — могут быть истолкованы с использованием родственных понятий (Farrington, 1992). Нарушение правил, непослушание и агрессивное поведение в детстве, предшествующие делинквентности, тоже могут быть поняты как проявление недостаточного контроля импульсов.
В психологическом и психиатрическом лексиконе «контроль импульсов» — столь же туманно определенный термин, значение которого во многом зависит от теоретических предпосылок (Pulkinnen, 1986). В психодинамической теории отсрочка удовлетворения является функцией эго-контроля, и в этом случае инстинктуальные импульсы сдерживаются посредством фантазии и планирования (Singer, 1955). Недостаточный контроль может проявляться как в первичном процессе мышления, так и в несдержанной моторной разрядке напряжения. Недостаток контроля мбжет также принимать форму специфических симптомов, таких как пиромания или клептомания, либо форму генерализованной импульсивной диспозиции расстройства характера. Шапиро (Shapiro, 1965), однако, отвергает модель инстинкта и рассматривает импульсивность как стиль немедленного и неспланированного реагирования, который связан с кортикальной обработкой информации и который проявляется в познании, аффекте и открытом поведении.
Приверженцы теории научения рассматривают саморегуляцию как приобретенное поведение, которое является контексто-специфичным. Скиннер (Skinner, 1953) анализирует самоконтроль в терминах исходящего (emitted by) от индивидуума поведения, которое организует подкрепляющие обстоятельства, управляющие другой реакцией. Контролирующая реакция сама находится под контролем средовых обстоятельств, и для бихевиористов самоконтроль в конечном счете есть не что иное, как ситуационный контроль (Stuart, 1972). С другой стороны, согласно сторонникам теории социального научения, саморегуляция к тому же контролируется процессами внимания, критериями самоподкрепления и ожиданиями результата (Loppatto, Williams, 1976; kanfer, 1980). Канфер, например, определяет самоконтроль как случай самоуправления в условиях конфликта реакций. Индивидуум сознательно выбирает поведение, которое до этого имело меньшую вероятность реализации, чем другое, более «заманчивое» поведение, вследствие приверженности чему-либо или имея в виду отсроченную альтернативу. Еще один подход к контролю импульсов берет начало от когнитивно-поведенческих терапевтов, которые позаимствовали у российских психологов концепции вербальной регуляции поведения посредством «внутренней речи» (Meichenbaum, 1977; kendall, 1984).
Шкала Ма (гипомания) MMPI обычно интерпретируется как показатель импульсивности или «отыгрывания» («acting-out»), и многие пункты шкалы SC (самоконтроль) Калифорнийского психологического (СРГ) Гоха перешли из MMPI. Шкала импульсивности (ПО MMPI была получена Блэкборном (Blackburn, 1971 Ь) с помощью факторного анализа этих шкал; ее содержание отражает недостаток нравственных ограничений, легко возбудимый гнев и потребность в сильном возбуждении. Сравнение преступников с непреступниками обычно показывает, что значимые различия между ними выявляет одна-единственная шкала MMPI — Pd (психопатическое отклонение), которая содержит лишь несколько пунктов, имеющих отношение к контролю импульсов. Однако, как уже было отмечено раньше (см. главу З), одновременное получение оценок по шкалам 4 (Pd) и 9 (Ма), превышающих критический уровень, характерно для первичной психопатии, и выборки преступников часто получают самые высокие средние оценки именно по этим шкалам, а также по щка.ле 8 (шизофрения), которая выявляет особенности девиантного мышления. Два широкомасштабных проспективных исследования показали, что подростки с таким паттерном оценок чаще становились делинквентами по официальным данным, чем подростки с другими комбинациями оценок (Monachesi, Hathaway, 1969). Все три шкалы также коррелируют с делинквентностью по данным самоотчетов, особенно с кражами, употреблением легких наркотиков и уничтожением имущества (Rathus, Siegel, 1980). Итак, импульсивность, измеряемая шкалой Ма, указывает на более высокую вероятность криминальности, но только тогда, коча сочетаеТся с высокими оценками по шкале Pd, позволяющей выявлять особенности отношений привязанности, которым теория контроля придает решающее значение.
Шкала F (сургенсия) шестнадцатифакторного личностного опросника ( 16PF) Кэттелла (Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970) также расценивается как мера импульсивности. В лонгитюдном исследовании Келли и Фелдман (kelly, Veldman, 1964) сравнивали детей, которые бросили школу или стали делинквентами, с детьми без отклонений по показателям шкалы Е, полученным четырьмя годами ранее. Обе девиантные группы имели более высокие показатели по шкале Е Тем не менее Кэттелл с коллегами не смогли дифференцировать делинквентов на основе этой шкалы (Cattell et al., 1970). Сондерс, Репуцци и Сарата (Saunders, Repucci & Sarata, 1973) также не обнаружили разлший между делинквентами и обычными школьниками ни по Шкале импульсивности Барратта (Barratt's Impulsivity scale), ни по Тесту подбора сходных фигур (Matching Familiar Figures Test), который считается мерой такого когнитивного стиля, как «импульсивность—рефлексивность».
Импульсивность может обусловливать вариации в частоте и типе преступлений, и есть указания на то, что среди рецидивистов чаще встречаются импульсивные люди. Например, было проведено сравнение нарушающих и не нарушающих режим условно-досрочного освобождения делинквентов на основе MMPI, CPI и таблицы ожидаемого базисного уровня, составленной по данным об их прошлом (Gough, Wenk & Rozynko, 1965). Последняя дала наилучшее разграничение, хотя шкала Ма MMPI и шкалы SC и So Калифорнийского психологического инвентаря (СРГ) также позволяли различать эти две группы. Комо (Сото, 1977) обнаружил, что рецидивисты имеют более высокие показатели по шкале IM Блэкборна, чем те, кто совершил преступление в первый раз, и эта шкала коррелировала с повторным совершением преступлений преступниками с психическими расстройствами (Black, Spinks, 1985), а также с делинквентностью по данным самоотчетов в выборке официально зарегистрированных делинквентов (Renwick, Emler, 1991). Мэк (МасК, 1969), напротив, не обнаружил различий между делинквентами-рецидивистами и нерецидивистами по MMPI, тогда как Женро с коллегами (Gendreau et al., 1979) нашли, что шкала So имеет значение для предсказания рецидивизма, а шкала Ма — нет.
Различия между преступниками, классифицированными по типу преступления, оказались трудноуловимыми. Пантон (Panton, 1958) не обнаружил различий по МИН между шестью группами преступников, образованных по типу преступления, хотя и отметил, что все групповые средние отклонялись от нормативного среднего. Лофер, Джонсон и Хоган (Laufer, Johnson & Hogan, 1981) нашли, что преступники-наркоманы импульсивнее убийц по шкале эго-контроля Блока (Block's Ego Contml scale), которая измеряет психодинамические конструкты отсрочки и экспрессии импульса, однако другие исследования показывают, что убийцы образуют неоднородную группу по оценкам импульсивности на основе шкал MMPI (Blackburn, 1971а; McGurk, 1978).
Как считает Мишель, предпочтение незамедлительного вознаграждения имеет значение для возникновения делинквентности и психопатии, что и было подтверждено исследованием делинквентов в Тринидаде (Mishel, 1961). Мальчики из исправительной школы чаще предпочитали незамедлительное вознаграждение, чем мальчики из общеобразовательной школы, хотя почти половина делинквентов выбрала отсроченное вознаграждение. Вариации предпочтения отсрочки вознаграждения внутри группы делинквентов были отмечены в работе Робертсона и коллег (Robertson et al., 1974), которые обнаружили, что рецидивисты более склонны к выбору незамедлительного вознаграждения, чем нерецидивисты, когда их тестировали перед освобождением.
Контроль импульсов часто оценивается по степени тщательности или точности выполнения задания или моторного торможения. Например, Келли и Фелдман (Кену, Veldman, 1964) установили, что дети, ставшие затем делинквентами или оставившие школу, были более поспешны и менее точны при выполнении простых моторных заданий. Наиболее широко используемым тестом были Лабиринты Портеуса (Porteus, 1959). Этот бланковый (типа «карандаш—бумага») тест требует прохождения серии визуальных лабиринтов и дает два показателя: Коэффициент теста (Test Quotient, TQ) и Качественную ошибку (Qualitative error, Q). TQ умеренно коррелирует с пространственным восприятием и, как считается, оценивает способность к планированию и предвидению. Q отражает небрежность и нарушение правил при выполнении теста, и потому был истолкован как мера импульсивности.
С другой стороны, показатель Q дифференцирует делинквентов внутри их популяции в нескольких исследованиях. Робертс с коллегами (Roberts et al., 1974) обнаружили, что величина Q значимо предсказывала рецидивизм у делинквентов и коррелировала с вербальными и поведенческими мерами отсрочки вознаграждения. Шаллинг и Розен (Schalling, Rosen, 1968) также нашли, что психопатические преступники, определенные так по критериям Клекли, имеют более высокие значения Q, чем непсихопаты. Тем не менее результаты некоторых исследований были отрицательными. Оказалось, что показатель Q не имеет отношения ни к нарушению правил в исправительном учреждении, ни к уровню импульсивности по MMPI у подростков, отбывающих срок в колонии (Gibbens, 1963), или у преступников с психическими расстройствами (Davis, 1974b). Психопатические преступники, определенные так по паттернам MMPI, также имели более низкие значения Q, чем преступники-непсихопаты в исследовании Саткера, Моана и Свонсона (Sutker, Моап & Swanson, 1972).
Гибсон (Gibson, 1964) выступил с критикой процедуры получения показателя Q и разработал Спиральный лабиринт (SM), предназначенный для оценки 60лее однородных ошибок при выполнении моторных заданий. Получаемые показатели включали: (а) общее время прохождения лабиринта и (б) ошибки касания стен лабиринта или препятствий. При исключении временного показателя ошибки умеренно коррелируют с Споказателем Портеуса. Гибсон считает свой тест мерой склонности к риску (ЖК taking). Он установил, что и делинквенты, и школьники, охарактеризованные учителями как «непослушные», выполняли это задание более быстро и небрежно. Дэвис (Davis, 1974b) также установил, что показатель ошибок значимо связан с оценками неподчинения требованиям администрации исправительного учреждения, однако Гиллан (Gillan, 1965) не нашел различий между делинквентами женского пола и контрольной группой. Ни в одном из последующих исследований не была обнаружена связь между выполнением SM и импульсивностью как чертой, измеряемой с помощью опросников для стандартизованных самоотчетов.
Отсрочка вознаграждения предполагает учет будущих последствий, и потому восприятие времени рассматривалось в некоторых исследованиях как показатель контроля импульсов. Ожидается, что импульсивные индивидуумы больше внимания будут уделять актуальным событиям, чем будущим, и, следовательно, их временн5я перспектива будет более ограниченной. Также предполагается, что у них более быстрые «внутренние часы», и они будут переоценивать ход времени.
Исследования оценивания времени преступниками дали умеренно согласующиеся результаты. Зигман (Siegman, 1966) пришел к выводу, что делинквенты имеют более быстрые внутренние часы, чем новобранцы, так как они недооценивают течение коротких периодов времени и переоценивают длину временных интервалов. Хотя этот вывод противоречит его более ранним данным, он согласуется с данными, полученными на социопатических пациентах (Getsinger, 1976).
Также было обнаружено, что делинквенты, судя по результатам выполнения заданий на завершение историй (story completion tasks) или по оценкам временнбй близости значимых событий, таких как женитьба или появление внуков, имеют более короткую временнјю перспективу (см., напр.: Stein, Sarbin & kulik, 1968). В особенности это характерно для делинквентов-рецидивистов (Roberta et al., 1974). Однако Ландау (Landau, 1976) высказал критическое замечание, что в ранее выполненных исследованиях не контролировалось влияние содержания делинквентов в учреждениях закрытого типа на их временнјю ориентацию. По его
данным, пребывание людей в учреждениях закрытого типа (тюремное заключение, военная служба) сокращает временнјю перспективу как у делинквентов, так и у солдат, но ориентация на будущее возрастает по мере приближения времени освобождения.
Аттитюды, ценности и убеждения
Развивающая область социального познания (social cognition) отражает сближающиеся интересы социальных психологов и тех, кто занимается исследованием высших когнитивных функций. В основе сближения их интересов лежит допущение о том, что социальное поведение является результатом реципрокных взаимодеЙствиЙ между когнитивными структурами и процессами индивидуума и реакциями других. Этот подход также повлиял на проведение исследований и соответствующих вмешательств в девиантных популяциях, и следующие разделы посвящены описанию исследований социального познания. Сначала анализируется содержание социально релевантных комиций преступников, а затем рассматриваются их социально-когнитивные процессы и навыки, хотя мы признаем, что такое разделение в известной степени произвольно.
Низведенное бихевиористами до статуса эпифеномена осознание себя как субъективный опыт обособленного — «чистого» (Г) или «эмпирического» (те) — Я рассматривается в некоторых теориях как объединяющий фактор, детерминирующий и защитное, и целенаправленное поведение (Wylie, 1968). Когда этот глобальный и неопределенный концепт «Я» или «эго» используют для обозначения «целой личности», его обоснованно критикуют как претендента на роль мистического гомункулуса, однако создатели социально-когнитивных теорий возродили представление о Я как структуре активной обработки информации или, иначе говоря, когнитивной схеме (Greenwald, Pratkanis, 1984; Bandura 1989). Эпштейн (Epstein, 1973), к примеру, использует метафору научной теории, описывая я-концепцию как теорию себя (self-theory), постулаты которой непрерывно проверяются на достоверность в ходе апробации и поиска релевантной информации. Таким образом, Я-концепция относится к знаниям и представлениям о себе, включая эмоционально окрашенное самоотношение (attitudes of affective regard), или самооцеюсу. Так как обычно полагают, что Я порождается социальными интеракциями и, в свою очередь, опосредует их, девиантная Я-концепция тоже может опосредовать антисоциальное поведение (Wells, 1978).
Тем не менее низкая самооценка связывается с несоблюдением подростками общеустановленных правил (Richman, Brown & Clark, 1984) и в нескольких исследованиях рассматривается как характерная для делинквентов. В ранних исследованиях у делинквентов были установлены более высокие уровни беспокойства и эмоциональности (Metfessels, Lovell, 1942), а у получивших официальное определение преступников — более высокий уровень «нейротизма», хотя он менее четко связан с делинквентностью по данным самоотчетов (см. главу 5). Поскольку измерение (dimension) нейротизма тесно связано с самооценкой (Watson, Clark, 1984), эти данные служат косвенным доказательством более негативного представления о себе у преступников.
Более прямое измерение Я-концепции, в целом, подтверждает это заключение. Брагат и Фрейзер (Bragat, Fraser, 1970), например, установили, что по сравнению с неделинквентами делинквенты оценивают свое «реальное я» менее положительно; также при использовании Теннесийской шкалы Я-концепции (Tennessee Self Concept Scale) были обнаружены более низкие уровни самооценки в американских и английских выборках делинквентов (Lund, Salary, 1980; Еуо, 1981). Однако в Я-концепции преступников наблюдаются вариации. Эйо (Еуо, 1970) нашел, что, хотя делинквенты как группа имели более низкие оценки по моральным, личностным, социальным и семейным компонентам Я-концепции, чем контрольная группа, подростки, отбывающие наказание в колонии, придавали большее значение физическим аспектам и к тому же имели более твердо защищаемый Я-образ, чем мальчики, возвращенные на поруки.
Второй подход рассматривает негативные самоотношения (self attitudes) как результат навешивания ярлыков. Согласно теории навешивания ярлыков, девиантный Я-образ — следствие стигматизации, сопровождающей юридическое пре: следование правонарушителей, и уже этот Я-образ опосредует развитие вторич- , ной девиантности. Хотя этот подход снова предполагает в качестве необходимого условия когнитивную согласованность, основной упор в нем делается на пониженную самооценку как отраженную оценку негативных реакций других. Данным о корреляции между официально зарегистрированной делинквентностью и низкой самооценкой, полученным в поперечно-срезовых исследованиях, можно дать и такую интерпретацию; впрочем, лонгитюдное исследование Эйджтона и Эллиотта (Ageton, Elliott, 1974) тоже подтверждает эту гипотезу. Для исследования были отобраны мальчики, не имевшие прежде контактов с полицией. Те из них, кто позднее все же имел такие контакты, приняли более делинквентную ориентацию Я (self orientation), чем те, которые ни разу не задерживались полицией. Однако другие исследования дают разноречивые результаты. Например, Гиббс (Gibbs, 1974) получил такие данные: хотя автомобильные воры имели более делинквентный Я-образ по сравнению с контрольной группой, после ареста и последующей явки в суд их Я-концепция и самооценка приблизились к Я-концепции и самооценке контрольной группы, когда им пришлось предстать перед судом. Аргументы в пользу мотивирующего влияния отраженной оценки были постепенно ослаблены доказательствами слабого воздействия стигматизации на дальнейшую делинквентность. И в самом деле, скорее можно было бы ожидать, что эффекты стигматизации будут зависеть от предшествующей Я-концепции.
Каплан (kaplan, 1980) сообщает о нескольких исследованиях связи самооценки и делинквентности в разные моменты времени, согласующихся с возрастными параметрами данной модели, но не анализирует непрерывную причинно-следственную цепь событий. В трех других исследованиях изучались самооценка и делинквентность по данным самоотчетов в рамках программы периодически повторяющихся опросов «Молодежь в переходный период» (Youth in Transition). На основании коэффициентов взаимной корреляции между самооценкой и делинквентностью, вычисленных по данным двух опросов с временнйм сдвигом, составившим почти два года, Розенберг и Розенберг (Rosenberg, Rosenberg, 1978) пришли к выводу, что самооценка предсказывала последующую делинквентность, хотя предсказуемостная эффективность модели была выше для молодежи из низших слоев общества. Бриннер, О'Мелли и Бахман (Brynner, 0'Malley & Bachman, 1981) критиковали этот анализ и, расширив исследование до следующего этапа опроса, не обнаружили влияния самооценки на последующую делинквентность. Однако они нашли умеренное положительное влияние делинквентности на самооценку в дальнейшем, что согласуется с моделью повышения самооценки. Дальнейший анализ, наоборот, не смог выявить ни мотивирующего влияния сниженной самооценки на делинквентность, ни положительного влияния делинквентности на повышение самооценки впоследствии (Wells, Rankin, 1983).
Исследования, проведенные на сегодняшний день, не подтверждают более или менее согласованно наличие причинной связи между Я-концепцией и делинквентностью, и еще нужно показать, является ли отрицательная корреляция, которая наблюдалась в некоторых исследованиях, чем-то большим, нежели совместным влиянием других факторов на эти две переменные. Исследования в этой области страдают от разного рода ограничений, не в последнюю очередь — от отсутствия адекватной теории Я-концепции. Я-концепция и самооценка не всегда четко дифференцируются и обычно измеряются глобально, безотносительно к специфическим областям достижений или компонентам Я. Гринвальд и Пратканис (Greenwald, Pratkanis, 1984) считают, что необходимо различать между публичными, личными и коллективными аспектами Я. Мало внимания также уделялось различию «черта—состояние». Согласно данным лонгитюдных исследований, Я-концепция относительно стабильна во времени, хотя возможно, что именно врёменные изменения в самооценке более значимы для специфических девиантных действий. В таком случае лонгитюдные исследования могут быть не достаточно чувствительными для выявления взаимовлияний самооценки и делинквентного поведения.
Нельзя сказать, что это последнее утверждение получило бесспорное подтверждение. Хизер (Heather, 1979) сообщил о двух исследованиях делинквентов и неделинквентов с применением методики репертуарных решеток. Одинаковые факторы конвенциональных и скрытых ценностей были извлечены в обеих группах, но фактор скрытых ценностей объяснял ббльшую долю дисперсии у делинквентов, что указывает на доминирование этого компонента. Впрочем, Кохрейн (Cochrane, 1971) нашел различия в приоритетах ценностей у взрослых заключенных и представителей контрольной группы: мужчины-заключенные больше ценили достижение целей, которые имели непосредственную (актуальную) личную значимость, а женщины-заключенные имели более маскулинную систему ценностей по сравнению с соответствующей контрольной группой. Таким образом, есть некоторые указания на то, что делинквенты характеризуются девиантными ценностями.
Обычно предполагалось обратное отношение между делинквентностью и религиозностью. Хотя в ранних исследованиях выявлена небольшая отрицательная связь между делинквентностью и посещением религиозных служб, в целом результаты достаточно противоречивы. Элифсон, Петерсон и Хадеуэй (Elifson, Реterson & Hadaway, 1983) использовали целый ряд индексов религиозности и делинквентности по данным самоотчетов и подтвердили наличие отрицательной корреляции. Однако наиболее сильные корреляции наблюдались для преступлений без потерпевших, таких как употребление марихуаны, и религиозность не обладала прогнозирующей способностью, независимой от других переменных. Было высказано предположение, что влияние религии на делинквентность, скорее всего, опосредуется типом семьи и друзей, выбор которых она диктует.
Если преступники действительно придерживаются конвенциональных ценностей, одной из причин, по которой они не могут удержаться от девиантного поведения, может быть нейтрализация этих ценностей врёменными оправдывающими обстоятельствами или рационализацией. Сайкс и Маца (Sykes, Matza, 1957) выделили пять способов нейтрализации:
1) отказ от ответственности (чьи-либо действия обусловлены влиянием внешних факторов, таких как нищета, распавшаяся семья или опьянение);
2) непризнание нанесения вреда (был причинен небольшой ущерб);
З) непризнание наличия жертвы (она это заслужила);
4) осуждение тех, кто выносит осуждение (внимание смещается на тех, кто осуждает какое-либо действие, например на представителей органов уголовной юстиции);
5) ссылка на преданность высшим интересам (первоочередное значение придается потребностям других, например сверстников).
Нейтрализация предполагает когнитивную согласованность между аттитюдами и поведением. Также допускается, что эти варианты нейтрализации являются временными оправданиями, вызываемыми конкретной ситуацией, а не устойчивыми негативными аттитюдами к девиантности, хотя Эндрю и Петерс (Andrew, Peters, 1986) рассматривают «приемлемость нейтрализаций» как предрасполагающий фактор. Примером нейтрализации могут служить убеждения, которые магазинные воры описывают в связи со своими кражами: «торгаши этого заслуживают», «так все поступают», «это незначительное преступление» (Soloman, Ray, 1984).
Понятие нейтрализации имеет четкую параллель с понятием освобождения от действия самозапретов, предложенным приверженцами теории социального научения для объяснения ситуационных влияний на поведение, регулируемое моральными принципами. Понятие нейтрализации также может быть рассмотрено в контексте теории атрибуции, предметом которой является то, каким образом неожиданные или нежелательные события объясняются в обыденном мышлении путем приписывания причины, ответственности и вины. Например, «отказ от ответственности», выделяемый Маца, безусловно отражает атрибуцию поведения субъекта внешним причинам, которые могут быть стабильными (нищета) или нестабильными (опьянение). Независимо от того, опосредуют ли они преступные действия или нет, объяснения преступниками своих действий могут иметь особое значение для реакций на них системы уголовного правосудия и для выбираемых осужденными стратегий поведения, которые помогают им выдержать уголовные наказания.
Солнье и Перлман (Saulnier, Perlman, 1981) подтвердили ряд предсказаний, сделанных на основе теории атрибуции в отношении приписывания заключенными причин совершенным ими преступлениям. Например, стабильные и внутренние причины были более вероятны в тех случаях, когда преступление соответствовало предыдущему криминальному досье, хотя, в соответствии с систематическим смещением «субъект действия — наблюдатель», тюремные служащие более склонны приписывать преступление внутренним причинам, а заключенные — внешним факторам. Аналогичные результаты получили Хендерсон и Хьюстон (Henderson, Hewstone, 1984) при проведении интервью с лицами, совершившими насильственные преступления, в рамках исследования атрибуций причины и ответственности. Ответственность определялась по соотношению попыток найти оправдывающие обстоятельства (отказ от ответственности и ссылка на внешние факторы) и попыток найти объективные оправдания (признание ответственности, но с оправдывающими мотивами). Объяснения преступников, даваемые собственным преступлениям, были не только связаны преимущественно с внешними причинами, но также чаще были объективными оправданиями, чем попытками найти оправдывающие обстоятельства. Оправдывающие обстоятельства приводились чаще, если жертва преступления погибала. Результаты этих более поздних исследований предсказывались из ранних исследований процессов атрибуции в общей популяции и потому не предполагают участия девиантного мышления преступников в даваемых ими объяснениях. Тем не менее устойчивые тенденции приписывать причины и ответственность другим могут вносить свой вклад в криминальность, и работа, предполагающая такие атрибутивные тенденции у агрессивных индивидуумов, обсуждается в главе 9.
Йохельсон и Саменов (Yochelson, Samenow, 1976) придают особое значение когнициям в своем анализе криминальной личности, который основывается на экстенсивных интервью с 240 преступниками мужского пола. Хотя их выборка включает молодых преступников, наблюдавшихся в неспециализированных больницах, в основном она образована из взрослых «закоренелых» преступников, направленных в больницу Святой Елизаветы в Вашингтоне, округ Колумбия, для проведения психиатрического обследования или уже признанных «невиновными
и
![]()
по причине невменяемости». Йохельсон и Саменов пишут о своем разочаровании психоаналитическими, психологическими и социологическими объяснениями преступности и описывают свой вариант «феноменологического» подхода. В этом подходе основное внимание уделяется мышлению преступников, которые, по предположению авторов, контролируют свою жизнь, несмотря на попытки снять с себя ответственность. Йохельсон и Саменов утверждают, что человек становится преступником в результате «серии выборов», которые он делал, начиная с раннего возраста. Однако, хотя авторы и признают влияние реципрокных взаимодействий «родитель—ребенок» на индивидуальное развитие, они не предлагают никакого объяснения истоков тех выборов, которые делает человек.
«Криминальность» понимается очень широко — как континуум, охватывающий широкий спектр мыслительных процессов и криминальных действий. Некриминальный край этого континуума определяется как «ответственное мышление и действие». Ответственнде люди нравственны в своей основе, выполняют принятые на себя обязательства и действуют в рамках закона. На противоположном краю находятся преступники, которые обладают системой ошибочных схем мышления. Было описано свыше 40 «ошибок мышления», которые были сгруппированы в три категории.
Во-первых, существуют схемы криминального мышления, которые частично совпадают с «чертами характера», выделяемыми другими. Например, мышление характеризуется распространяющейся на все боязливостью, практически «нулевым состоянием», в котором человек чувствует себя ничего не стоящим, тогда как главной схемой является «силовой нажим» (the power thmst), имеющий отношение к потребности во власти и контроле. Другие схемы включают «фрагментацию» (непоследовательность мышления), сентиментальность, перфекционизм, неразборчивую потребность в сексуальном возбуждении и лживость. Ко второй категории относятся автоматические ошибки мышления, которые включают «закрытый канал», или селективный стиль коммуникации, установку жертвы, неспособность поставить себя в положение другого человека, неспособность брать на себя обязательства, недостаток доверия и несовершенное принятие решений. К третьей категории относятся ошибки, более непосредственно связанные с криМИНиЬНЫМИ действиями. Они включают развернутые фантазии касательно антисоциального поведения, «коррозию» (разъедание) внутренних и внешних сдерживающих средств, мнение о себе как о «хорошем человеке» и чрезмерный оптимизм. Утверждается, что преступники не действуют импульсивно, ибо каким бы авантюрным ни казалось преступление, оно обычно предваряется фантазиями и обдумыванием. Эти различные схемы мышления проявляются во время попыток проведения экспертизы или осуществления изменения и могут принимать форму тактики, рассчитанной на поражение эксперта или терапевта.
Выделение Йохельсоном и Саменовым процессов мышления как детерминант девиантного подведения хорошо согласуется с теоретической перспективой «рационального преступника» и с повышенным вниманием к роли когнитивной дисфункции в девиантном поведении. Их наблюдения также совпадают с точкой зрения, согласно которой преступники нейтрализуют запреты нарушать нормы. Однако их описание «криминальной личности» открыто для серьезной критики по нескольким основаниям. Во-первых, их определение «криминальности» является ценностно-ориентированным и субъективным, и не было предпринято по-
![]()
пытки показать, что «криминальные ошибки мышления» отсутствуют у «ответственных» граждан. Во-вторых, их обобщения сделаны по данным, полученным на нерепрезентативной выборке, без привлечения каких-либо подтверждающих доказательств помимо клинических наблюдений. Таким образом, была представлена скорее серия гипотез, чем проверка теории. В-третьих, их «ошибки мышления» не привязаны ни к какой систематической теории когнитивного функционирования и являются произвольным перечнем потребностей и иррациональных представлений. Вулач (Wulach, 1988) отмечает, что, несмотря на их отказ от психоаналитической теории, многие из «ошибок мышления», например «силовой нажим», «фрагментация» или «установка жертвы», соответствуют защитным механизмам, которые психодинамически ориентированные авторы приписывают нарциссическому и пограничному расстройствам личности. Он считает, что характеристики криминальной личности, описанные Йохельсоном и Саменовым, совпадают с DSM-III-R критериями антисоциального, нарциссического, гистрионического и пограничного расстройств личности, а также с предложенным Клекли понятием психопата и не определяют особого типа личности.
Социокогнитивные и межличностные навыки
Принятие роли является важным понятием в когнитивной теории развития. Пиаже предположил, что в процессе межличностного общения дети предподросткового возраста постепенно переходят от эгоцентрического восприятия мира к поНИМаНИЮ и принятию в расчет перспективы других людей. В теории ролей, ведущей свое происхождение от символического интеракционизма, социализация сходным образом рассматривается как зависящая от способности принимать на себя роль «обобщенного другого». Гох (Gough, 1948) предположил, что отсутствие этой способности объясняет недостаточную социализацию психопатов. Для Колберга развитие способности принимать роли выступает предпосылкой положительного сдвига в моральном рассуждении, а Селман предложил стадиальную теорию развития этой способности, которая согласуется с теорией стадий Колберга (Gurucharri, Phelps & Selman, 1984). Принятие роли связывает когнитивный аспект с моральным, так как включает понимание чувств других людей, равно как их причин и намерений, а задержка развития в усвоении навыков принятия роли связывается с неспособностью уважать права других (Chandler, 1973). Сохраняющийся эгоцентризм, таким образом, вероятно, является значимым для социальной девиантности.
Гуручарри с коллегами (Gurucharri et al., 1984) установили, что дети предподросткового возраста, демонстрирующие поведенческие проблемы, находились на более низких межличностных стадиях по Селману, чем нормальные дети из контрольной группы, хотя они обычно догоняли последних в позднем подростковом возрасте. Чандлер (Chandler, 1973) обнаружил крайне выраженные различия в эгоцентризме между детьми в возрасте 11—13 лет, которые уже были хроническими делинквентами, и соответствующими им по возрасту неделинквентами. Хотя Каплан и Арбутнот (kaplan, Arbuthnot, 1985) не смогли воспроизвести эти результаты на делинквентах более старшего возраста, Ли и Прентис (Lee, Prentice,
и
![]()
1988) также обнаружили значимые различия между делинквентами и неделинквентами в выполнении заданий на принятие роли. Шорт и Сименсон (Short, Simeonsson, 1986) нашли, что помещенные в исправительные учреждения делинквенты, которых сверстники оценивали как агрессивных, были существенно более эгоцентричными по критерию Чандлера, чем неагрессивные делинквенты. С другой стороны, по наблюдениям Хики (Hickey, 1972), некоторые делинквенты старшего подросткового возраста достигали относительно зрелого уровня принятия социальной роли, который значительно превосходил уровень их моральной зрелости. Эти данные ясно показывают, что хотя неспособность развить навыки принятия роли может препятствовать социализации, приобретение этих навыков еще не гарантирует социализованного поведения. Принятие роли может, например, участвовать как в манипулятивном, так и в кооперативном поведении.
Близким понятием является понятие эмпатии, которое предполагает не только понимание перспективы других, но и способность отзываться на их чувства. Эмпатия потенциально значима для делинквентности, поскольку способность вообразить себе страдание другого может препятствовать наносящему вред поведению, а недостаток эмпатии всегда заметен в описаниях психопатической личности. Эмпатией можно также отчасти объяснить половые различия в делинквентном поведении, так как культурные стереотипы диктуют, что женщины способны глубже понимать чувства других, чем мужчины.
Дискуссии о том, как концептуализировать и измерять эмпатию, а также как отличить ее от принятия ролей, с одной стороны, и сочувствия (sympathy) — с другой, ведутся уже довольно давно. Хотя эмпатия обычно трактуется как аффективная реакция, одни используют этот термин для обозначения сострадания, т. е. приведения своих чувств в соответствие с эмоциональным опытом другого человека, а другие делают особый упор на когнитивное осознание чувств другого, исключая сострадание как обязательное условие. Там, где были обнаружены половые различия, они зависели от метода оценки, и предполагаемое превосходство женщин в эмпатии ограничивается сферой применяемых средств измерения, требующих словесных отчетов о чувствах (Eisenberg, Lennon, 1983). Эти различия менее очевидны в случае использования когнитивно ориентированных мер принятия перспективы.
Хоган (Hogan, 1969) разработал самооценочную меру эмпатии как
черты Ст), которая оценивает «основанное на воображении понимание состояния
другого или его умонастроения». Здесь большая роль отводится когнитивным, чем
аффективным, аспектам, и Ет коррелирует как с пространственной способностью
(spatial ability), так и с социальной проницательностью (social acuity). В
предложенной Хоганом (Hogan, 1973) теории добродетельного характера (moral
character) утверждается, что моральная зрелость является следствием развития
социализации, эмпатии и автономии. На языке этой теории эмпатия — это
диспозиционное умение, которое позволяет человеку занять «нравственную пози![]() и
компенсирует недостаток социализации, тормозя антисоциальное поведение.
и
компенсирует недостаток социализации, тормозя антисоциальное поведение.
В подтверждение своей гипотезы Хоган (Hogan, 1969) нашел, что и заключенные, и молодые делинквенты, которые имели низкие показатели по шкале So Гоха, также получили самые низкие среди нескольких групп показатели по Ет. Студен-
8
![]()
ты колледжа, чьи показатели по шкале So соответствовали показателям делинквентов, в отличие от последних имели более высокие показатели по Ет, что подтверждает гипотезу компенсации (kurtines, Hogan, 1972). Эллис (Ellis, 1982) также пришел к выводу, что Ет значимо дифференцирует делинквентов и неделинквентов, а также агрессивных и неагрессивных делинквентов. Невротические делинквенты тоже имели более низкие показатели, чем психопатические делинквенты, которые в свою очередь имели более низкие показатели, чем субкультурные делинквенты и контрольная группа. Впрочем, Кендалл, Дидорфф и Финч (kendall, Deadorff & Finch, 1977) нашли, что преступники, нарушившие закон впервые, рецидивисты и непреступники различались между собой по So, но не различались по Ет. Используя другие шкалы для оценки эмпатии, Ли и Прентис (Lee, Prentice, 1988) также не выявили различий ни между делинквентами и неделинквентами, ни между подгруппами, выделенными по классификационным измерениям поведения Квея. Однако применяемые ими меры эмпатии не были связаны с мерами социокогнитивного развития, и они ставят под вопрос валидность самооценочных шкал эмпатии.
Другие исследования дают разноречивые результаты, которые варьируются в зависимости от применяемых средств измерения. Ротенберг (Rotenberg, 1974) разграничил когнитивное и аффективное принятие роли, называя их соответственно эмпатией и сочувствием (симпатией), и определял их по реакции на экспериментальные задачи. Делинквенты демонстрировали более низкое аффективное принятие роли, чем школьники, но не отличались от них по когнитивному принятию роли. Каплан и Арбутнот (kaplan, Arbuthnot, 1985) также получили только ограниченное подтверждение предполагаемого недостатка эмпатии у делинквентов. Когнитивное принятие роли определялось с помощью задач Пиаже, а аффективная эмпатия — двумя способами: с помощью стандартизованного самоотчета для оценки черт и на основе выполнения специфического неструктурированного задания, связанного с самоописанием. Хотя оценки делинквентов по всем заданиям были немного ниже, чем у неделинквентов, значимые различия были наидены только в отношении неструктурированного задания.
Очевидно, что необходимо достичь большей ясности в концептуализации эмпатии, которая, возможно, не является одномерной способностью. Наиболее систематизированная модель была предложена Хоффманом (Ножап, 1982), который рассматривает эмпатию как универсальную аффективную реакцию на страдание другого, изменяющуюся по мере прохождения ребенком стадий социокогнитивного развития. Он определяет вину как частный случай эмпатического дистресса, вызываемого каузальной атрибуцией, или, проще говоря, приписыванием себе ответственности за бедственное положение другого, и считает ее относительно поздним приобретением с точки зрения возрастного развития индивидуума. Таким образом, вина представляет собой скорее межличностную «острую комицию» (hot cognition), чем условно-рефлекторную тревогу или символический страх перед родительским наказанием, и является результатом применения родителями индуктивных (разъясняющих и убеждающих) дисциплинарных воздействий. Социальным девиациям, связываемым с задержками в развитии принятия перспективы, следовательно, может сопутствовать недостаток как вины, так и эмпатии. Исследования, в которых использовалась Шкала вины Мошера (Mosher Guilt Scale), показали, что делинквенты как группа не отличаются от не-
и
![]()
делинквентов в том, что касается ожидаемых реакций вины на свое собственное поведение (Persons, 1970), но делинквенты, чье моральное рассуждение находится на конвенциональном уровне, чаще сообщают о переживании чувства вины, чем делинквенты, которые находятся на более низких стадиях развития моральных суждений (Ruma, Mosher, 1967). Таким образом, некоторые делинквенты обнаруживают дефициты в навыках принятия перспективы и, как следствие, дефицитарность аффективных межличностных реакций, которые зависят от них. Тем не менее еще предстоит определить, характерно ли это больше для несовершеннолетних правонарушителей или закоренелых преступников.
Дефициты в сфере навыков решения межличностных проблем могут быть причинно связаны с социально неэффективным или неадаптивным поведением (Tisdelle, Lawrence, 1986). Импульс работе в этом направлении дала концептуальная модель решения проблем, которую предложили Д'Зурилла и Годфрид (D'Zurilla, Godfried, 1971). Они рассматривают решение проблем как когнитивно-поведенческий процесс, который 1) предоставляет субъекту альтернативные реакции для разрешения проблемных ситуаций, таких как межличностный конфликт или потеря подкрепляющих стимулов, и 2) повышает вероятность выбора из этих альтернатив наиболее эффективной реакции. Главное внимание уделяется «открымю» решений в процессе последовательного прохождения ряда этапов, включающих распознавание проблемы, формулирование целей, выработку альтернативных решений, выбор оптимальной стратегии и проверку результатов. Решение объективных («безличных») проблем зависит от Щ, но решение межличностных проблем в большей части является функцией приобретенных навыков (Spivack, Platt & Shure, 1976).
Хайнс и Райан (Hains, Ryan, 1983) сравнили делинквентных и неделинквентных мальчиков двух возрастных групп по решению различных задач, требующих участия процессов социального познания. Делинквентность оказалась не связанной с моральными суждениями или с дефицитом знаний о стратегиях решения социальных проблем. Однако в заданиях на решение социальных проблем делинквенты демонстрировали менее полный анализ определенных измерений (dimensions) проблемных ситуаций, таких, например, как антецеденты проблемной ситуации, что свидетельствует об их склонности инициировать социальное поведение на основе неполных или ошибочных выводов.
Другие исследования ограничиваются изучением различий в рамках делинквентных популяций. Широко используемым средством оценки решения межличностных проблем является Тест на анализ целей и средств при решении проблем (Means-Ends Problem Solving test, МЕРЯ, который представляет тестируемому начало и конец гипотетических проблемных ситуаций и требует от него выработать средства, позволяющие достичь заданного решения. Платт, Скура и Хэннон (Platt, Scura & Наппоп, 1973) сравнили по результатам MEPS помещенных в реформаторий малолетних преступников с наркотической зависимостью и без нее. Они нашли, что наркоманы демонстрировали существенные дефициты в способности концептуализировать средства для достижения целей в проблемной ситуации. В одном неопубликованном исследовании, которое цитируют Плат и Проут (Platt, Prout, 1987), было также обнаружено, что нарушение молодыми преступ-
8.
![]()
никами (young offenders) [21] режима условно-досрочного освобождения отражает дефициты в способности анализировать цели и средства при решении проблем и в способности продумывать альтернативные варианты. Хиггинс и Тисс (Higgins, Thiess, 1981) использовали этот же тест для сравнения трех групп помещенных в исправительные учреждения делинквентов: хорошо приспособившихся к условиям содержания, имевших проблемы с соблюдением дисциплины и плохо приспособленных к жизни в условиях исправительного учреждения по оценкам персонала и других заключенных. Плохо приспособленные демонстрировали наиболее серьезные дефициты в выработке средств решения проблем. Они также предлагали менее подходящие решения, чем две другие группы, тогда как заключенные с дисциплинарными проблемами предлагали меньше средств решения проблемы, чем более приспособленные к жизни в исправительном учреждении делинквенты. В нескольких недавних исследованиях высказывается предположение, что дефициты в решении проблем особенно заметны у агрессивных детей (см. главу 9').
Сарасон (Sarason, 1968) был одним из первых, кто предположил, что делинквенты имеют дефициты в социально приемлемом и адаптивном поведении, и тренинг социальных навыков стал популярной методикой лечения преступников (см. главу 13). Однако положение о недостатке у преступников социальных навыков не получило достаточного подтверждения. Одна проблема состоит в отсутствии общего согласованного определения «социальных навыков» и недостатке валидных средств измерения (Bellak, 1983). Степень, до которой очевидный недостаток социальных навыков может быть рассмотрен отдельно от дисфункциональных когниций или навыков решения проблем, не ясна.
Фридман с коллегами (Freedman et al., 1978) разработали Инвентарь подростковых проблем (Adolescent Problems Inventory, АРТ), который требует от оцениваемых указать, как бы они среагировали (или как им следовало бы среагировать) на ряд представленных в словесной форме проблемных ситуаций. Авторы пришли к выводу, что реакции делинквентов свидетельствовали о менее компетентных стратегиях, чем у «добропорядочных граждан» или «лидеров». Хотя API значимо коррелирует с Щ, эти различия сохранялись и между уравненными по IQ подгруппами. API также выявлял делинквентов, причиняющих больший вред окружающим. Венециано и Венециано (Veneziano, Veneziano, 1988) уётановили, что средний показатель по API, полученный на большой делинквентной выборке, оказался ниже, чем у делинквентов и неделинквентов из исследования Фридмана с коллегами. В дальнейшем Дишон с коллегами (Dishion et al., 1984) установили, что показатель API связан с делинквентностью по официальным данным и по данным самоотчетов, хотя отметили при этом, что социальная некомпетентность, судя по всему, не являлась причиной делинквентности. Хауэллс (Howells, 1986) также подчеркивает, что любая корреляция между дефицитарностью социальных навыков и криминальным поведением может быть побочным продуктом.
Хотя API не различает делинквентов с точки зрения количества или типа преступлений (Hunter, kelley, 1986), Венециано и Венециано представили доказа-
и
![]()
тельства конвергентной и дискриминантной валидности этой шкалы. Они разделили помещенных в исправительные учреждения делинквентов по группам социально некомпетентных, умеренно компетентных и компетентных делинквентов в зависимости от показателей API и обнаружили, что некомпетентная группа отличалась от остальных по ряду переменных. Представители этой группы оказались не только менее интеллектуально развитыми, у них также было больше проблем с дисциплиной и семейных проблем, и они описывали сами себя как более импульсивных, враждебно настроенных, агрессивных и имеющих экстернальный локус контроля. Делинквенты женского пола, как было показано при применении женской версии опросника, также имели меньше социальных навыков, чем неделинквентные девушки (Gaffney, 1984). Женская версия шкалы также связана с делинквентностью по официальным данным и по данным самоотчетов (Ward, McFall, 1986).
Впрочем, API измеряет только ограниченные аспекты социальной деятельности. Наблюдения невербального поведения дают менее четкие результаты. Спенс (Spence, 1981) изучал как молекулярные, так и глобальные компоненты социальной интеракции, извлеченные из кратких интервью с делинквентными мальчиками, помещенными в исправительные учреждения, и учениками обычных школ. Делинквенты отличались по нескольким молекулярным компонентам: больше ерзали на стуле и вертели что-либо в руках, меньше обменивались взглядами, меньше кивали головой и меньше говорили. Они также были оценены как менее социально компетентные или менее работоспособные и в то же время как более тревожные, хотя и не менее дружелюбные. Колинвуд и Гентер (Collingwood, Genther, 1980) тоже сообщают, что делинквенты обнаруживают дефициты в основных навыках общения, таких как умение следить за реакциями других и умение слушать, и что среди подростков, прошедших программу тренинга навыков, рецидивисты отличались от нерецидивистов более низким уровнем навыков как до, так и после тренинга. В противоположность этому Ренвик и Эмлер (Renwick, Emler, 1991) сообщили, что средние показатели делинквентной выборки как по оценочным шкалам социальных навыков, так и по самооценочным шкалам трудностей в общении оказались схожими с соответствующими показателями, полученными неделинквентами в других исследованиях. Ни один набор использованных мер не коррелировал с делинквентностью по данным самоотчетов. Однако общие социальные навыки могут быть менее релевантными для антисоциального поведения, чем специфические навыки для разрешения конкретных ситуаций, таких как давление делинквентной группы сверстников, конфликт или столкновение с авторитетными фигурами (Spence, 1982; Howells, 1986).
Возможно, делинквенты неоднородны в том, что касается социальной компетентности (Veneziano, Veneziano, 1988), и исследования реакций на социальные сигналы также указывают в этом направлении. Часто высказывалось предположение, что делинквенты нечувствительны к социальным сигналам в результате неспособности их дезорганизованных семей обеспечить адекватное обучение их различению. Эксперименты по вербальному обусловливанию вроде бы подтверждают эту гипотезу в той мере, в какой делинквенты демонстрируют меньшие перемены в поведении при социальном «подкреплении» 00nson, 1976). Однако Стюарт (Stewart, 1972) показал, что делинквенты не только не неоднородны в этом отношении, но и не являются нечувствительными к социальным сигналам. Во время
8.
![]()
проб вербального обусловливания невротические делинквенты повышали свои вербальные реакции, демонстрируя эффект социального подкрепления. Психопаты, наоборот, существенно снижали реагирование относительно базисного оперантного уровня. Таким образом, они были чувствительны к социальным сигналам, подаваемым экспериментатором, но, по-видимому, считали их аверсивными.
Эти последние данные высвечивают неоднозначность, присущую попыткам идентифицировать социальные «навыки» с позиции наблюдателя. Трауэр (ттwer, 1984) доказывает, что социальные навыки не могут быть определены или поняты в отрыве от контекста намерений субъекта действия и социальных смыслов, передаваемых поведением. Исследование мальчиков, помещенных в исправительные учреждения, которое провели Райм с коллегами (Ктй et al., 1978), иллюстрирует это. За психопатическими и непсихопатическими подростками велись наблюдения в течение короткого интервью. Психопаты демонстрировали значительно больший контакт глаз, меньше улыбались, больше жестикулировали и больше наклонялись вперед (к интервьюеру). Хотя авторы интерпретируют этот паттерн как ин;рузивное поведение, являющееся следствием нечувствительности к межличностным сигналам, они также обнаружили, что интервьюеры говорили меньше, когда общались с психопатами. Более того, налицо было большее соответствие между невербальным поведением интервьюеров и интервьюируемых во время общения с психопатами, чем во время интервьюирования непсихопатов. Альтернативная интерпретация заключается в том, что психопатические мальчики имели намерение напугать интервьюера или взять над ним власть. В этом смысле они не только не являлись нечувствительными, но и были компетентными в достижении своих целей. Это согласуется с положением теории самопрезентации, что преступники усваивают стиль межличностного общения, в котором демонстрируется «грубый и жесткий» имидж. Такой стиль может считаться «неумелым» только в том смысле, что в репертуаре индивидуума отсутствуют альтернативные способы поведения для совладания с ситуацией.
Исследования социокогнитивного функционирования до сих пор отчасти копировали более ранние исследования личностных и когнитивных переменных. Они продолжают уделять много внимания малолетним преступникам и популяциям исправительных учреждений; также продолжают поступать доказательства о неоднородности преступников, и, как отмечают Росс и Фабиано (Ross, Fabiano, 1985), дефициты социокогнитивных навыков обнаруживаются только у некоторых преступников. Кроме того, остаются значительные теоретические проблемы, касающиеся связи дефицитов социокогнитивных навыков с девиантным поведением. Тем не менее имеющиеся данные уже позволяют сделать вывод о том, что многие преступники вовлекаются в антисоциальное поведение вследствие задержки на эгоцентрическом уровне когнитивного развития, недостаточного продумывания социальных последствий своих действий и дефицита навыков совладания с проблемными ситуациями. Хотя для выведения заключений о взрослых преступниках требуется больше данных, это направление исследований оказало значительное влияние на современные подходы к реабилитации преступников (см. главу 13).
![]()
ГЛАВА 9
Агрессия и насильственные
преступления
Введение
Сообщения о «бессмысленной», на первый взгляд, жестокости не только вызывают взрыв внутреннего негодования, но и выбивают из колеи, разрушая предсказуемость окружающей обстановки. Таким образом, насилие превращается в единственный источник общественного беспокойства по поводу «закона и порядка», и недавно проведенный в Великобритании опрос общественного мнения вскрыл широко распространенное убеждение в том, что 50 0/0 преступлений, рассматриваемых в суде, это насильственные преступления. Однако лишь менее 9 0/0 мужчин и 40/0 женщин, представших перед судом в Англии и Уэльсе в 1988 г., были признаны виновными в совершении преступления против личности (Ноте 0ffice, 1989), и опросы о виктимизации показывают, что страх общества перед насилием несоразмерно велик по сравнению с реальной опасностью. Тем не менее насилие представляет собой проблему для общественного здравоохранения как с точки зрения непосредственных пагубных эффектов, так и долговременных социальных и психологических последствий для жертв и их семей.
Насильственные преступления представляют собой только небольшой сегмент феномена человеческой агрессии, которая, несмотря на негативные коннотации, не является ни статистически анормальной, ни, по большей части, выходящей за рамки закона. В этой главе рассматривается применение насилия отдельными людьми в контексте агрессии как обычного поведения.
Определение насилия и агрессии
Насилием называют принудительное воздействие на кого-либо с причинением материального ущерба или телесного повреждения. Преступное насилие представляет собой незаконное применение силы и включает убийство, нападение, разбойное нападение с целью грабежа, изнасилование и другие сексуальные нападения. Убийство — это лишение жизни другого человека. Убийство в целях самозащиты может быть оправдано в суде, но здесь мы будем рассматривать только преступные убийства, которые включают тяжкое убийство (умышленное противозаконное лишение жизни) и простое убийство (противозаконное лишение жизни в ответ на провокацию, ненамеренно или по халатности). Различные виды нападения в целом определяются как действия, вызывающие телесные повреждения (увечья), но простое нападение представляет собой угрозы или попытки
![]()
нанести вред, которые не доходят до оскорбления действием, а разбойное нападение — это ограбление с применением угроз или физической силы. Хотя изнасилование квалифицируется прежде всего как насильственное преступление, оно будет рассматриваться в главе 11 вместе с остальными половыми преступлениями. Такие преступления, как поджог, нанесение ущерба вследствие преступных действий и нарушение техники безопасности на производстве, могут повлечь за собой тяжкие телесные повреждения, но их обычно не относят к категории насилия.
Агрессия характеризуется намеренным причинением вреда, включающего наряду с телесным повреждением и психологический дискомфорт, хотя иногда она произвольно приравнивается к силовым действиям в ситуациях соперничества. Однако то, что истолковывается как вредящее действие, зависит от ценностей и социального контекста, и социально узаконенное наказание или самозащита скорее всего не будут расценены как агрессия. А это значит, что агрессия относится к такому причинению вреда, которое является неоправданным с точки зрения наблюдателя, и потому понятие агрессии не может быть лишено своего нравственного смысла (Van Eyken, 1987). Следовательно, в поведении животных можно отыскать только ограниченные соответствия агрессии человека.
При наличии зависимости идентификации агрессии или насилия от атрибуций и ценностей наблюдателя неудивительно, что в научной среде нет согласия по поводу определений этих понятий. Определения, используемые представителями социальных наук, не всегда охватывают одинаковый диапазон событий. Одни сосредоточивают внимание на вредных послеДствиях, другие — на форме поведения, такой как угрозы или попытки причинить вред. Некоторые не придают значения намерению и социальному смыслу и в результате относят к одной категории действия с несопоставимыми целями. Бихевиористы, например, часто определяют агрессию «объективно» — как «любую реакцию, которая доводит вреднодействующие раздражители до другого организма» (Buss, 1961). Такое определение, вероятно, охватило бы поведение дантистов, судей и невнимательных водителей! Однако, несмотря на антипатию бихевиористов к неизмеряемым, выведенным логическим путем конструктам и обозначающим их терминам, такой конструкт, как намерение (или интенция), имплицитно присутствует в описаниях поведения на любом уровне языка: просторечном, литературном и научном. Например, слово «удар» описывает намеренное действие, а не только наблюдаемое движение.
Большинство психологов в настоящее время эксплицитно включают конструкт «намерение» в определение агрессии и ограничивают содержательную область термина «агрессия» действиями, нацеленными на причинение ущерба или вреда человеку, который мотивирован избежать этого (Zillmann, 1979). Под такое определение подходит и законное, и противозаконное поведение, но при этом оно позволяет отличать вред, причиненный «по злому умыслу», от вреда, причиненного «в благих целях», такого как хирургическое вмешательство, и от причинения личного вреда, которого жертва добивается по мазохистским мотивам. Таким образом, это определение согласуется с понятием (преступного) насилия как намеренного причинения ущерба не желающей этого жертве. В рамках данного определения агрессивное поведение может принимать форму причинения физического вреда, устных оскорблений или пассивного препятствования, а последствия агрессивного поведения могут варьироваться от гибели людей до уязвленного
самолюбия.
Определение насилия и агрессии
![]()
Подведение таких разных явлений под одну рубрику предполагает, что они выполняют в общих чертах равнозначные функции. Однако гневная, или мотивированная раздражением, агрессия, при которой причиненный ущерб или повреждение, нанесенное жертве, уменьшает аверсивное эмоциональное состояние, отличается от инструментальной, или мотивированной внешними стимулами, агрессии, при которой причинение ущерба способствует достижению неагрессивных целей (Buss, 1961; Zillmann, 1979). Это разделение указывает на то, что эмоциональное состояние гнева, которое имеет физиологические, когнитивные и экспрессивные компоненты, необязательно сопровождает агрессивное поведение. Схожим образом, криминологи различают инструментальное насилие и враждебное, или экспрессивное, насилие. Грабеж с насилием, таким образом, представляет собой инструментальную агрессию, а неспланированное или импульсивное насилие по большей части опосредовано гневом (Berkowitz, 1986).
Родственным термином является враждебность, содержательную область которого Басс (Buss, 1961) ограничил негативными оценками или аттитюдами негодования, недоверия или ненависти. Некоторые авторы используют термины «агрессия» и «враждебность» как взаимозаменяемые, но Циллманн (Zillmann, 1979) отделяет агрессию как причинение телесного повреждения (или материального ущерба) от враждебности как причинения нефизического вреда. Как бы там ни было, склонность придерживаться негативных представлений о других людях следует отличать от склонности нападать на других в состоянии гнева (Blackburn, 1972), и потому здесь мы будем следовать употреблению этого термина Бассом. Тедеши (Tedeschi, 1983) считает все определения агрессии связанными с определенными ценностями и потому неудовлетворительными. Он предлагает альтернативное понятие — право на принуждение, представляющее собой форму социального влияния, которая предполагает использование угроз или наказаний с целью добиться соблюдения общеустановленных норм и правил. Это означает, что любое поведение, на которое навешивается ярлык «агрессия», подкрепляется правом (на применение силы) и контролем, однако Берковиц и Доннерштейн (Berkowitz, Donnerstein, 1982) утверждают, что первичным подкрепителем гневной агрессии является причинение вреда. Впрочем, причинение вреда и достижение контроля на практике не всегда легко различимы, и концепция Тедеши имеет преимущество в плане акцентирования межличностного контекста агрессии. Она также проясняет различия между агрессией, господством (доминированием) и ассертивностью (напористостью), которые часто оказываются нечеткими. Все три вида поведения представляют собой влияние посредством проявления силы (власти), но предполагают разные степени враждебности. Это нашло отражение в межличностном круге Лири, в котором принуждение представляет собой комбинацию доминирования и враждебности (см. главу З).
Основныё операциональные определения агрессии были суммированы Бертильсоном (Bertilson, 1983) под рубриками исследований конкретных случаев и обследований, интервью, мер личности, прямых наблюдений поведения, полевых экспериментов и лабораторных процедур. Они охватывают данные самоотчетов об агрессии и наблюдения мягких мер возмездия, а также участие в получившем юридическое определение насилии. Впрочем, лабораторные исследования были подвергнуты массированной критике за их неспособность состыковать операциональные определения с концептуальными, за их искусственность и пренебреже-
9 Зак. 364
![]()
ние социальным смыслом и за их спорную внешнюю валидность (Tedeschi, 1983). Например, часто используемой экспериментальной парадигмой является «машина агрессии» Басса, где испытуемые нажимали на кнопку, которая обеспечивала болезненную стимуляцию «ученику». Один из пунктов критики состоит в том, что испытуемый действительно мог нажимать на кнопку из добрых побуждений, а не по злому умыслу.
Отвечая на эту критику, Берковиц и Доннерштейн (Berkowitz, Donnerstein, 1982) утверждают, что экспериментальные условия и испытуемые совсем не обязательно должны быть репрезентативными, чтобы эксперимент имел внешнюю валидность, и что искусственность лабораторной обстановки составляет ее преимущество при проверке причинных гипотез. Они приводят примеры внешних коррелятов лабораторных процедур, таких как «машина агрессии». Они также доказывают, что вбзможность обобщения (или распространения на естественные условия) результатов эксперимента зависит от того, какой смысл испытуемый придает своей ситуации, и что при экспериментальном изучении агрессии вызывается умышленно вредоносное поведение. Тем не менее не редкость, когда в таких экспериментах не выявляются смыслы, которые испытуемые придают ситуации, и изучается агрессия, которая легитимирована данной обстановкой. В этом отношении они могут больше помочь в изучении поведения судей и присяжных, чем обвиняемого на скамье подсудимых.
Раскрываемость убийств полицией достаточно высока, и было накоплено значительное количество информации об их распространении и о характеристиках жертв и преступников. Большинство убийств совершается в больших городах, однако их уровень широко варьируется в разных странах и коррелирует с насилием в обществе в целом. В табл. 9.1 приводятся сравнительные показатели для нескольких стран, однако интерпретировать эти цифры нужно с осторожностью в силу различий в процедурах регистрации. Наиболее высокие уровни убийств отмечаются в странах Центральной Америки, тогда как Великобритания входит в число стран с самыми низкими уровнями. США имеют самый высокий уровень убийств среди промышленно развитых стран, однако внутри страны уровни убийств существенно различаются при сравнении южных и северо-восточных штатов. Интересно отметить, что по тем данным, которые приводит Гивен (Given, 1977), уровень убийств в Англии в XIII веке составлял 15 человек на 100 000. Во всех странах было зарегистрировано значительное повышение уровня убийств с конца 1960-х, хотя по крайней мере в США это отчасти отражает исключительно низкий уровень насилия в 50-х гг. (Block, 1977). В Англии и Уэльсе среднее количество убийств, регистрируемых ежегодно, выросло с 300 в 1960-х до 600 в конце 1980-х. И тем не менее убийство продолжают относить к разряду редко совершаемых преступлений.
Вольфганг (Wolfgang, 1958) проанализировал 588 убийств, совершенных в Филадельфии в период с 1948 по 1952 г. Две трети преступлений произошло между пятницей (после 8 часов вечера) и субботой, а преступники и жертвы чаще
Формы насилия
![]()
всего были чернокожими, мужского пола и младше 30 лет. Жертвы и преступники были знакомы или связаны между собой в 560/0 случаев убийств мужчин и в 840/0 смертей женщин, причем мужчины в девяти случаях из десяти были убиты вне дома, а большинство женщин были убиты у себя дома и 41 % из них — своими партнерами. В противоположность этому только 11 % мужчин были убиты своими женами. Наиболее частым способом убийства было нанесение удара колющим оружием; в трети случаев жертва была застрелена. Убийству чаще всего предшествовали ссоры, перебранки между партнерами, чувство ревности и ссоры из-за денег. Менее 396 преступников были признаны невменяемыми; 40/0 совершили самоубийство после убийства.
Таблица 9.1
Уровень убийств на 100 000 населения, совершенных в различных странах в 1984 г.
|
Страна |
Уровень |
Страна |
Уровень |
|
Колумбия |
37,4 |
Польша |
1,6 |
|
Мексика |
17,9 |
Австрия |
|
|
Бразилия |
|
Израиль |
|
|
Венесуэла |
12,9 |
Франция |
1,3 |
|
США |
8,5 |
Шотландия |
1,3 |
|
Эквадор |
7,1 |
Новая Зеландия |
1,2 |
|
Аргентина |
3,8 |
ФРГ |
1,2 |
|
Венгрия |
2,7 |
Испания |
|
|
Канада |
2,3 |
Греция |
|
|
Италия |
2,1 |
Англия и Уэльс |
|
|
Австралия |
1,9 |
Египет |
0,5 |
|
Источник• United Nations (1988). Demographic Yearbook. New York: United Natrons РиЬhshing Dlwsion. |
|||
Исследования, проведенные в Хьюстоне (Pokorny, 1965) и в Чикаго (Block, 1977), дали сходные результаты, хотя Блок обнаружил более высокие цифры убийств с использованием огнестрельного оружия и убийств незнакомых людей, связанные с более высокими показателями убийств во время разбойного нападения. Схожие картины, хотя и с некоторыми вариациями, наблюдаются в других странах. В Великобритании расовый элемент менее заметен, также совершается меньше убийств с применением огнестрельного оружия и во время разбойного нападения, однако выше доля жертв (мужчин и женщин), которые были знакомы с убийцей (Gibson, 1975). Примерно у 300/0 преступников регулярно диагностируются психические расстройства, и до 1960 г. около 300/0 убийц совершали самоубийство. Эта цифра недавно снизилась до 80/0.
![]()
Большинство убийств составляют «преступления по страсти», связанные с взаимодействием между знакомыми людьми. Убийства с несколькими жертвами, исключая убийства семей, встречаются редко, и здесь убийца и жертвы обычно незнакомы. При массовых убийствах погибают несколько жертв в результате одного нападения; при серийных убийствах убийства повторяются через какой-то, иногда продолжительный, период. Эти убийства встречаются редко и поэтому изучались мало и были объектами повышенного внимания разве что журналистов. Однако, по оценкам Холмса и Де Бургер (Holmes, DeBurgher, 1988), 350 находящихся на свободе серийных убийц в США могут нести ответственность за 3500 нераскрытых убийств. В противоположность этому Дженкинс (Jenkins, 1988) считает, что более правдоподобной цифрой является 35 убийц на 400 жертв. Он выявил только 12 серийных убийц в Англии между 1940 и 1985 гг.
Нападения с нанесением тяжких телесных повреждений имеют схожие с убийствами демографические и пространственные показатели. Питман и Хэнди (Pittтап, Handy, 1964) установили, что нападения такого типа совершаются чаще в выходные дни и преимущественно имеют внутрирасовый характер, но происходят скорее в общественных, чем в уединенных местах, и в них чаще (по сравнению с убийствами) применяются ножи. Данные Покорни (Pokorny, 1965) и Блока (Block, 1977) указывают на то, что большинство убийств являются нападениями, при которых преступник зашел дальше, чем намеревался, а исход зависит от взаимодействия жертвы и преступника и от используемого оружия.
Жертвами нападения с целью грабежа (robbery) обычно становятся мужчины «на улицах». Опять-таки этот тип преступления более характерен для больших городов. Преступниками в этом случае обычно являются подростки или молодые взрослые мужчины. Хотя они часто угрожают оружием, они редко пускают его в ход и редко наносят жертве серьезные повреждения. Например, Блок (Block, 1977) установил, что ограбления с убийством жертвы составляют в Чикаго 2096 от всех убийств, но только 1 % от всех нападений с целью грабежа. Исследования грабежей в Лондоне (McLintock, Gibson, 1961) и в Филадельфии (Normandeau, 1969) показали, что 75 0/0 таких преступлений относятся к одной из двух категорий. Первая категория включает грабеж тех людей, которые в силу своей профессии могут располагать крупной денежной суммой, например водители такси или продавцы, и предполагает предварительное планирование. Ко второй категории относятся незапланированные и связанные с наличием возможности действия, такие как вырывание сумок или маггинг[22] в общественных местах. Преступники по большей части являются молодыми и выбирают себе жертву, которая не способна оказать сопротивления.
Конечно, далеко не новость, что один член семьи может проявлять насилие по отношению к другому члену семьи, однако, напРимер, проблема жестокого обращения с ребенком получила признание на общественном уровне только в 1960-х, а проблема жестокого обращения с женой — совсем недавно. В силу долгих тради-
Формы насилия
![]()
ций подразумевалось, что насилие в семье — это «нормальное» явление, и право на телесное наказание охраняется законом, который неравномерно распределяет права между мужем и женой и между родителями и детьми. Хотя в большинстве западных стран сейчас приняты законы, которые обязывают сообщать о пренебрежении ребенком, насилии или жестоком отношении к нему, все чаще высказывается мысль о том, что нападения на членов семьи должны рассматриваться системой уголовного правосудия. Тем не менее общество все еще слишком терпимо относится к насилию в семье. Результаты социологических исследований, проведенных в Америке, указывают на то, что более 90 0/0 родителей при осуществлении дисциплинарных мер когда-либо причиняли своим детям боль (Straus, Gelles & Steinmentz, 1980).
Учитывая амбивалентное отношение к насилию в семье, дать точное определение «жестокого обращения» крайне сложно, как и в случае определения агрессии, поскольку оно неотделимо от принятых в конкретном обществе норм и всегда будет субъективным (Parke, 1977; Emery, 1989). Термин часто носит всеохватный характер: под него подпадают физическая агрессия, пренебрежение материальными потребностями ребенка, сексуальная эксплуатация, плохое обращение в эмоЦИОНиЬНОМ плане и др. Некоторые отличают жестокое обращение как совершение действия, нанесшего ущерб, от пренебрежения как несовершения действия, повлекшего негативные последствия. Здесь мы будем придерживаться этого различения. В рамках этих категорий фокус различных определений лежит на намерениях виновного, форме, частоте и тяжести действия или на его последствиях для жертвы. Как следствие, для описания различных поведенческих паттернов может использоваться одно и то же определение. Например, толчок может быть описан как намеренное жестокое обращение, однако он не обязательно нанесет физический ущерб потерпевшему.
Следовательно, весьма сложно получить надежные оценки распространенности насилия в семьях, так как жертвы иногда не хотят, а иногда и не могут подать жалобу. Официально сообщаемые цифры жестокого обращения с ребенком и заброшенности детей в США достигли более миллиона случаев в 1980-х. Эти оценки являются весьма приблизительными и, что вполне возможно, серьезно заниженными, но одно из наиболее заметных последствий сложившегося положения выражается в том, что насилие в семье является основным источником преступного насилия. Например, пятую часть всех убийств в США и треть убийств Англии составляют убийства, совершенные в семье. Как установил Вольфганг (Wolfgang, 1958), женщин чаще убивают дома и они, вероятнее всего, становятся жертвами своих мужей или любовников. Опять-таки, 1200 детей погибло в США в 1986 г. в результате жестокого физического обращения или заброшенности со стороны родителей (Widom, 1989а).
Данные на основе самоотчетов были получены в результате Национального опроса о насилии в семье, проведенного в США в 1975 г. и повторенного в 1985 г. (Straus, Gelles & Steinmetz, 1980; Straus, Gelles, 1988). Этот последний опрос включал телефонное интервьюирование 3232 семейных пар с ребенком до 17 лет. Вопросы задавались относительно случаев насилия в семье, которые определялись как действия, совершенные с намерением причинить вред другому. В целом 16,1 0/0 семейных пар имели хотя бы один случай проявления насилия, включая шлепки и толчки; 6,30/0 указали на случаи серьезного насилия в течение предыду-
![]()
щего года, Выводы о серьезности акта насилия делались на основе того, был ли человек ударен ногой, укушен, ударен кулаком, ударен каким-либо предметом, избит, душили ли его или угрожали ножом либо пистолетом и применяли ли это оружие. Серьезное насилие было совершено мужьями в отношении 3,40/0 жен и женами в отношении 4,80/0 мужей, что дает оценки на национальном уровне в 1,8 и 2 миллиона человек соответственйо. Почти все дети до трех лет включительно и около трети детей старше 14 получали шлепки и затрещины от своих родителей, а 11 % всех детей имели опыт серьезного насилия. Серьезное насилие также направлялось 530/0 детей на своих братьев или сестер и 9 0/0 детей — на одного из родителей.
Эти цифры свидетельствуют о том, что проявление агрессии в семье представляет собой достаточно частое явление, однако к ним нужно относиться с осторожностью по нескольким причинам. Во-первых, авторы предполагают, что они могут быть заниженными вследствие социально желательного реагирования. С другой стороны, насилие было определено скорее с позиции намерения, чем результата, который не всегда бывает пагубным. Во-вторых, эти данные действительны только для США, но не для других стран (Fergusson et al., 1986). В-третьих, данные о насилии жен над мужьями являются спорными, поскольку они противоречат той точке зрения, что насилие в супружеской паре преимущественно совершается мужьями. Строс и Геллес (Straus, Gelles, 1988) отмечают, что насильственные действия мужей причиняют больший ущерб и что применение насилия женами может носить характер самозащиты. Однако последнее не нашло подтверждения в исследовании супружеских пар, которое показывает, что женщины достаточно часто проявляют агрессию первыми (0'Leary et al., 1989).
Согласно официальной статистике, невыполнение родительских обязанностей, приводящее к появлению заброшенных (запущенных) детей, встречается в шесть раз чаще, чем жестокое физическое обращение с ребенком; сведения о распространенности других форм плохого обращения ограниченны. Насилие может иметь место при ухаживании. В одном исследовании сообщается, что 32 0/0 студентов испытали на себе насилие со стороны партнера во время свидания, тогда как 25 0/0 были в роли «насильников» (Murphy, 1988). Жесткое обращение с пожилыми людьми также распространено, хотя в основном подпадает под категорию насилия в супружеских парах. Степень, до которой эти различные формы жесткого обращения перекрываются, не известна, но на основе результатов некоторых исследований можно предположить, что она является значительной. Например, в одном исследовании женщины, которые были избиты мужьями (или сожителями), сообщили, что 80 0/0 нанесших им побои также совершали насилие и над другими, включая детей и родителей (Walker, 1988).
Теории агрессии
Теории опираются на различные допущения о природе агрессии и потому различаются по акценту на врожденных или приобретенных компонентах, внутренних или внешних детерминантах и аффективных или когнитивных процессах. Таким образом, они различаются объектами или процессами, к которым обращены решающие вопросы о том, каким образом приобретаются, поддерживаются и регулируются агрессивные тенденции и как «запускаются» или чем провоцируются акты агрессии. Сводка характерных образцов таких теорий будет составлена исхо-
дя из того, какие ответы они дают на вышеуказанные вопросы. В целях удобства эти теории сгруппированы под рубриками биологических, психодинамических, поведенческих (преимущественно социального научения) и социально-психологических перспектив.
В отличие от все прочих биологических видов, люди обладают гораздо большей способностью к научению различным способам достижения одних и тех же вредоносных целей. Однако, подобно любой координированной активности, агрессивное поведение зависит от врожденных структурных свойств мозга и мускулатуры. В биологических подходах предполагается, что эта координация находится под контролем врожденных и специфических нейрохимических систем, и акцент делается скорее на сходствах между животными и человеком, чем на их различиях.
Более изощренная концепция приходит от социобиологов, таких как Уилсон (Wilson, 1978), который рассматривает социальное поведение с точки зрения эволоции. Постулируется, что эмоции, самопонимание и открытое поведение находятся под контролем генетических предрасположенностей, которые образовались в ходе эволюции и обеспечивают воспроизводство вида, выживание индивида и альтруизм. Агрессия является выражением универсальной эмоциональной предрасположенности, которая, однако, подвержена культурной адаптации и зависит от индивидуального научения. Все люди обладают этой предрасположенностью, но агрессивное поведение является адаптивной реакцией на угрозы выживанию, а не выбросом спонтанной энергии.
Филогенетическая преемственность поведения рассматривается и Мойером (Moyer, 1981), который использует данные исследований электростимуляции и хирургического удаления участков головного мозга у животных и у людей, страдающих органической патологией. Он предлагает подразделять агрессию на восемь видов:
1) агрессию хищников;
2) межсамцовую;
З) вызванную страхом;
4) агрессию при раздражении;
5) территориальную;
6) материнскую; 7) связанную с полом; 8) инструментальную.
За исключением инструментальной агрессии, которая не требует специфической физиологической основы, эти виды поведения, согласно Мойеру, регулируются врожДенныли нейронными цепями, которые активируются под воздействием гормонов и компонентов крови. Когда эти системы возбуждаются при наличии релевантной мишени, они продуцируют интегрированное атакующее поведение, хотя научение у человека может влиять на выбор мишеней и торможение поведения. Марк и Эрвин (Mark, Ervin, 1970) наряду с Монро (Monroe, 1978) сходным образом отстаивают существование в мозге человека определимой системы, которая организует направленное атакующее поведение. Они делают особый упор на «синдроме дисконтроля», демонстрируемом склонными к насилию людьми, при котором, как предполагается, повреждены механизмы лимбической системы, обычно тормозящие агрессивное поведение (см. главу 6).
Инструментальная агрессия присуща исключительно людям, и поскольку она не требует специфической физиологической системы, ее истоки должны лежать в культурной эволюции и индивидуальном развитии. Аналогично, способность отложить месть свойственна только человеку. Социобиологи соглашаются с этим, но продолжают настаивать на том, что человеческая агрессия сама по себе возникла вследствие генетических преимуществ, и отмечают повсеместность межгрупповых конфликтов и агрессии. Сведения, полученные благодаря археологическим раскопкам, тем не менее позволяют заключить, что доисторические люди были сравнительно миролюбивыми и что организованная межгрупповая агрессия появилась только в последние 10 000 лет (Turner, Turner & Fix, 1976). Этого времени явно недостаточно для генетической эволюции.
Второе направление критики касается доказательств существования физиологических систем, специфичных для агрессии. Исследования методами стимуляции и экстирпации участков головного мозга не дали однозначных доказательств наличия таких систем у низших животных, не говоря уже о человеке (Goldstein, 1974; Valenstein, 1976). Хотя в некоторых исследованиях на животных наблюдались компоненты атакующего поведения при гипоталамической или лимбической стимуляции, интерпретация этих данных в пользу наличия специфической физиологической системы небесспорна. Поведенческие эффекты могут, например, быть вызваны изменениями уровня общей возбудимости, которые оказывают отрицательное воздействие на перцептивные функции (karli, 1981). Изучение пациентов с неврологическими заболеваниями также позволяет предположить, что предыдущая (до болезни) агрессивность обусловливает связь между органическим нарушением и насилием (Mungas, 1983).
Третья линия критики нацелена на предполагаемую неизбежность человеческой агрессии. Карли (karli, 1981) отмечает, что эволюционное развитие определяет адаптивные стратегии для совладания с различными классами событий, а не специфические реализации повеДения и что биологи-теоретики склонны переоценивать значение специфических моделей поведения. Генетическое программирование могло создать состояние готовности к агрессии при определенных условиях, таких как возбуждение гнева, однако будет ли эта готовность реализована в конкретном действии, зависит в большей степени от онтогенеза, чем филогенеза.
Социальная и культурная видоизменяемость агрессии часто является ключевым моментом при объяснении половых различий. Несмотря на то что различные тендерные роли несомненно зависят от усвоения культурных стереотипов, явно ббльшая агрессивность представителей мужского пола у всех видов нередко рассматривается как доказательство филогенетической основы агрессии. Эксперименты над животными, антропологические, кросс-культурные исследования и исследования детского развития — все указывают в этом направлении (White, 1983), но есть и исключения, даже для животных. Эйврил (Averill, 1982) практически не обнаружил половых различий в переживании и выражении гнева, а исследования социализации людей показывают, что тендерные различия в агрессии отнюдь не неизменны (White, 1983). Таким образом, врожденная готовность объ-
9
![]()
ясняет только часть вариации, а биологические различия между полами, вероятно, взаимодействуют с культурными поло-ролевыми предписаниями, обусловливая дифференцированное подкрепление специфических видов поведения для мужчин и женщин (Cohen, Machalek, 1989).
Попытки объяснить половые различия в агрессии и преступное насилие лиц мужского пола с точки зрения генетических и гормональных факторов пока не дают однозначных результатов (см. главу 6). Хотя близнецовые исследования подтверждают вклад генов в индивидуальные различия агрессии (Rushton et al., 1986), остается неясным, предполагает ли это передачу специфических механизмов, таких как выработка тестостерона, или неспецифических факторов, таких как уровень активности, которые способствуют научению агрессии.
Не существует единой психодинамической теории агрессии, но в общем психоаналитики допускают существование агрессивного инстинкта или влечения (Киtash, 1978). В фокусе психодинамических теорий оказывается поиск ответов на вопросы о том, как агрессивное влечение направляется в приемлемое русло и контролируется в ходе индивидуального развития и как оно примиряется с ЭБО и Суперэго и регулируется внутренними механизмами этих структур личности.
Фрейд первоначально рассматривал агрессию как реакцию на фрустрацию и боль. Позднее он ввел понятие инстинкта смерти (Танатос), тенденцию к саморазрушению, которая перенаправляется либидинальным инстинктом самосохранения (Эросом) на объекты внешнего мира, угрожающие жизненным интересам (Freud, 1920/1955). Многие психоаналитики отвергают это понятие, но признают существование инстинкта агрессии. Инстинктивные проявления включают не только деструктивное поведение, но и агрессивные фантазии, межгрупповую враждебность и суицид. Агрессивное влечение проходит в своем развитии через ту же последовательность стадий, что и либидо. Таким образом, оно проявляется в кусании (оральный садизм) и в удерживании фекалий (анальный садизм), и в случае фиксации эти реакции могут стать устойчивыми чертами агрессивного характера. Хотя агрессия может быть спровоцирована внешними событиями, например соперничеством с братьями или сестрами, агрессивные импульсы генерируются постоянно и могут прорываться в форме иррационального насилия у лиц с недостаточным контролем Суперэго. Агрессивная энергия может перенаправляться на другие цели, и ключевым допущением в модели инстинкта является понятие катарсиса, т. е. избавления от агрессивного напряжения (букв. «очищения») посредством прямого или заместительного выражения. Идея катарсиса лежит в основе распространенной точки зрения, согласно которой подавление агрессии вредно для здоровья, а энергичные соревнования рассеивают агрессивные чувства.
Эго-психологи детально разработали направление «агрессия на службе Эго». В дополнение к перенаправлению посредством смещения и видоизменению деструктивных целей путем сублимации агрессивная энергия может подвергаться нейтрализации, предоставляя Эго возможность осуществить самоутверждающие и конструктивные цели (Hartman, kris & Lowenstein, 1949). Развитие Суперэго делает возможной интернализацию агрессивной энергии благодаря переживанию вины, но инстинктивная энергия продолжает генерироваться, и для совладания
![]()
с конфликтующими требованиями либидо, Суперэго и реальной действительности необходима постоянная сублимация и нейтрализация. У здорового человека эго-контроль видоизменяет агрессивное влечение и предотвращает насилие. При расстройствах личности слабость Эго приводит к вытеснению агрессии и к ее выражению в фантазии или символических действиях либо к «отыгрыванию» в импульсивных актах насилия (kutash, 1978).
Психодинамическая модель инстинкта имеет сходство с моделью Лоренца. Недостатки гидравлической концепции инстинкта уже были отмечены, а допущение о катарсическом рассеянии агрессии имеет крайне слабую эмпирическую поддержку (Green, Quanty, 1977). К тому же предположение о том, что неагрессивные виды поведения, такие как конструктивное утверждение себя, представляют собой проявления преобразованной деструктивной энергии, позволяет истолковать практически любую активность как агрессивную.
Неофрейдисты критикуют концепцию инстинкта и приводят доводы в пользу социокультурной основы агрессии. Фромм (Fromm, 1973) проводит различие между оборонительной, или Доброкачественной, агрессией как биологически запрограммированной реакцией на угрозу и деструктивной, или злокачественной, агрессией как специфически человеческим явлением, возникающим в тех случаях, когда социально-экономические условия препятствуют реализации экзистенциальных потребностей в межличностных связях или личной эффективности. Злокачественная агрессия не связана по происхождению с доброкачественной агрессией и отличается от инструментальной агрессии. Она проявляется в жестокости и пытках и типична для саДистических характеров, которые испытывают потребность контролировать других. Концепция Фромма повлияла на включение садистического расстройства личности в DSM-III-R. Однако остается спорным, может ли злокачественная агрессия быть отделена от доброкачественной (гневной) или от инструментальной агрессии, а садизм как средство межличностного контроля явно охватывается понятием права на принуждение.
Подходы с точки зрения научения применяют оперантную парадигму и парадигму моделирования и рассматривают человеческую агрессию как усвоенную и поддерживаемую в соответствии с индивидуальной историей прямого и викарного подкрепления и наказания. Отвергая теорию инстинкта, большинство приверженцев теории научения сохраняют понятие активации в форме импульса или возбуждения, однако расходятся в своих объяснениях связи между возбуждением и познанием.
Предположение, что агрессия становится более вероятной, если был опыт успешной агрессии или имело место наблюдение агрессивных моделей, в настоящее время вполне доказано экспериментальными исследованиями и наблюдениями. Например, Паттерсон (Patterson, 1982) продемонстрировал, как принудительное поведение в семьях усиливается и поддерживается своими последствиями в форме прекращения аверсивного воздействия или получения внимания. Однако что именно является подкрепителем агрессии, остается неясным (Zillmann, 1979). Инструментальная агрессия, по определению, положительно поДкрепляется получением вознаграждений, таких как материальные блага, социальное положение или одобрение. С другой стороны, предполагается, что гневная агрессия отрица-
![]()
тельно поДкрепляется смягчением гнева или устранением аверсивного воздействия. В некоторых объяснениях, однако, предполагается возможность положительного подкрепления гневной агрессии причинением ущерба: сами признаки нанесенного вреда могут оказывать подкрепляющий эффект. Это предположение не получило однозначного подтверждения в экспериментах, и признаки боли или физического ущерба скорее тормозят агрессию (Zillmann, 1979). Тем не менее остается спорным вопрос о том, получает ли агрессивное действие, такое как грабеж с насилием, подкрепляющий стимул (деньги) или же устраняет аверсию (нищета). Аналогичные неясности окружают эффекты наказания агрессии, так как наказание может быть рассмотрено как встречная агрессия.
Отдельно следует рассматривать антецеденты агрессии и факторы, являющиеся связующим звеном между ними и агрессией как результатом. Доллард с коллетами (Dollard et al., 1939) основывались на ранней теории Фрейда при формулировании своей гипотезы «фрустрация—агрессия», которая утверждает, что фрустрация в форме препятствования направленной на достижение цели активности является основным антецедентом агрессии. Фрустрация подстрекает к попыткам причинить зло источнику фрустрации, но если предвидится наказание, то реакция сдерживается до тех пор, пока не будет перенаправлена на альтернативную мишень.
Первоначальная версия теории не получила широкого признания, поскольку фрустрация вызывает и другие реакции, не только агрессию, а агрессия может быть в равной степени спровоцирована оскорблением или нападением, угрозой чувству собственного достоинства или болью (Buss, 1961). Берковиц (Berkovitz, 1989) долго отстаивал теорию, доказывая, что в таких антецедентах есть элементы фрустрации. Он рассматривает подстрекательство (instigation) как реактивное побуждающее состояние гнева, которое склоняет индивидуума к причинению ущерба мишени, но для разблокирования агрессивного реагирования необходимы выученные ключи (leamed сии), такие как оружие. Таким образом, эта теория применяется к гневной, а не к инструментальной агрессии. Хотя наказание может тормозить инструментальную агрессию, оно создает фрустрацию и повышает гневную агрессию. В своем последнем, когнитивно-неоассоцианистском, пересмотре теории Берковиц (Berkovitz, 1989) доказывает, что отношение фрустрация—агрессия является частным случаем более общего отношения между аверсивной стимуляцией и агрессивными наклонностями. Отмечая, что агрессия усиливается физическим дискомфортом и плохим настроением, так же как препятствованием или оскорблением, он предполагает, что негативный аффект является основным источником гневной, агрессии. События, воспринятые как неприятные, вызывают негативный аффект, который связан ассоциативными сетями с воспоминаниями и выразительными двигательными реакциями, имеющими отношение и к бегству, и к агрессии. Связанные с гневом мысли, возбужденные этой связью, могут привести к агрессии в зависимости от когнитивных оценок ситуации. Однако когнитивные оценки играют скорее вторичную, чем первичную роль.
Другие теоретики придают большее значение когнитивному опосредованию и заменяют понятие специфического агрессивного драйва понятием неспецифическото возбуждения. Экспериментальные исследования показывают, что гнев усиливает попытки причинить ущерб (Rule, Nasdale, 1976). Эйврил (Averill, 1982) также обнаружил, что повседневное возбуждение гнева усиливает размышления
![]()
о причинении вреда мишени. Он также пришел к выводу, что фрустрация была общим антецедентом гнева. Впрочем, концепция специфического драйва причинения ущерба ставится под вопрос в исследованиях, которые показывают, что напряжение, вызванное фрустрацией, может быть снижено неагрессивным поведением, устраняющим аверсию, равно как и прямой агрессией (Hokanson, 1070). Эффекты фрустрации и наказания также зависят от того, насколько реципиент воспринимает их как оправданные (Zillmann, 1979; Averill, 1982). Очевидно, что это включает нормативные суждения и когнитивные оценки в отношении намерения фрустратора.
Наиболее полной когнитивной теорией агрессии является теория, предложенная Бандурой (Bandura, 1983). Подкрепляющие ситуативные обстоятельства (сопtingencies) обеспечивают информацию о последствиях поведения, но такая информация наиболее легко приобретается посредством обсервационного научено, благодаря которому люди формируют ожидания о вероятных исходах различных способов поведения при осуществлении своих целей. Впрочем, эти ожидания включают и последствия для самого субъекта действия, и поведение корректируется в соответствии с личными и социальными стандартами посредством автономных процессов самовознаграждения и самонаказания. Стандарты могут тем не менее, переопределяться или нейтрализовываться когнитивными искажениями, такими как обвинение или дегуманизация жертвы.
![]() Бандура отвергает концепцию специфического
агрессивного драйва и считает различия между гневной и инструментальной
агрессией несущественными по тем соображениям, что любая агрессия является
инструментальной с точки зрения достижения желаемой цели. Согласно его
предположениям, и аверсивный субъективный опыт, и положительные внешние стимулы
порождают общее увеличение эмоционального возбуждения. Оно активизирует любые
релевантные реакции, которые являются наиболее сильными в поведенческом
репертуаре. При попытках справиться с аверсивным опытом агрессия является
только одной из возможных стратегий, которые могут включать избегание или
конструктивное решение проблем, в зависимости от навыков и умений индивидуума.
С этой точки зрения, устойчивая агрессия может являться не только следствием
подкрепления такого поведения, но и неспособности научиться неагрессивным
способам совладания с аверсивными событиями или получения желаемого
вознаграждения.
Бандура отвергает концепцию специфического
агрессивного драйва и считает различия между гневной и инструментальной
агрессией несущественными по тем соображениям, что любая агрессия является
инструментальной с точки зрения достижения желаемой цели. Согласно его
предположениям, и аверсивный субъективный опыт, и положительные внешние стимулы
порождают общее увеличение эмоционального возбуждения. Оно активизирует любые
релевантные реакции, которые являются наиболее сильными в поведенческом
репертуаре. При попытках справиться с аверсивным опытом агрессия является
только одной из возможных стратегий, которые могут включать избегание или
конструктивное решение проблем, в зависимости от навыков и умений индивидуума.
С этой точки зрения, устойчивая агрессия может являться не только следствием
подкрепления такого поведения, но и неспособности научиться неагрессивным
способам совладания с аверсивными событиями или получения желаемого
вознаграждения.
Хотя Бандура не дает никакой отдельной интерпретации гнева, именно эта эмоция находится в фокусе внимания представителей социально-когнитивной теории в последнее время (Averill, 1982; Novaco, 1978; Novaco, Welsh, 1989; Levey, Howells, 1990). Тенденция испытывать частый и сильный гнев представляет собой стрессовую реакцйю, которая ухудшает социальное функционирование и физическое здоровье. Хотя уравнивание гнева и агрессивного драйва является спорным, многократно отмечалось, что гнев имеет отдельный физиологический паттерн и что возбуждение гнева служит причиной попыток причинить вред источнику. Однако причинение вреда — это только одно из средств смягчения гнева, и более важной (первичной) функцией гнева может быть регуляция отношений. Как говорит Эйврил (Averill, 1982), «людей различают по тому, что вызывает у них гнев». На основе дневников, в которых каждый день регистрировались случаи наличия или отсутствия эмоции гнева, он установил, что это наиболее часто переживаемая эмоция, возникающая, в основном, при близких отношениях и,
![]()
несмотря на то, что она часто неприятная, имеющая в случае ее сообщения или выражения обычно конструктивные последствия. В той степени, что насильственное преступление свяЈывается с гневной агрессией, агрессивные преступники могут иметь проблемы с переживанием и выражением агрессии.
Условия, которые вызывают гнев, остаются предметом дискуссий. Согласно одной влиятельной точке зрения, характер эмоционального опыта зависит от когнитивного ярлыка, которым помечается неспецифическое состояние возбуждения (Schachter, 1964). В полном соответствии с этим утверждением Циллман (Zillmann, 1979) обнаружил, что когда испытуемых провоцировали на гнев, дальнейшее возбуждение от внешних источников, таких как тренировка, жара, эротика, неверно определялось (по своему источнику) и усиливало агрессию. Однако эти результаты были получены в лабораторных условиях, источники возбуждения в которых редко встречаются в реальной жизни. Противоположной точки зрения придерживается Лазарус (Lazarus, 1991), который долго доказывал, что характер эмоционального возбуждения сам обусловлен когнитивно процессами оценки, протекающими как на уровне физиологических схем, так и на сознательном уровне. Бек (ВесК, 1976) опирается на эту теорию и рассматривает специфические эмоции как результаты специфических когнитивных оценок. Так, тревога является результатом оценки опасности, тогда как гнев следует за оценкой незаконного вторжения в личные владения человека, которые наряду с личными отноШеНИЯМИ и личной собственностью включают Я-концепцию и ценности. Новако (Novaco) тоже рассматривает гнев как следствие оценки физического нападения, словесной угрозы или оскорбления, сокращения ожидаемых подкрепителей или несправедливости и, подобно Беку, точно описывает источники необъективности в содержании и операциях когнитивных схем, способствующие дисфункциональному гневу.
На более общем уровне, приверженцы теории атрибуции предполагают, что гнев является следствием специфических каузальных атрибуций (Ferguson, Rule, 1983; Weiner, 1986). Например, Фергюссон и Руле считают, что вызываемый гнев зависит не только от степени воспринимаемого аверсивного воздействия других, но и от суждений о том, была ли аверсия намеренной, недоброжелательной, предсказуемой и необоснованной. Такие умозаключения делаются исходя из того, что, по мнению индивидуума, Должно быть на самом деле, и таким образом отражают личные ценности, права и самооценКу. В этом смысле у гнева есть значимое нравственное измерение.
Хотя немногие сегодня подвергают сомнению посредническую роль когнитивных атрибуций в возбуждении гнева, их первичная каузальная роль продолжает оспариваться. Берковиц (Berkovitz, 1990) полагает, что первичная оценка, инициирующая эмоциональное возбуждение, ограничивается областью восприятия неприятных событий. Каузальные атрибуции начинают оказывать влияние на поведение только после того, как гнев был активирован ассоциативными сетями. Таким образом, он отрицает, что эмоция является следствием оцененного ЛИЧНОго смысла события. Однако связь между эмоциональным возбуждением и когницией, по-видимому„носит реципрокный характер. Предшествующее эмоциональное состояние безусловно может влиять на порог возбуждения гнева, и, согласно исследованиям Циллмана, люди могут неверно определять источник их возбужения при определенных условиях.
![]()
Современные социально-когнитивные подходы учитывают социальные влияния на агрессию, но основную роль отводят индивидуальным факторам. Некоторые социальные психологи доказывают, что агрессия может быть понята только при обращении к социальному контексту и смыслу агрессивного действия. Например, Фелсон (Felson, 1978) считает, что агрессия является способом управления впечатлением, восстанавливающим находящуюся под угрозой идентичность. Другие подчеркивают более широкое влияние социальных структур и культурных норм. Здесь мы рассмотрим три примера этих подходов.
Тедеши (Tedeschi, 1983) делает упор на социальные причины использования права на принуждение. Опираясь на теорию обмена, он отмечает, что принуждение часто является последним средством, когда другие методы социального влияния оказались безуспешными. Право на принуждение отражается в сообщении угроз, что за неуступчивостью последует наказание, или в вынесении решения о наказании. Право на принуждение становится особо заметным в ситуациях конфликта по поводу вознаграждений или угроз власти либо статусу и в тех случаях, когда ситуация грозит обернуться бедой (либо уже обернулась), и может предписываться нормативными стандартами или индивидуальными характеристиками. Агрессивное применение права на принуждение обычно является запрещенным или противоречащим общественным нормам, но принуждение часто носит оборонительный или репрессивный характер и предписывается как таковое социальными нормами. Нормы взаимности требуют, чтобы «вредителю» был причинен вред в таком же размере. Они широко распространены в обществе и поощряют межличностное и межгрупповое применение насилия. Нормы справедливости могут вызывать ощущение относительной депривации и несправедливости, что может мотивировать человека на достижение ресурсов незаконными способами (ср, теорию аномии). Решение об использовании права на принуждение зависит от оценки вероятных затрат и пользы и поддерживается потребностью в сохранении собственного имиджа или своего авторитета, а также страхом. Принятие такого решения более вероятно в случае, если индивидуум имеет низкую самооценку и считает, что бессилен повлиять на события, или же если неверно оценивает затраты из-за искаженной временнбй перспективы, эгоцентризма или интоксикации. Некоторые из этих причин применения права на принуждение выделяются во всех социально-когнитивных теориях; подход Тедеши отличается, в основном, в акцентировании межличностной уступчивости как цели или подкрепителя межличностного ущерба.
В русле классовых теорий Вольфганг и Ферракути (Wolfgang, Ferracutti, 1967) предложили понятие субкультуры насилия, которая предписывает насилие как норму. Эта норма входит составной частью в систему аттитюдов «настоящего мужчины» («мачо»), придающего особое значение возбуждению, статусу, чести и мужественности. Если налицо угроза этим аттитюдам, возникают воинственные реакции. Было предположено, что те группы, в которых наиболее высокий уровень убийств, придерживаются субкультурных ценностей насилия, которые конфликтуют с ценностями доминантной культуры. Как мы уже упоминали, убийства чаще всего совершают молодые мужчины, небелые, принадлежащие к низшим слоям общества. Попытки подтвердить это предположение не дали однозначных результатов. Болл-Рокич (Ball-Rokeach, 1973) не смог установить паттерн ценност-
![]()
ных ориентаций <<МаЧО» среди склонных к насилию мужчин безотносительно к уровню их образования или доходов. Эрлангер (Erlanger, 1974) обнаружил, что бедные, чернокожие, молодые мужчины чаще арестовывались и осуждались за участие в драках, но он не смог подтвердить свой прогноз, что мужчины, которые участвуют в драках, будут чувствовать себя как более одобряемые группой. Он предполагает существование «субкультуры маскулинности», в которой насилие — это просто один из многих каналов выхода бурной энергии. Несмотря на сохраняющуюся популярность, гипотеза субкультуры насилия остается не подтвержденной. Некоторые полагают, что именно доминирующая культура и поддерживает нормы насилия.
Марш (Marsh, 1985, Marsh, Rosser & Напё, 1978) принимает более феноменологический подход к молодежной субкультуре, опираясь на который он исследовал, каким образом социальные правила управляют агрессивным поведением английских футбольных фанатов. Эта работа выполнена в русле этогенной (ethogenic) социальной психологии Харрё и нацелена на обнаружение правил, которые люди приписывают своему поведению, на основе анализа их объяснений намерений и эмоций. Хотя фанаты английского футбола известны своими стычками с болельщиками соперников, по наблюдениям Марша, причинение серьезного физического ущерба является исключением и ббльшая часть футбольного «хулиганства» представляет собой ритуализованное насилие в форме насмешек и жестов. Это поведение управляется обоюдно принятыми правилами, которые предписывают принятие враждебных поз и «разглагольствование о насилии», но групповые правила минимизируют физический контакт. Посещение футбольных игр важно для мужчин из городского рабочего класса, которые испытывают при этом чувство принадлежности и нужности и получают возможность испытать сильное волнение, которого недостает им в обыденной жизни. Ритуализованные контексты выполняют, таким образом, конструктивную функцию и содержат агрессию. Марш проводит аналогии с низшими позвоночными, и потому его теория близка к социобиологии. Однако представление о ритуализации предполагает агрессивные функции межгруппового соперничества, которые могут не быть очевидным фактором. Тем не менее работа Марша показала, что проявление насилия может управляться общими концептуальными схемами, которые определяют, когда оно будет адекватным.
Согласно этим подходам, агрессия рациональна и не является анормальной, когда рассматривается в своем социальном контексте. Однако в этих подходах гневная и инструментальная агрессия не различаются. Некоторые считают, что эти подходы нерелевантны для гневной агрессии и для индивидуальных актов преступного насилия. Например, Берковиц (Berkowitz, 1986) на основе интервью с лицами, совершившими насильственное преступление, заключает, что их преступления по большей части были импульсивными актами гневной агрессии, которые не управлялись социальными нормами и не мотивировались потребностью воплотить свой специфический Я-образ. Циллман (Zillmann, 1979) также предполатает, что когнитивный контроль агрессии определяется уровнем физиологического возбуждения. При низких или высоких уровнях возбуждения когнитивное опосредование сведено к минимуму, а агрессия является импульсивной и находится под непосредственным стимульным контролем. Впрочем, насильственные действия, которые отклоняются от социальных норм (что имплицитно присутст-
вует в маркировке действия как «импульсивного»), могут тем не менее управляться правилами, хотя эти правила и носят сугубо личный характер.
Различение между склонностями и действиями особенно важно для понимания насилия, так как антецеденты склонности вести себя агрессивно, вероятнее всего, являются дистальными, такими как ранние детские впечатления. Антецеденты акта агрессии, с другой стороны, включают проксимальные факторы, такие как события текущей жизни или ситуационные факторы, предшествующие нападению. Природа агрессии как склонности рассматривается в следующем разделе. Здесь мы коснемся в первую очередь социальных и других средовых антецедентов (т. е. предпосылок) агрессивных действий, вне зависимости от того, предрасположены участники событий к такому поведению или нет.
Некоторые считают, будто идея о том, что преступление может быть спровоцировано жертвой, это просто замаскированный вариант перекладывания на нее ответственности за совершение преступления. Однако эта идея совпадает с представлением символического интеракционизма о столкновениях с применением силы как «происходящих в определенных обстоятельствах трансакциях» (situated transactions), при которых участники вовлекаются в «противоборство характеров» (character contests). Анализ разных последовательностей событий на материале убийств и нападений показывает, что существенным фактором является обмен взаимными оскорблениями (Toch, 1969; Luckenbill, 1977; Felson, Steadman, 1983). Стремление отплатить обидчику может быть как попыткой сохранить лицо, так и стратегической формой самообороны. Обычно это начинается с нападок на идентичность соперника, например с оскорблений, затем следуют попытки и неудачи повлиять на другого, угрозы и переход конфликта с вербального уровня на уровень физических действий. Применение насилия, таким образом, больше является результатом событий, вызывающих эскалацию конфликта, чем особенностей или первоначальных целей участников.
На основе интервью с агрессивными преступниками из шотландской тюрьмы Берковиц (Berkowitz, 1986) заключил, что хотя желание сохранить лицо может спровоцировать агрессивный обмен, его интенсификация больше связана с импульсивными попытками причинить ущерб жертве. Однако вполне возможно, что интеракции, заканчивающиеся применением насилия, будут варьироваться в зависимости от контекста, а также от стилей и навыков межличностного общения участников, которые они привнесут в ситуацию.
Учитывая использование средств массовой информации для изменения аттитю'дов и поведения, представление о том, что показ сцен насилия в фильмах и телевизионных программах может повышать агрессию зрителей, не кажется неожиданным. Эмпирические доказательства этого были получены еще в 1930-х гг. (Wober, 1989), однако обеспокоенность общественности частым показом эпизодов насилия по телевидению и его возможным влиянием на детей породила широкие исследования в этой области в последние десятилетия, особенно в США.
Большинство исследований было посвящено кратковременным приростам незначительных актов агрессии, хотя в некоторых исследованиях изучались эффекты теленасилия в отношении преступных насильственных действий. Хеннинген с коллегами (Henningen et al., 1982) сравнили уровень преступности в американских городах с наличием и отсутствием телевещания в период между 1949 и 1952 гг. Они нашли, что введение телевизионного вещания не привело к повышению уровня убийств, нападений при отягчающих обстоятельствах, грабежей с применением насилия и краж автомашин, хотя обнаружился прирост уровня похищения имущества, который они отнесли на счет возросшего осознания относительной депривации среди бедного населения. С другой стороны, Филлипс (Phillips, 1983) заявил, что «насилие в• СМИ Действительно провоцирует агрессию в реальной жизни». При этом он исходил из данных о том, что после показов боксерских поединков на звание чемпиона США среднесуточный показатель убийств повышался. Самые высокие значения в 12,596 были получены на третий день после показа поединка, и поскольку расовая принадлежность жертвы изменялась в направлении соответствия с расовой принадлежностью проигравшего, Филлипс доказывал наличие здесь эффектов моделирования. Тем не менее изменения в выборе жертв не соответствовали общему максимально высокому значению на третий день, что само по ребе требует объяснения. Таким образом, строгие выводы на основе этих данных кажутся преждевременными.
Есть некоторые указания на то, что просмотр сцен насилия оказывает как непосредственное, так и отсроченное воздействие на антисоциальную агрессию. Эрон (Eron, 1987) сообщает о том, что наблюдение сцен насилия на телеэкране в детстве было значимо связано с уровнем агрессии 22 годами позже, включая преступное насилие, и это свидетельствует о возможном усиливающем влиянии теленасилия на склонность к агрессии. Однако ретроспективное исследование лиц, совершивших насильственное преступление, которое провели Хит, Крутшнитт и Уорд (Heath, kruttschnitt & Ward, 1986), показало, что чрезмерное увлечение детей просмотром телепередач со сценами насилия было связано с совершением в дальнейшем насильственных действий только при условии жестокого обращения с ними родителей.
Процессы, посредством которых просмотр телевизионных передач с насилием влияет на агрессию, носят безусловно сложный характер. Обычно предполагается, что эффекты зависят от моделирования агрессивных разрешений конфликтов, хотя этот процесс не является единообразным, и мало оснований предполагать копирование конкретных актов насилия. Краткосрочные эффекты могут включать повышенное возбуждение, которое активирует агрессивные реакции в тех случаях, когда они превосходят другие по силе. Частый просмотр сцен насилия может также иметь десенсибилизирующий эффект, ослабляя сдерживание агрессии (Thomas et al., 1977). Однако телевизионные программы, включающие насилие, не делаются в отрыве от социального контекста и являются как продуктом реальных превалирующих норм, так и формирующим их фактором. Воздействие насилия на телеэкране, таким образом, не может рассматриваться изолированно от других социальных факторов, влияющих на агрессию.
Мифы, сложившиеся вокруг употребления алкоголя и наркотиков, породили представление о том, что преступления, особенно насильственные, чаще всего совершают в состоянии интоксикации. Исследования же показывают, что делинквентность и употребление психоактивных веществ составляют часть девиантного стиля жизни, порожденного действием множества факторов, и любая связь здесь может носить второстепенный характер (0sgood et al., 1988). Тем не менее Голдштейн (Goldstein, 1989) считает, что злоупотребление психоактивными веществами может быть причинно связано с насилием тремя различными способами. При психофармакологическом 1шСИЛИИ наркотические эффекты сами по себе способствуют совершению насильственных действий. При экономически вынужденном насилии потребность обеспечить употребление наркотиков мотивирует инструментальные преступления, такие как грабеж с применением насилия или разбой. При систематическом насилии система распределения и обращения наркотиков порождает КОНФЛИКТЫ, разрешаемые путем насилия, как это было, например в США в период «сухого закона» или недавно при распространении кокаина в Майами.
Такие данные не могут служить доказательством причинной связи. Не было представлено данных об уровнях потребления алкоголя в сопоставимых группах людей, не совершивших преступления. К тому же практически все исследования основаны на материалах полиции или ретроспективных объяснениях преступников, и надежность этих данных невозможно установить. Сообщения преступников могут быть необъективными, поскольку заявление об опьянении является распространенной формой «отрицания девиантности» (McCaghy, 1968). Некоторые исследования также показывают, что большой процент преступников, не совершавших насилия, пили до совершения преступления (Collins, 1989). Исходя из этого можно предположить, что употребление алкоголя связано с криминальным поведением в целом или, возможно, с неудачной попыткой избежать раскрытия преступления. Более того, агрессия не является наиболее общим эффектом алкоголя. На основе интервью выборок канадских общин и наблюдений в барах Пернанен (Pernanen, 1991) установил, что наиболее часто опьянению сопутствовали общий положительный аффект и «безвредные глупые поступки», а опасные действия совершались редко. Однако «взвешивание» всех доказательств указывает все-таки на наличие особой связи между алкоголем и агрессивными преступлениями, и облегчающий агрессию эффект алкоголя был также продемонстрирован лабораторными исследованиями (Bushman, Cooper, 1990).
Тем не менее связь между приемом алкоголя и агрессией непроста. Малые дозы этилового спирта могут повышать возбуждение автономной нервной системы, а большие дозы могут снижать кортикальное возбуждение, однако относящиеся к нервной системе эффекты нестабильны (Brain, 1986). Хорошо известные последствия приема алкоголя — это ухудшение психомоторики, увеличение времени реакции и ухудшение общего когнитивного функционирования. Воздействие на психику варьируется в зависимости от типа и количества алкогольного напитка, а также от индивидуальных различий в телосложении, обмене веществ и приобретенной толерантности. Воздействие на настроение и социальное поведение является высокозависимым от социального и культурного контекста. С учетом этого были выдвинуты несколько возможных объяснений связи между алкоголем и агрессией.
Четвертая категория теорий рассматривает корреляцию алкоголь, —агрессия как отражающую Диспозиционные или ситуативные факторы. Личностные факторы могут заставлять людей и пить, и вести себя агрессивно Например, в одном исследовании (Buikhuisen, Van der Plas-korenhoff, Bontekoe, 1988) был установлен следующий факт: студенты, сообщавшие, что становятся агрессивными после употребления алкоголя, отличались от пьющих, но неагрессивных большей делинквентностью по данным самоотчетов, большей враждебностью, доминантностью и импульсивностью, опытом непоследовательного воспитания, а также повышенным временем восстановления электропроводимости кожи. Ожидания относительно эффектов алкоголя и разрешенное культурой для пьющих людей «временное отступление» от социальных правил могут способствовать девиантному поведению после употребления алкоголя (Critchlow, 1986). Наконец, некоторые ситуации, в которых употребляется алкоголь, тоже могут способствовать агрессии. Например, Грэхем с коллегами (Graham et al., 1980) установили, что наиболее предрасполагающие к агрессии бары в Ванкувере были непривлекательными, неприветливыми, обшарпанными, с «витающим в воздухе напряжением» и практически не устанавливали ограничений для поведения.
Эти теории скорее частично совпадают, чем конкурируют между собой, однако метаанализ экспериментальных исследований алкоголя и агрессии показывает, что не все они одинаково достоверны. Бушман и Купер (Bushman, Cooper, 1990) нашли значимые воздействия алкоголя на агрессию по сравнению с условиями плацебо и контроля, что говорит о облегчающем агрессию эффекте алкоголя как такового. Однако в условиях плацебо (ожидание алкоголя без его получения) и антиплацебо (получение алкоголя без его ожидания) не удалось заметить значимых эффектов, так что, по-видимому, ни фармакологические, ни психологические факторы по отдельности не являются важными детерминантами. Приведет ли прием алкоголя к агрессии будет зависеть от взаимодействия между индивидуальными особенностями пьющего, психологическими эффектами алкоголя и провоцирующими и сдерживающими факторами в конкретной ситуации.
Затяжное повышенное содержание алкоголя в крови ухудшает обработку информации и ослабляет рассудительность, делая агрессивное взаимодействие 60лее вероятным. Высокое потребление алкоголя среди освободившихся из мест заключения также препятствует их реабилитации и может побудить к совершению экономически вынужденных преступлений. Однако не исключено, что только небольшая часть алкоголиков становится преступниками и только часть из них совершают насильственные преступления. Например, Эдвардс, Хенсман и Пето (Edwards, Hensman & Peto, 1971) установили, что алкогольная зависимость была больше распространена среди преступников, совершающих малозначительные преступления. Койд (Coid, 1982) предполагает, что алкоголизм может быть не связан с насилием, но что расстройство личности в подгруппе алкоголиков предрасполагает их и к пьянству, и к насилию.
Средовые изменения, влияющие на биологическое, психологическое и социальное функционирование, могут переживаться как аверсивные или фрустрирующие. В фокус исследований часто попадали, например, связи между человеческой агрессией и средовыми факторами, такими как уровень шума и климат (Mueller, 1983). Некоторые исследования были также посвящены проверке устных рассказов о влиянии Луны на девиантное поведение. Либер и Шеррин (Lieber, Sherrin, 1972) полагали, что гравитационные силы Луны могут влиять на эмоциональное состояние, и продемонстрировали на двух американских округах, что наибольшее количество убийств приходилось на полнолуние и новолуние. Форбс и Лебо (Forbes, Lebo, 1977) не смогли подтвердить их выводы на основе данных об арестах за совершение насильственных преступлений.
О воздействии температуры можно говорить с большей определенностью. Андерсон (Anderson, 1989) сделал обзор полевых и лабораторных исследований и установил, что полевые эксперименты дают более согласующиеся данные, согласно которым повышение уровня убийств, изнасилований, нападений, массовых беспорядков и побоев, наносимых мужьями женам, связано с более жаркими регионами, годами, сезонами, месяцами и днями. Такие же эффекты были найдены в отношении загрязнения воздуха (Rotton, Frey, 1985). Хотя эффекты погодных изменений могут быть частично опосредованы изменениями социальных контактов и возможностей для агрессии, Андерсон (Anderson, 1989) считает, что данные согласуются с эффектами на индивидуальном уровне, такими как повышенный негативный аффект или ошибочная атрибуция возбуждения. Мюллер (Mueller, 1983) предполагает, что изменения окружающей среды (шум, жара, загрязнение воздуха) и межличностной среды (нарушение территории и личного пространства, скученность) функционируют как стрессоры и повышают вероятность агрессии вследствие облегчения доминантных реакций, нарушения обработки информации или воспринимаемой потери контроля. Такие стрессоры оказывают неоднородное влияние и сами по себе не являются достаточными для проявления агрессии.
Следующий фактор, который, возможно, играет особую роль в групповом насилии, это степень анонимности. Зимбардо (Zimbardo, 1970) предположил, что определенные условия, такие как анонимность, вовлеченность в групповую активность, диффузия ответственности между членами группы и сопутствующие изменения в уровне возбуждения, вызывают состояние ДеинДивиДуализации. Оно складывается из ощущения человеком своей незаметности на фоне других (или своей невыделенности из других), сниженного самоосознания и утраты беспокойства по поводу негативных последствий. Все это облегчает импульсивное поведе-
и
![]()
ние, часто с пагубными последствиями. Эмпирическая поддержка этого феномена практически отсутствует (Diener, 1977), однако Прентис-Данн и Роджерс (Prentice-Dunn, Rogers, 1983) нашли подтверждение предположению о том, что критическим признаком деиндивидуализации является сниженное личное самоосознание (private self-awareness), при котором ослабляется зависимость от внутренних стандартов и снижается когнитивный контроль. В результате индивидуум становится более чувствительным к агрессивным сигналам (сии). Критическими антецедентами являются поглощенность групповой деятельностью и другие условия, которые ведут к внешнему (экстернальному) фокусу внимания. Однако деиндивидуализация остается спорным понятием. Например, Бандура (Bandura, 1986) отмечает, что диффузия ответственности может растормаживать агрессию вследствие когнитивного реструктурирования и нейтрализующих представлений, а не из-за потери контроля.
Акты агрессии могут иногда совершаться людьми, для которых агрессивное поведение не является типичным. Это различие между действием и склонностью игнорируется в тех исследованиях, где «лица, совершающие насильственные преступления» определяются только через последнюю судимость. Так как совершение насильственного преступления несомненно зависит от ситуационных факторов и временных состояний индивидуума, то единичный акт насилия не может быть надежным показателем склонности насилию. В этом разделе пойдет речь о том, почему одни люди больше других склонны к совершению актов агрессии.
В некоторых лонгитюдных исследованиях была установлена временная устойчивость агрессии как черты. Олвеус (01weus, 1979) провел анализ исследований устойчивости агрессии у лиц мужского пола, измеряемой посредством порядковых оценок наблюдателя, номинативных оценок группы сверстников и прямого наблюдения, и выделил 12 исследований, в которых оценки делались по меньшей мере два раза с разрывом, колебавшимся от 6 месяцев до 21 года. Средний скорректированный коэффициент корреляции между двумя оценками был равен 0,79. Олвеус пришел к выводу, что агрессия достаточно устойчива во времени это не может быть объяснено постоянством ситуации. В следующем обзоре (01weus, 1981) он определил показатели устойчивости агрессии у лиц женского пола, оказавшиеся лишь слегка ниже мужских показателей.
Результаты других исследований соответствуют выводам Олвеуса. Например, ХЬЮСМаНН с коллегами (Huesmann et al., 1984) нашли, что номинативные оценки агрессии детей сверстниками в 8 лет значимо коррелировали с агрессией по данным самоотчетов, супружеских отчетов и уголовных досье 22 года спустя. Модели структурных уравнений дали оценки коэффициента устойчивости агрессии, равные 0,50 для лиц мужского пола и 0,35 для лиц женского пола. Аналогичным образом, в Кембриджском исследовании оценки агрессии в возрасте 8— 10 лет значимо коррелировали с агрессией по данным самоотчетов в отрочестве-юности и во взрослости (Farington, 1989). Поскольку эти исследования включали повторные оценки агрессии разными методами и в разных условиях, они позволяют гово-
![]()
рить о кросс-ситуационном и временнбм постоянстве. Кросс-ситуационное постоянство более прямо было продемонстрировано Фишбахом и Прайсом (Feshbach, Price, 1984). По их данным, корреляции между оценками школьников, агрессия которых оценивалась в школе и дома на протяжении двух лет, колебались от 0,39 до 0,59. Таким образом, агрессивные тенденции являются относительно устойчивыми атрибутами, которые отличают людей уже в начале их жизни.
По-видимому, преступное насилие является функцией такой склонности. Фаррингтон (Farrington, ' 1989) установил, что 22,4 0/0 тех, кого учителя оценили как крайне агрессивных в возрасте от 12 до 14 лет, в дальнейшем были осуждены за насилие, по сравнению с 7,2 0/0 менее агрессивных мальчиков, причем первые несли ответственность за 60 0/0 насильственных преступлений. Аналогичные данные получили Саттин и Магнуссон (Sattin, Magnusson, 1989). Робинс (Robins; 1978) также нашел, что постоянное участие в драках в детском возрасте с достаточной регулярностью предсказывает агрессивное поведение во взрослом возрасте. В целом же во всех этих исследованиях раннее проявление агрессии было связано с социальной девиантностью в дальнейшем. Это оправдывает использование понятия «синдрома» антисоциального поведения, главной чертой которого является агрессивность.
Во всех этих исследованиях, однако, высок процент ошибочных результатов типа «ложная тревога», и хотя большинство тех, кто проявляет насилие в период взрослости, были идентифицированы в детстве как агрессивные, только меньшинство агрессивных детей, став взрослыми, продолжают оставаться привычно агрессивными. Значительная часть остальных может сохранить агрессивность, проявляемую, однако, менее явными способами, но следует особо подчеркнуть, что в этом контексте устойчивость является только относительной. Таким образом, ранние проявления агрессивности как черты делают более вероятным совершение насилия в последующем, но будет лц совершено насильственное преступление, зависит от других личностных и средовых факторов.
На агрессию могут влиять генетические факторы, и близнецовое исследование Раштона с коллегами (Rushton et al., 1986) обнаружило существенную наследуемость такого признака, как агрессивность (по данным самоотчетов). Эти результаты не расходятся с исследованиями с позиции теории наущения, но указывают на то, что сам ребенок может вносить определенный вклад в научение агрессии. Например, Басс (Buss, 1961) предположил, что такие черты темперамента, как импульсивность, уровень активности, сила эмоциональных реакций и независимость, вполне могли бы способствовать наущению агрессии, создавай больше возможностеЙ для агрессивных обменов с ухаживающими за ребенком взрослыми или сиблингами.
Согласно современным взглядам, устойчивая агрессия зарождается в процессах семейного моделирования и подкрепления. Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивные дети и делинквенты чаще имеют девиантных родителей, которые часто конфликтуют между собой, игнорируют детей и не присматривают за ними, а агрессивные взрослые часто сообщают о том, что были свидетелями применения насилия и сами подвергались в детстве жестокому физическому обращению (см. главу 7). Поперечно-срезовые исследования дают сопоставимые результа-
и
![]()
ты. Буш с коллегами (Busch et al., 1990) установили, что в группе из 71 подростка, совершившего убийство, 580/0 имели члена семьи, совершившего насильственное преступление, по сравнению с 20 0/0 сопоставимых с ними по демографическим показателям неагрессивных делинквентов. Эти данные соответствуют предположениям теории социального научения, согласно которым семья предоставляет среду для научения, где агрессивные виды поведения моделируются, заучиваются путем повторения и подкрепляются. Такие семьи чаще находятся в невыгодном экономическом положении и включены в более широкий контекст социальной дезорганизации. Хотя связь между насилием и социальным классом остается спорной, по данным Броунфилда (Broenfield, 1986), агрессивная делинквентность по официальным данным и по данным самоотчетов была связана с такими показателями принадлежности к низшим слоям общества, как безработица в семье и зависимость от социального пособия, хотя она была слабо связана с более традиционными характеристиками класса, такими как род занятий родителей.
Семейные переменные тем не менее объясняют только малую часть ИЗМеНЧИвости насилия в последующем, В неконтролируемом исследовании агрессивных делинквентов Фаган и Векслер (Fagan, Wexler, 1987) нашли некоторую связь насилия по данным самоотчетов с преступностью и насилием в семье, однако насилие более сильно коррелировало с наличием знакомств с делинквентными сверстниками. Бласке с коллегами (Blaske et al., 1989) также установили, что среди юношей, которые выросли без отца, агрессивные делинквенты демонстрировали 60лее суровые и слабые отношения с матерями и ббльшую связь с девиантными сверстниками, чем делинквенты, совершившие половые или ненасильственные преступления. Аналогично в исследовании подростковых убийств (Busch et al., 1990) было установлено, что 41 % совершивших убийство входили в состав подростковых банд, по сравнению с 14 0/0 неагрессивных делинквентов. Данные последних исследований согласуются с комплексной теорией Эллиота (Elliott et al., 1985) и показывают, что совершение насильственных преступлений — это совокупный результат слабых семейных связей и научения агрессии в семьях в сочетании с сильными связями с девиантными сверстниками.
Однако пребывание в таких условиях само по себе не объясняет сохранение агрессивного стиля взаимодействия на протяжении всей жизни. В основе современных попыток объяснить такое постоянство лежат когнитивные теории и теории социального научения. Каспи, Бем и Элдер (Caspi, Вет & Elder, 1989) выделяют две формы субъект-средового взаимодействия, которые поддерживают наблюдаемое постоянство. Кумулятивная непрерывность возникает, когда склонность субъекта к агрессии приводит к отбору окружающих условий, которые поддерживают данную склонность. При интеракциональной непрерывности непосредственные и повторяющиеся последствия насильственных обменов препятствуют научению более контролируемым формам интеракции. Каспи с коллегами обнаружили, что дети с взрывным темпераментом двадцатью годами позже были оценены как менее управляемые и более раздражительные и, в общем, на протяжении всей своей жизни терпели неудачи в учебе, браке и работе, согласующиеся с воспроизведением дезадаптивного принуждающего стиля.
Интеракциональная непрерывность может быть объяснена на основе процессов подтверждения ожиданий. Ожидания представляют собой правила относительно будущих исходов стимулов и реакций (Bandura, 1986). Однажды установленные
![]()
как относительно общие правила, ожидания могут стать сильнее объективных взаимосвязей между стимулами и реакциями в конкретной ситуации и иметь результатом самоисполняющиеся пророчества (Carson, 1979). Например, враждебно настроенный человек будет ожидать враждебных реакций со стороны других и будет вести себя соответствующе, чтобы вызвать ожидаемую реакцию. Родственным понятием является понятие сценария (Abelson, 1981). Сценарии представляют собой когнитивные схемы, посредством которых предвосхищаются последовательности событий, и, подобно другим схемам, они обеспечивают быструю идентификацию значимых событий, но, к сожалению, ценой искажений повседневного взаимодействия. Хьюсман и Эрон (Huesmann, Eron, 1984) полагают, что сценарии контролируют агрессивные стратегии, однако упорство, с которым они применяются, и их стабильность зависят от кодирования первоначального поведения, когнитивных повторений и извлечения из памяти по признакам, ассоциативно связанных с кодированием. Хьюсман и Эрон предполагают, что кодирование укрепляется, когда ребенку не удается предвидеть неадекватные последствия агрессии или отрепетировать альтернативные стратегии. Это может объяснять связь детской агрессии с низким интеллектом (Huesmann et al., 1987). Аналогично этому агрессивные стратегии будут укрепляться при их воображаемом повторении. Агрессивные дети сообщают о большем фантазировании на тему агрессии, более частом просмотре телевизионных сцен насилия и большем отождествлении с телегероями. Агрессивные сценарии могут, таким образом, усиливаться и сохраняться во взрослом возрасте из-за периодического повторения, подтверждения ожиданий и отбора окружающих условий. Они образуют основу для селективной и враждебной оценки разнотипных ситуаций как эквивалентных и для автоматического реагирования последовательностью принуждающих актов.
Однако неспособность разграничивать настоящие и прошлые события обычно расценивается как дисфункциональная, и потому большее постоянство агрессии может быть более характерным для неадаптированных индивидуумов. Например, Рауш (Raush, 1965) установил, что, Хотя чрезмерно агрессивные и нормальные мальчики были схожи в том, что реагировали на недружелюбный антецедент недружелюбным образом, чрезмерно агрессивные мальчики чаще реагировали на дружелюбный антецедент недружелюбным образом. Видимо, они обладали меньшей способностью дифференцировать события, реагируя на благоприятные события так, как если бы они несли в себе враждебный смысл. Аналогично этому, когда преступников с психичёскими расстройствами просили описать свои реакции на сдерживающие или провоцирующие ситуации, они показали большее постоянство реагирования и меньшую способность различать ситуации, чем студенты (Blackburn, 1984). Недавняя работа (Wright, Mischel, 1987) также указывает на то, что постоянство агрессии является функцией социальной дезадаптации или дефицита социальной компетентности. Кросс-ситуационная согласованность оцененной агрессии у мальчиков с проблемами цоведения оказалась значимой, причем она была меньше, когда навыки мальчиков соответствовали требованиям ситуации, и значительно больше, когда требования ситуации относительно компетентности существенно превышали компетентность мальчиков. Авторы интерпретируют эти результаты как свидетельство того, что недостаток социальных знаний и умений, необходимых для правильного истолкования и последующего совладания с ситуацией, порождает стресс и ведет к недифференцированному реагированию.
Хотя агрессивность представляет собой относительно устойчивую склонность, ее постоянство и выражение зависит от личных характеристик, определяющих то, что создает у индивидуума отвращение или вызывает гнев, и от того, какие другие копинг-стратегии доступны ему в конфликтных ситуациях. Традиционно предполатается, что лицам, склонным к насилию, не хватает интернализованных средств контроля. В психодинамической теории и в ранних теориях научения полагалось, что существуют индивидуальные различия в приобретении эмоциональных тормозящих механизмов, сдерживающих вредоносное поведение, таких как тревога, вина, эмпатия и толерантность к фрустрации. В то время как традиционные теории концентрировались на аффективных аспектах, современные теории подчеркивают роль когнитивных оценок и логических выводов, и исследования в последние годы уделяют больше внимания факторам, которые облегчают проявление агрессии, таким как возбуждение гнева, и когнитивным процессам, которые опосредуют такое облегчение или, напротив, сдёрживание агрессии.
Склонность к преступному насилию также связывается с предрасположенностью к переживанию гнева. Селби (Selby, 1984) нашел, что заключенные, совершившие насильственные преступления, имели более высокие баллы по шкалам гнева и враждебности, чем неагрессивные преступники. Блэкборн и Ли-Эванс (Blackburn, Lee-Evans, 1985) также установили, что преступники-психопаты антиципировали ббльший гнев и агрессию в ситуациях фрустрации и провокации. С этим может быть связана самооценка. Угрозы маскулинному Я-образу и повышение или защита собственной репутации были значимо связаны с насилием, согласно наблюдениям за агрессивными стычками между полицейскими и делинквентами (Toch, 1969). Армстронг (Armstrong, 1980) показал, что гнев у делинквентов мужского пола может быть предсказан на основе сочетания низкой самооценки со стереотипизированной маскулинной ролью. Однако с возбуждением гнева больше связана не низкая самооценка как таковая, а нестабильная, высокоизменчивая самооценка (kernis, Grannemann & Barclay, 1989).
Тедеши (Tedeschi, 1983) предполагает, что низкая самооценка делает человека уязвимым к угрозам, но люди с низкой самооценкой могут также усваивать принудительные способы влияния взамен отсутствующих у них непринудительных способов достижения власти и статуса. Есть некоторые указания на связь агрессии с дефицитарностью социальных навыков. По некоторым наблюдениям, при разыгрывании ролей в конфликтных ситуациях преступники были более агрессивны, чем непреступники, и у них не хватало неагрессивных навыков отстаивания собственной позиции (kirchner, kennedy & Draguns, 1979). Однако не все агрессивные преступники демонстрируют недостаток социальных навыков (Непderson, 1982).
Хотя интеллект может оказывать влияние на раннее социально-когнитивное развитие, в современных теориях предполагается, что индивидуальные различия в легкости возбуждения гнева больше связаны с ожиданиями и процессами суждения, которые смещают в определенную сторону оценки межличностных событий. В ряде недавних исследований изучались эти аспекты у детей, которые вели себя агрессивно в школе и отвергались своими сверстниками. Поскольку у таких детей есть риск стать делинквентами (см. главу 7), эта работа проливает некоторый свет на факторы, которые могут опосредовать антисоциальную агрессию в дальнейшей жизни.
Исследования, касающиеся социально-когнитивных процессов, идут в двух направлениях. Во-первых, было показано, что агрессивные мальчики менее точно интерпретируют намерения сверстников в однозначных ситуациях и склонны ошибочно подозревать враждебные намерения в неоднозначных межличностных ситуациях, имеющих негативный исход (Dodge, 1986). Это указывает на быстрое реагирование на минимальное количество информации и избирательное внимание к социальным сигналам и, в целом, предполагает искаженное ожидание восприятия злого намерения. Хотя этот эффект удалось воспроизвести в нескольких исследованиях, он все же остается неточно установленным, и внимание прежде всего уделялось его корреляции с наблюдаемой агрессивностью, а не с возбуждением гнева. Однако Додж и Сомберг (Dodge, Somberg, 1987) продемонстрировали, что смещение атрибуций более очевидно в условиях умеренной угрозы, которая может активировать враждебные ожидания. Вторую сферу интереса образуют умения решать проблемы, и было установлено, что агрессивные мальчики, отвергаемые сверстниками, генерируют меньшее количество решений МокЛИЧностных проблемных ситуаций (Asarnow, Callan, 1985). Додж (Dodge, 1986) объединяет эти данные в виде последовательной модели: эффективное решение проблем проходит через стадии кодирования, интерпретации, поиска реакции, выбора реакции и реализации реакции. Агрессивные дети обнаруживают дефициты в первых четырех стадиях.
Мы подчеркивали, что единичный акт насилия сам по себе не может служить индикатором склонности к агрессии, и противоречивые данные о личностных коррелятах насильственных преступлений могут указывать на неоднородность лиц, совершивших насильственные преступления. Было предпринято несколько попыток выделить разные типы личности среди преступников, совершивших насильственные преступления.
На основе интервью с заключенными, совершающими в тюрьме акты насилия, Точ (Toch, 1969) выделил две широкие межличностные ориентации, которые были соотнесены с десятью типами мотивационных забот (motivational concems). Общей для всех явилась тенденция рассматривать взаимоотношения между людьми как управляемые силой. Одна группа чувствовала себя уязвимой к манипуляциям и применяла насилие в качестве стратегии самосохранения. В этой группе Точ выделил шесть ориентаций, которые включают защиту репутации, принуждение к выполнению норм, защит;у Я:образа, повышение Я-образа, самозащиту и устранение давлений путем насилия вследствие ограниченных социальных навыков. Вторая группа рассматривала других людей как объекты для удовлетворения своих потребностей и использовала насилие для манипулирования людьми. В этой группе выделяются четыре категории в зависимости от того, принимает ли насилие форму буллинга [23] , эксплуатации, принуждения для удовлетворения своих желаний или же катарсической разрядки. И хотя Точ предоставляет данные, подтверждающие достоверность этой типологии, она, по-видимому, не подвергалась перекрестной проверке на других выборках.
Мегарджи разработал шкалу чрезмерно контролируемой враждебности (overcontrolled hostility, ОН), а Лейн и Кинг (Lane, king, 1979) установили, что шкала ОН позволяет дифференцировать пациентов из психиатрических клиник с тюремным режимом, которые в прошлом совершали нечастые, но жестокие акты насилия. По их мнению, высокие показатели по шкале ОН говорят о ригидности, чрезмерном контроле, подавлении конфликтов и нежелании признавать у себя психиатрические симптомы. Уолтерс и Грин (Walters, Green, 1982) также нашли, что психиатрические амбулаторные пациенты с высокими показателями по шкале ОН чаще всего описывались своими лечащими врачами как склонные к хроническим, но жестко подавляемым чувствам гнева и враждебности. Также было установлено, что убийцы с высокими показателями по шкале ОН характеризуются недостатком ассертивности при разыгрывании ролей и меньшим выражением гнева в ответ на провокацию (Quinsey, Maguire & Varney, 1983). Однако некоторые исследования не смогли подтвердить валидность шкалы ОН (Truscott, 1990).
Представляется возможным выделить и две разновидности недостаточного контроля. Блэкборн (Blackburn, 1971а) выделил четыре четких личностных профиля с помощью кластерного анализа данных MMPI, полученных от 56 убийц с психическими расстройствами, и эти профили, как было показано впоследствии, более часто оказываются основными в популяции преступников с психическими расстройствами, совершивших насильственное преступление (Blackburn, 1975а, 1986). Эти же типы были выделены среди «нормальных» убийц (McGurk, 1978) и лиц мужского пола, совершающих насильственные преступления (Henderson, 1982), хотя в одном МММ-исследовании убийц, проходящих обследование до начала судебного разбирательства, были выделены несколько другие типы (HolсотЬ, Adams & Ponder, 1985). Эти четыре типа были описаны как первичные психопаты, вторичные психопаты, контролируемые или подчиняющиеся требованиям (controlled or confonning) и заторможенные (inhibited). Две первые группы похожи в том, что обнаруживают относительно сильные импульсивные и агрессивные тенденции и имеют сходство с манипулятивной и самозащищающейся группами по Точу соответственно. Последние две группы представляют две формы чрезмерного контроля, описанные выше. Было установлено, что 52 0/0 первичных психопатов и только 896 из заторможенной группы совершали акты насилия несколько раз, что согласуется с гипотезой чрезмерного контроля (Blackburn, 1984).
10 Зак. 364
Эти четыре группы представляют собой комбинации крайних значений двух измерений (dimensions) психопатии (Р У) и социальной самоизоляции (SW) (Blackburn, 1986). SW, по-видимому, опосредует и ослабляет связь между агрессивными тенденциями (РУЭ и наблюдаемым агрессивным поведением, вероятно потому, что связана с тормозными тенденциями и недостатком ассертивности. SW также может способствовать враждебности, так как враждебность обычно поддерживается, когда есть препятствия для межличностного общения. Поэтому насилие ЯУ-психопатов может быть менее предсказуемым и более импульсивным. Хейлбрун и Хейлбрун (Heilbrun, Heilbrun, 1985) обнаружили, что сочетание психопатии, низкого IQ и высокой SW было связано с самым высоким уровнем насилия в тюрьме.
Понятие «избитый ребенок» впервые появилось в работе Кемпе (Кетре et al., 1962) и означало «клиническое состояние маленьких детей, которым был причинен серьезный физический ущерб со стороны биологического или приемного родителя». Акцент на намеренном причинении ущерба также делается в более позднем понятии «избитой жены». Однако постепенно внимание к физическим аспектам жестокого обращения и характеристикам жестоких родителей ослабло и было перенесено на психологические последствия для жертвы. Поскольку дети и женщины, подвергающиеся жестокому обращению, составляют группу риска, представители которой могут впоследствии стать жестокими к другим, в данном разделе рассмотрены причины и последствия жесткого обращения с женами и детьми. Сексуальное насилие обсуждается в главе 11.
В прессе широко обсуждаются случаи крайней жестокости в обращении с детьми, хотя большинство эпизодов жестокого физического обращения с ребенком заканчиваются незначительными телесными повреждениями и являются импульсивными действиями, спровоцированными неуспешными попытками добиться от
ребенка дисциплины (Wolfe, 1987). Эти эпизоды обычно отражают прогрессирующее развитие аверсивных обменов между родителем и ребенком. Например, непоследовательно применяемое наказание ведет к большей сопротивляемости подавлению девиантного поведения и к уменьшению родительской способности управлять поведением ребенка с помощью положительного подкрепления. В таких условиях наказание начинает приобретать карательный характер и усиливается от случая к случаю (Parke, 1977; Patterson, 1982). Возможные причинные факторы жестокого обращения, таким образом, включают характеристики ребенка и родителя, историю их взаимодействий, неблагоприятные семейные условия, обостряющие аверсивные взаимодействия, а также социальные и культурные факторы, поддерживающие карательное наказание.
Характеристики ребенка могут быть одной из причин стресса родителя или вызывать у него невольное отвержение, поэтому неопытные матери могут быть «обучены» своими детьми аверсивным дисциплинарным мерам (Patterson, 1982). В одном обзоре (Fredrich, Boriskin, 1976) было продемонстрировано, что у детей, с которыми жестоко обращались, чаще встречаются преждевременное развитие, задержка умственного развития, физические дефекты и трудный темперамент и что родители, жестоко обращающиеся с детьми, склонны воспринимать их как отличающихся от других. Влияние родителя на ребенка и ребенка на родителя, таким образом, может способствовать жестокому обращению, хотя некоторые из этих факторов, например задержка психического развития, могут быть скорее следствиями, чем причинами.
Последующие исследования оказали некоторую поддержку концепции девиантных родительских диспозиций, хотя они все чаще и чаще рассматриваются как дефициты навыков. Обычно родители обладают недостаточным самоконтролем и неадекватно выражают гнев, также вероятно, что в детском возрасте они сами подвергались жестокому обращению. Рорбек и Твентимен (Rohrbeck, Twentyman, 1986) нашли, что жестокие матери были более импульсивными при выполнении когнитивных и моторных тестов, чем игнорирующие матери или матери, не проявляющие жестокости. Жестокие родители часто находятся в депрессии (Lathey et al., 1984) и демонстрируют искаженные ожидания, приписывая плохое поведение ребенка его намерению вызвать у родителей раздражение (Larrance, Twentyтап, 1983). Кроме того, такие родители не обладают достаточными умениями для воспитания детей, применяя неэффективные дисциплинарные меры и взаимодействуя с ним больше отрицательно, чем положительно (Lathey et al., 1984). Эти дефициты объясняются нечувствительностью к сигналам, исходящим от ребенка, плохим надзором за ним и сложными социальными отношениями вне семьи, что предполагает наличие более общей социальной некомпетентности, которая проявляется в принуждающем стиле межличностного общения. Бергес и Янгблейд (Burgess, Youngblade, 1988) предположили, что такой стиль является следствием моделирования и подкрепления агрессии в раннем детстве будущих родителей и передается из поколения в поколение. Тем не менее жестокое обращение с ребенком может быть вызвано возбуждением вследствие стресса, а не научением рет se (Emery, 1989).
Психологические исследования жестокого обращения с детьми основаны на психодинамической модели и модели социального научения; в опоре на эти же подходы предпринимались попытки определить влияния жесткого обращения на жертву. Мартин и Роденхеффер (Martin, Rodenheffer, 1976) отмечают, что негативное воздействие на психику могут оказать как физическое насилие (например, черепно-мозговая травма), так и нарушенные взаимоотношения родителя и ребенка. Они предполагают, что наиболее явные последствия представляют собой амбивалентность в межличностных отношениях, чрезмерную бдительность в отношении поведения других, нарушенную Я-концепцию и нарушенное развитие Суперэго, а также задержку развития языковых, речевых и моторных функций. Хотя такие результаты были получены во многих исследованиях, не было выделено единой картины психологических проблем (Wolfe, 1987; Emery, 1989). Дети, с которыми жестко обращаются, более слабо выполняют тесты интеллекта, демонстрируют недостаточную эмпатию и недостаточное социально-когнитивное развитие, страдают от депрессий и испытывают сложности в общении с ровесниками и своей семьей (Conaway, Hansen, 1989; Emery, 1989). Негативные последствия варьируются в зависимости от типа и степени плохого обращения, а также в зависимости от возраста ребенка. Далеко не все дети, перенесшие жестокое обращение, страдают от долговременных негативных последствий. Важным является то, приписывает ли ребенок родительскую жестокость злому намерению или стрессовому состоянию (Herzberger, Potts & Dillon, 1981). Негативные последствия могут быть уменьшены, если существуют поддерживающие отношения с друмм взрослым (Egeland, Jacobvitz & Sroufe, 1988).
Хотя передача жестокого поведения из поколения в поколение соответствует теории социального научения, психологические опосредующие факторы здесь остаются неясными. Жестокое обращение с ребенком имеет «интернализованные» последствия, такие как депрессия и заниженная самооценка, так же как и «экстернализованные» последствия в форме агрессии, что может быть более адекватно объяснено с позиции теории привязанности (Emery, 1989). Агрессивное поведение у детей, с которыми плохо обращаются, может также поддерживаться хроническим посттравматическим стрессовькм расстройством (Collins, Bailey, 1990а). Аспекты окружения ребенка, страдающего от жесткого обращения, которые наносят наибольший психологический вред, тоже неопределены. Предполагается, что основное негативное воздействие оказывает собственно плохое обращение со стороны родителя или того, от кого ребенок зависит и на кого смотрит как на модель, но другие значимые источники нарушенного развития ребенка могут включать наблюдение насилия в семье (Wolfe et al., 1985) и социальные последствия маркировки семьи как жестокой.
Жестокое физическое обращение с женщинами со стороны мужей или сожителей часто наблюдается одновременно с жестоким обращением с детьми, а большинство избиваемых женщин подвергаются также супружескому изнасилованию (WalКет, 1988). Опросы показали, что жестокое обращение обычно возникает на фоне растущего принуждения в отношениях и что переход от ссоры к физическому насилию происходит крайне быстро, в течение нескольких минут (Dobash, Dobash, 1984). Причины, которые были выделены на основании этих интервью, включают чувство собственности, ревность, требования выполнять домашнюю работу, требования денег. Большинство случаев приходится на выходные, на период между 10 часами вечера и 2 часами ночи. Обычно это происходит дома, часто в присутствии детей или родственников. Результатом физического насилия чаще всего являются синяки от сильных ударов, толчков, пинков, побоев. Когда насилие применяется впервые, за ним могут следовать раскаяние и примирение, однако по мере увеличения количества случаев раскаяние пропадает.
Психологические исследования жестокого обращения с женой до сих пор носили ограниченный характер, и львиная доля информации поступает от самих женщин. Тем не менее есть ряд согласующихся данных о том, что мужья (или сожители), жестоко обращающиеся со своими женами (сожительницами), по всей вероятности, обнаруживают самые разные девиации. Как клинические обследования, так и контролируемые научные исследования показывают, что большинство тех, кто жестоко обращается с другими, сами в детстве были жертвами или свидетелями насилия в семье, а также имеют проблемы с алкоголем (Gayford, 1975; Straus et al., 1980; Rosenbaum, 0'Leary, 1981; Fitch, Papantonio, 1983). Фитч и Папантонио, например, установили, что 71 % их выборки были свидетелями насилия в семье, а 59 0/0 злоупотребляли алкоголем. Хотя уровень безработицы в их выборке был выше среднего, не было найдено сильной связи с социально-экономическим положением; многие происходили из семей с высоким доходом (Johnson, 1988). Те, кто жестоко обращается с другими, также часто имели судимости и чаще проявляли насилие в более широком контексте (Walker, 1988). Эти наблюдения согласуются с гипотезой «цикла насилия» и с предположением о том, что жестокое обращение является смоделированным ролевым поведением, усвоенным в процессе социального научения. Они также указывают на принудительный и экстернальный стиль решения проблем. Ульбрих и Хубер (Ulbrich, Huber, 1981), например, установили, что в национальной американской выборке взрослого населения мужчины, которые были свидетелями применения насилия в отношениях между родителями, были более склонны рассматривать битье жены как способ разрешения домашних конфликтов. Однако наблюдение за насилием в семье, по-видимому, порождает не только экстернализованное поведение, но «интернализованные» проблемы (Wolfe et al., 1985). Супружеское насилие отражает больше, чем просто научение агрессивным решениям конфликта, оно включает также искаженные ожидания отношений, которые делают конфликт более вероятным.
Согласно следующей гипотезе, проявляющие жестокость мужчины имеют низкую самооценку и компенсируют чувство неадекватности насилием, считая, что оно доказывает их мужественность. Это было подтверждено Джонсоном, который нашел у таких мужчин более низкую самооценку, которая значимо коррелировала с опытом жестокого обращения в детстве. Марголин (Margolin, 1988), однако, не выявил различий в Я-концепции, связанных с жестоким обращением с женой (или партнершей), в выборке добровольцев. Таким образом, механизмы, опосредующие жестокое обращение, остаются неизвестными. Есть указания на то, что девиантные психологические характеристики имеют значение для супружеского насилия, хотя маловероятно, что эти мужчины образуют однородную группу.
Женщины тоже могут вносить вклад в развитие включающих жестокость отношений. Это можно предположить на основании наблюдений, согласно которым такие женщины часто подвергались насилию в детстве, в особенности физическому и сексуальному (Shields, НаппеКе, 1988). Повторная виктимизация во взрослом возрасте может быть опосредована ожиданием виктимизации и ее связью с отношениями зависимости и беспомощной, уступчивой реакцией на насилие, которая подкрепляет агрессию со стороны партнера, или же, наоборот, отказом принять традиционную тендерную роль, который может спровоцировать некоторых мужчин на агрессивный поступок (Walker, 1988). Доказательства тому, однако, имеют по большей части несистематический характер. Хэнкс и Розенбаум (Hanks, Rosenbaum, 1977), например, выделили три типа отношений в первичной семье партнерш мужчин, склонных к жестокому обращению, два из которых были связаны с насилием. Они предположили, что женщины могут спровоцировать насилие, так как ищут взаимоотношений, которые были у родителей. Однако авторы не предлагают никакой проверки этой гипотезы.
![]()
ГЛАВА 10
Преступление и психическое расстройство
Введение
Интерес к взаимосвязям между психическим расстройством и преступлением отражает изменяющиеся отношения между системой уголовного правосудия и системой охраны психического здоровья: В действительности эти взаимосвязи не являются просто объективными связями между двумя различными наборами переменных, так как одни и те же социальные процессы влияют на «конструирование» этих понятий (Menziens, Webster, 1989). Социологи рассматривают психиатрию и право как альтернативные системы контроля социальных девиантов (Foucault, 1978; Веап, 1985), хотя некоторые психиатры также отстаивали мнение, что криминальность это болезнь (см., напр.: karpman, 1949). В настоящее время лишь немногие разделяют этот взгляд, но Мензис и Вебстер (Menzies, Webster, 1989) отмечают, что DSM-III расширило определение психических расстройств, чтобы охватить более широкую область антисоциальной девиантности, особенно когда речь идет о детских расстройствах и антисоциальном расстройстве личности. Одновременно с беспокойством одних по поводу этой «психиатризации» преступности другие выражали обеспокоенность «криминализацией» психического расстройства, в частности заявляя, что деинституциализация психически больных привела к тому, что значительно больший процент таких больных преследуется органами системы уголовного правосудия. Научные вопросы в этой области, таким образом, не могут быть отделены от вопросов социальной политики и профессиональных полномочий.
Понятия «психической болезни» и «прихического здоровья» продолжают ускользать от точного определения (Scott, 1958; kendell, 1975; Gorenstein, 1984), и у многих преступников есть личные проблемы и психологические трудности, выходящие за границы психиатрического понимания расстройства (West, 1980; глава 8). Тем не менее эта глава посвящена психологическим отклонениям, которые определяются в психиатрических терминах как психические расстройства. Следует отметить, что психическое расстройство (disorder) — это предпочитаемый в настоящее время в психиатрии родовой термин (American Psychiatric Association, 1987), а термин психическая болезнь используется для обозначения более тяжелых расстройств, однако мы будем использовать эти термины как взаимозаменяемые.
![]()
Психическое расстройство и медицинская модель
С начала 1960-х, с развитием психологических и социологических теорий девиантного поведения, «медицинская модель» психической болезни стала подвергаться все большей критике как со стороны немедицинских наук, так и в самой психиатрии. Но несмотря на то, что альтернативные подходы теперь отражены в спектре услуг, предоставляемых психиатрической службой, они оказали недостаточное воздействие на понимание психиатрических расстройств «большого круга», чтобы заменить понятие «болезнь». Таким образом, понятие болезни остается доминирующей парадигмой, а многие насущные вопросы остаются неразрешенн Ами. Фактически, сохранение особых терминов для психического заболевания или расстройства указывает на продолжающиеся сомнения по поводу утверждения, что «психическая болезнь такая же болезнь, как и любая другая», которое является основным в медицинской модели. Эти споры и сомнения особенно сказываются на деятельности в сферах лечения психических расстройств и правоприменения, поэтому будет уместно рассмотреть их здесь.
«Симптомы» психической болезни представляют собой отклонения поведения и (субъективного) опыта от нормы, однако мы не располагаем каким-то одним критерием, необходимым и достаточным для определения отклонения от нормы. Поведение может быть маркировано как отклоняющееся от нормы, если оно редкое или необычное (в статистическом смысле), социально неадекватное или нежелательное, причиняющее субъективное страдание, ухудшающее оптимальное социальное либо психологическое функционирование или же не соответствующее некоему идеалу «здоровья». Каждый из этих критериев не свободен от проблем, и хотя использование нескольких критериев вместе позволяет охватить многие феномены, попадающие в рубрику психического расстройства, ни одна из их возможных комбинаций не покрывает все формы. Это нашло отражение в DSM-III (American Psychiatric Association, 1987), в котором оговаривается, что не существует четких границ между нормальностью и ненормальностью. Психические расстройства концептуализируются в этом руководстве как поведенческие или психологические синдромы, определенные по критериям страдания (distress) или неспособности (disability). Тем не менее понятия «симптом» и «синдром» безусловно сохраняют медицинские импликации заболевания.
Прайс (Price, 1978) различает между моделью и метафорой в науке. Модель представляет собой аналог, использующийся в исследовании, которое пытается понять нечто неизвестное, обращаясь с ним так, как если бы это было известное событие или известный процесс. Таким образом, медицинская модель представляет собой попытку понять отклоняющееся (анормальное) победение как нечто аналогичное физическому нездоровью или соматической болезни. Однако, в то время как модель является предварительной и, следовательно, временной конструкцией, Прайс полагает, что различающиеся взгляды на психологическую анормальность ближе к метафорам, которые могут начинать свою жизнь в качестве аналогий, но затем так видоизменяют первоначальное понятие, что оно начинает применяться буквально и приобретать черты догмы.
и медицинская модель 299
![]()
Несмотря на частую критику медицинской модели, среди критикующих нет единства в понимании того, что такое эта модель, и потому к обсуждению спорных вопросов научного объяснения часто примешиваются дискуссии по поводу профессиональных полномочий. Предложенная Крепелином классификация психических расстройств предполагала конечное число категорий болезни, каждая из которых имеет свою отдельную причину, психологическую форму, исход и церебральную патологию (kendell, 1975). Именно эта модель была подвергнута особо резкой критике Сасом (Szasz, 1960) и другими (см., напр.: Sarbin, 1967) как психиатрический «миф». Вопросы классификации болезней крайне сложны, и их критика сама далека от единодушия. Например, Сас возражает против детерминизма понятия болезни с антипозитивистской точки зрения, тогда как другие отстаивают альтернативные детерминистские модели. Однако основные возражения касаются вопроса о том, как «психика» («mind») может быть «больной». Если болезнь — это телесный процесс, то «психика» может быть названа «больной» только по аналогии и психическая «болезнь» является мифической, если предполагает нарушение мозга, которое не было продемонстрировано. При таком подходе пострадавший считается пациентом, с которым произошло несчастье, а не намеренно действующим» субъектом. В дополнение к этому такой подход помещает причины болезни «внутри» человека. Следует однако отметить, что это не апеллирование к «внутренним» переменным, которые отличают традиционную медицинскую модель, но скорее обращение к физическим, а не к психологическим причинам (Sarason, Ganzer, 1968).
Кроме того, эта критика строится на допущении, что медицинская модель зависит от понимания сущности болезней. Однако, хотя понятие болезни как телесной анормальности, казалось бы, не может преподнести особых проблем, в медицине нет общепринятого его определения. С XIX в. господствующее положение занимает представление о «болезни как повреждении», в основе которого лежит предпосылка, что болезнь всегда включает структурное нарушение или патологию и качественно отличается от здоровья (kendell, 1975). Таким образом, сущность болезни заключается в специфическом изменении («альтерации») какой-либо части тела, которое вызывает определенную картину симптомов. Однако тогда состояния без установленной физической причины автоматически исключаются из категории болезни, и именно поэтому состояния неизвестной этиологии описываются как «расстройства». Концепция повреждения была еще больше подорвана признанием того, что у многих болезней нет единственной причины.
Предпринимались попытки заново сформулировать понятие болезни, чтобы оно охватывало не только известные телесные нарушения, но и психические расстройства. Например, Осубель (Ausubel, 1961) предложил включать в понятие болезни любое заметное отклонение от обычно желательных стандартов структурной и функциональной полноты (или сохранности), будь это телесная, психическая или поведенческая сохранность. Однако это, в сущности, нормативное определение чрезвычайно расширяет понятие болезни, даже если учесть его нынешние нечеткие границы. Энджел (Engel, 1977) был более консервативен, предложив ограничить понятие болезни биопсихосоциальным функционированием, в котором биохимический дефект является необходимым, но не достаточным условием. В то время как эти предложения, в случае их принятия, расширили
ЗОО
![]()
бы понятие болезни, Кенделл (kendell, 1975), напротив, предлагает ограничить его статистическими отклонениями от нормы, которые наносят «биологический урон» в виде повышенной смертности и пониженной фертильности. По этим критериям психозы, некоторые сексуальные девиации, наркотическая зависимость и, возможно, некоторые неврозы и расстройства личности квалифицируются как болезни. Однако при этом такие распространенные состояния, как кариес, и некоторые болезни, после которых человек приобретает иммунитет, не попадают в разряд болезней.
Альтернативный анализ предлагает Бурс (Boorse, 1975, 1976), доказывающий, что болезнь должна определяться по функциональным, а не по структурным анормальностям и что аналогия психической болезни вполне законна. Он отличает болезнь или заболевание (disease) как помеху естественному функционированию, понятие, в равной степени применимое к соматическим и психическим процессам, от нездоровья (illness) как тяжелой формы заболевания, которая влечет за собой инвалидность (и ограничение право- и/или дееспособности). При этом функциональном подходе все то, что вредит здоровью (и вызывает нездоровье), должно определяться эмпирически и соотноситься с тем, что причинно воздействует на преследуемые людьми цели, которые составляют часть их естественного биологического предназначения (т. е. выживание и воспроизводство). Занимая материалистическую позицию во взглядах на психику и, следовательно, допуская, что психическое заболевание в основе своей является физическим состоянием, Бурс доказывает, что это не подразумевает физической болезни мозга. Определяющим свойством психической болезни является то, что ментальные события (представления, чувства, переживания) причинным образом нарушают естественное психическое функционирование. Поэтому психическое (душевное) нездоровье не обязательно является следствием соматической болезни.
Функциональная концепция защищает аналогию психической болезни, позволяющую избежать редукционизма. Она также убедительно противостоит критическим заявлениям, например Бина (Веап, 1983), о том, что психиатрия и, по причастности, клиническая психология — всего лишь норма;гивные дисциплины, определяемые социальными ценностями, а не объективные науки. Вейкфилд (Wakefield, 1992), однако, доказывает, что понятие болезни или расстройства неизбежно включает в себя ценности, так как охватывает только те состояния, которые вредны для индивидуума с точки зрения действующих культурных стандартов. В качестве примеров он приводит альбинизм, инверсию расположения сердца и сросшиеся пальцы стопы, которые не считаются расстройствами, хотя и являются результатом сбоя в естественном функционировании. Он полагает, что психическое расстройство должно определяться по наносящей вред Дисфункции, т. е. по состояниям, лишающим индивидуума некоторой ценящейся среди людей выгоды, которые являются следствием неспособности некоторого психического механизма выполнять свою естественную функцию.
Модель «болезнь-как-повреждение» продолжает, тем не менее, удерживать свои позиции в психиатрии, о чем можно судить по приоритетному финансированию биомедицинских исследований в области природы и лечения психических расстройств. Мнение многих психиатров, что расстройства личности лежат вне их сферы действия (Schwarz, 1976; Lewis, Appleby, 1988), также опирается на
и медицинская модель 301
![]()
представление о том, будто одни являются соматическими болезнями, а другие — нет.
Упомянутая выше дискуссия сконцентрирована на полезности аналогии 60лезни как этиологического объяснения психологической анормальности. Другие критические выступления направлены на анализ ее следствий для определения границ медицины (Sarason, Ganzer, 1968; kendell, 1975). Основное возражение здесь направлено против лечения отклоняющегося от нормы поведения как «точной копии медицины» (Веап, 1983) и против претензий медицины быть вершителем всех вмешательств при психическом расстройстве. Эти дискуссии связаны со спорными вопросами профессиональных полномочий и контроля за предоставлением услуг по уходу за больными. Один из затрагиваемых аспектов — соперничество между профессиями в сфере охраны психического здоровья, особенно в США, где в настоящее время клиническая психология и психиатрия борются за место на рынке охраны здоровья. Хотя содержание спорных вопросов, поднятых при обсуждении медицинской модели, гораздо шире столкновения между давно существующими и устанавливающимиёя профессиями, оно неизбежно окрашено этой борьбой, так как любые изменения статуса понятия психической болезни затрагивают заинтересованные профессии.
Поэтому полемика по поводу медицинской модели продолжает подогреваться, отчасти из-за того, что эта модель укрепила свои позиции, отказавшись от некоторых чрезмерных претензий, отчасти в силу сохраняющейся полезности для практики и отчасти потому, что нет ни одной модели вмешательства, которая оказалась бы эффективно действующей во всем диапазоне психических расстройств. Ее сторонники признают правомерность немедицинских вмешательств для некоторых форм психических расстройств, а ее противники допускают, что медицинское лечение может быть необходимо в случае психозов и некоторых эмоциоНальных нарушений. Как предполагает Горенштейн (Gorenstein, 1984), источником споров является не столько статус абстракции «психическое нездоровье», относительно которого может быть достигнута. известная степень согласия, сколько этические, юридические и профессиональные последствия узаконивания обязательной медицинской помощи тем, кто был признан страдающим психическим расстройством.
Расхожее мнение, будто преступники это «больные» люди, заключает в себе аналогию болезни, и обычно оно имеет параллель в утверждении, что медицинская модель заняла господствующее положение в системе уголовного правосудия. Однако поскольку лишь единицы в настоящее время придерживаются взгляда, что если не все, то хотя бы большинство преступников психически больны, критические замечания в адрес медицинской модели, примененной к преступности, становятся расплывчатыми и не имеют четких мишеней.
Среди психологов стало модным дистанцировать себя от медицинской модели из-за подразумеваемого следствия, что криминальное поведение является симптоматическим проявлением лежащей в его основе психопатологии, требующей «излечения» посредством «терапии» (см., напр.: Izzo, Ross, 1990). Определение «медицинская» в этом контексте часто служит заместителем ярлыка «психодинамическая», а корректировка девиантных аттитюдов или когнитивных дефицитов
![]()
![]()
делинквентов, по-видимому, равным образом подразумевает, что девиантное поведение является симптоматическим проявлением «базисной» проблемы. Более того, большинство психологических вмешательств в случае антисоциального поведения имплицитно следуют медицинской аналогии инфекционной болезни, коль скоро ожидается, что временно применяемое «лечение» приведет к устойчивому «излечению» (kazdin, 1987).
Для социологической критики основной мишенью является индивидуализм. Социологи отвергают теории, в которых криминогенные факторы локализуются в самом человеке и в которых, следовательно, не уделяется внимания социальной стигматизации как источнику девиантности (Balch, 1975). Мак-Намара (Мас№mara, 1977) идет в своей критике еще дальше, рассматривая медицинскую модель как идущую вразрез с классическими принципами свободной нравственной воли фее moral agency) и личной ответственности. Высказанное Мак-Намарой неодобрение относится, вообще говоря, к большинству психологических теорий, а не только к психиатрическим концептуализациям.
На уровне вмешательства мишенью является индивидуальный подход к исправительному воздействию (или лечению), который следует из допущения, что преступление есть продукт индивидуальных дефектов, которые требуют коррекции. Это часть более широкой атаки на реабилитацию, а поскольку реабилитация включает психологические и педагогические вмешательства, профобучение и мероприятия по улучшению бытовых условий, а также психиатрическое лечение, понятие «медицинской модели» в этом контексте вновь становится своего рода вместилищем разнообразных предметов. Аллен (Allen, 1959) упредил большинство последующих аргументов, высказав предположение, что реабилитация — это гуманистический идеал, который постепенно обесценился. Исправительные учреждения стали более деспотичными и не смогли предоставить терапию, обещанную этим идеалом, а сама реабилитация стала использоваться как оправдание для более тяжелого законного наказания, например в форме приговора к неопределенной мере наказания, которое выполняет скорее функцию ограничения в правах, чем функцию реабилитации. Кроме того, цели реабилитации неизбежно влекут за собой наделение дискреционными полномочиями не только комиссии по условно-досрочному освобождению и судебных ведомств, но психиатров и сотрудников службы пробации, которые могут злоупотреблять ею. Профессионалы могут выходить за рамки своей компетенции и вторгаться в сферу принятия законных и моральных решений. Такая критика в последние годы исходит не только от представителей социальных наук и юристов (Bazelon, 1978; Morris, 1983; Веап, 1985), но и от самих специалистов в области психического здоровья (Nietzel, Moss, 1972; Szasz, 1979; Halleck, 1987). Эти вопросы лежат в основе непрекращающихся споров вокруг отношений между психиатрией и правом.
Вест (West, 1980) выступил в защиту этого широкого понимания медицинской модели, описав ее заново как клиническую криминологию. Он утверждает, что у многих преступников есть психологические проблемы, которые необязательно являются причинами их преступных деяний и которые выходят за границы психиатрического заболевания. Таким образом, существует потребность в индивидуализированном лечении эмоционально напряженных или девиантных психологических состояний специалистами сферы психического здоровья, которое должно быть частью реабилитации. Однако Жанре (Gendreau, 1985) рассматри-
ЗОЗ
![]()
вает клиническую криминологию как слабую попытку восстановить идеал реабилитации, так как она уделяет чрезмерное внимание индивидуальному расстройству, игнорируя системные переменные, которые влияют на результат терапевтических программ.
Закон и психическое расстройство
Вмешательство государства в жизнь своих граждан традиционно обосновывается принципами охраны государственного правопорядка и parens patriae. Первый продиктован интересами общества, а предназначение второго — обеспечить заботу о тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно (см. главу 1). Хотя принцип parens patriae положен в основу закона о препровождении в режимное учреждение в неуголовном («гражданском») порядке психически больных, закон об охране психического здоровья также рассматривает препровождение в режимное учреждение в уголовном порядке психически больных лиц, обвиняемых в совершении преступления, которые затем могут быть перенаправлены в специализированные психиатрические учреждения. Однако весьма сомнительно, что эти оправдывающие принципы когда-либо будут четко разграничены в законодательных актах о психическом здоровье. Сколь бы гуманными ни были первоначальные намерения, сумасшедшие дома в Европе и Америке в XIX в. скорее ограждали общество от психически больных, чем оказывали последним медицинскую помощь.
Размывание границ полномочий специалистов, усилия которых направлены на защиту общества и оказание помощи отдельным лицам, становится особенно заметным при контроле преступников с психическими расстройствами, при котором защита других становится основным критерием лишения свободы, и психиатра вынуждают совмещать традиционную медицинскую роль помощника и арента пациента с функциями полицейского и противной стороны в суде (Stone, 1984; Arboleda Floiez, 1990). В результате произошедших в психиатрическом лечении изменений и закрытия традиционных «сумасшедших домов» в, течение последних трех десятилетий объектом повышенного внимания со стороны юристов и специалистов сферы психического здоровья являются судебные решения, которые могут приниматься в отношении преступников с психическими расстройствами.
В судебной системе долго пытались установить четкие признаки, по которым подсудимого можно было признать «вменяемым» или «невменяемым», но следует заметить, что вменяемость — это юридическое понятие, не имеющее формального психиатрического значения. Требования закона к определению психического расстройства варьируются в зависимости от социального и судебного контекста. Например, когда дело идет о составлении завещания или договора, установлении ответственности за преступление или направлении на принудительное лечение, используются различные критерии. С точки зрения системы уголовного правосуь дия существует пять критических пунктов, в которых доказательство психического расстройства влияет на судебный процесс (Halleck, 1987). Во-первых, боль-
![]()
шинство государств предоставляют полицейским и государственным чиновникам свободу действий в том, что касается задержания представляющих опасность для окружающих или подозревающихся в совершении преступления лиц, которые могут страдать психическим расстройством, с последующим переводом их в больницу без уголовного преследования. Во-вторых, во время суда обвиняемый может быть признан недееспособным или «неспособным участвовать в процессе» и направлен в психиатрическую больницу без регистрации судимости. В-третьих, невменяемость может быть использована защитой, что, при благополучном исходе дела, ведет к «специальному вердикту»: «невиновен по причине невменяемости». В-четвертых, несовершеннолетний правонарушитель может быть признан виновным, однако доказательство у него психического расстройства может смягчить строгость наказания, и суд вправе вынести решение о «лечении», а не «наказании». И наконец, осужденные преступники, у которых развилось психическое расстройство в тюрьме, могут быть переведены в систему охраны психического здоровья. Законы, касающиеся этих прав, варьируют в зависимости от юрисдикции.
Те, кого формально именуют преступниками с психическими расстройствами, таким образом, образуют отдельную группу преступников, у которых психические нарушения должны считаться настолько ограничивающими их дееспособность, чтобы оправдывать иное обращение с ними, существенно отличающееся от обращения с другими категориями преступников. Хотя у многих других преступников есть психологические проблемы и разделяющая их линия иногда является относительно произвольной, преступники с психическими расстройствами составляют очень небольшую часть как среди тех, кто получает психиатрическое лечение, так и среди тех, кто был осужден за совершение преступления. Однако они привлекают к себе непропорционально много внимания, так как благодаря им поднимаются вопросы о природе преступления и наказания. В частности, они выполняют символическую функцию, поскольку другие преступники, составляющие большинство, признаются на их фоне «вменяемыми» и заслуживающими наказания (Stone, 1984).
Такие преступники обычно содержатся не в тюрьмах, а в учреждениях с режимом изоляции, хотя могут также пребывать в тюрьмах, обычных психиатрических больницах и в общинах под совместным надзором сотрудников служб пробации и охраны психического здоровья. Обследования, проведенные в США в 1978 (Steadтап et al., 1982) и в 1982 гг. (kerr, Roth, 1986), выявили целый ряд учреждений, управляемых в основном государственными департаментами здравоохранения, но были и психиатрические отделения в тюрьмах. Они варьировали от небольших отделений «судебной психиатрии» в общественных больницах до больших больниц со строгим режимом, рассчитанных на 500 пациентов. Стэдман с коллегами установили, что около 20 000 пациентов ежегодно направлялись в эти учреждения и что ежедневная популяция содержащихся в них пациентов составляла около 14 ООО. По 5 0/0 приходилось на лиц женского пола и несовершеннолетних. В целом преступники с психическими расстройствами составляли 3,2 0/0 преступников, находящйхся в местах лишения свободы, и 7,394 популяции пациентов психиатрических клиник.
В других западных странах предпринимаются аналогичные меры, однако имеются и значительные вариации из-за различий законов об охране психического
![]()
здоровья. В Великобритании только небольшой процент подсудимых признается недееспособными или невиновными по причине невменяемости, и суды в Великобритании имеют большее право по сравнению с судами США госпитализировать преступников согласно Закону об охране психического здоровья. Лица, совершившие серьезные преступления, направляются в «специализированные больницы» (Бродмур, Рэмптон и Эшворт в Англии и Государственный госпиталь в Шотландии). Эти больницы имеют максимально строгий режим, и в каждой из них размещены около 2000 пациентов, примерно пятую часть которых составляют женщины. Однако в эти учреждения попадает только меньшинство преступников с психическими расстройствами, которые проходят через суды. Многие являются пациентами открытых психиатрических клиник Государственной службы здравоохранения или амбулаторными пациентами, направленными по решению суда на пробацию. В последнее десятилетие эти услуги все больше концентрируются в региональных отделениях режимных лечебных учреждений (Regional Secure Units, RSUs), представляющих собой небольшие психиатрические учреждения со средним уровнем изоляции.
Несмотря на нормы закона о переводе преступников с психическими расстройствами в спецбольницы и другие учреждения системы охраны психического здоровья, многие продолжают оставаться в тюрьмах. Тюрьма, предоставляющая лечение, была построена в местечке Грендон Андервуд близ Оксфорда в 1962 г., а небольшая часть заключенных, страдающих психическими расстройствами, также получает помощь со стороны тюремных медицинских и психологических служб или же приходящих психотерапевтов. Тем не менее, согласно последним приблизительным оценкам, из всей взрослой тюремной популяции (50 ООО человек в Англии и Уэльсе) около 2 0/0 демонстрируют серьезные психические расстройства, которыми бы следовало заниматься системе охраны психического здоровья (Gunn, Maden & Swinton, 1991).
Основа для современных судебных постановлений заложена в Законе об охране психического здоровья в Англии и Уэльсе от 1959 г. и в его последующем пересмотре от 1983 г. (Шотландия и Северная Ирландия имеют отдельное, но во многом сходное законодательство). Закон 1959 г. либерализовал политику принудительного заключения и лечения в отношении психических больных в целом и преступников с психическими расстройствами в частности. Он определяет психическое расстройство как «безумие, задержанное или недостаточное умственное развитие, психопатическое расстройство или любое другое расстройство психики или психическую неполноценность». Пересмотр от 1983 г. не дает определения психического нездоровья, но в целом охватывает наиболее серьезные психические расстройства, такие как шизофрения или аффективный психоз, и большинство пациентов, содержащихся в специализированных больницах и региональных отделениях режимных лечебных учреждений, подпадают под эту категорию. Психичестя ущербность (не достигшая степени невменяемости) относится к «состоянию задержанного или недостаточного психического развития, включающему существенное снижение интеллекта и ухудшение социального функционирования и связанному с ненормально агрессивным или совершенно безответственным поведением со стороны рассматриваемого лица». Тяжелая умственная неДостаточность определяется в сходных терминах, за исключением того, что снижение/ухудшение квалифицируется как «тяжелое», а не как «существенное». Психо-
![]()
патическое расстройство определяется как «устойчивое расстройство психики или психическая неполноценность, которые, независимо от наличия или отсутствия существенного снижения интеллекта, приводят к ненормально агрессивному или совершенно безответственному поведению со стороны рассматриваемого лица». Следует подчеркнуть, что эти определения относятся к сфере права и не являются клиническими диагностическими категориями. Проблемы существуют, в частности, в отношении категории психопатического расстройства (см. главу З), так как многие психиатры сомневаются в том, что психопаты «излечимы» (Dell, Robertson, 1988). На практике к этой категории относятся лица, совершившие тяжкие насильственные и сексуальные преступления, которые к тому же демонстрируют расстройство личности. Они составляют около четверти пациентов специализированных больниц.
Закон об охране психического здоровья устанавливает широкие основания для принудительного препровождения в режимное учреждение в гражданском и уголовном порядке. Он предоставляет судам право возвращать обвиняемых в преступлении лиц в больницу для обследования или лечения. В тех случаях, когда преступник с психическим расстройством был осужден за преступление, предполагающее наказание в виде лишения свободы (за исключением убийства, которое влечет за собой наказание в виде пожизненного заключения), суд может разрешить попечительство со стороны социальных служб или направить в больницу, если «природа или степень психического расстройства таковы, что определение в больницу будет самым адекватным решением». Любая больница может быть подготовлена к приему такого пациента, однако лица, представляющие смертельную и непосредственную опасность для окружающих, вероятно, должны все же направляться в специализированные больницы. В дополнение к этому суд может отдать приказ о запрещении передвижения, возможно на неограниченный срок, если есть «необходимость в защите населения от серьезного вреда», и освобождение от этой меры ограничения свободы зависит от решения министра внутренних дел Великобритании или Суда по пересмотру дел психически ненормальных преступников (Mental Health Review Tribunal). Эти власти являются альтернативой судебным властям, которые заключают в тюрьму, налагают штраф или направляют на пробацию.
Хотя некоторые римские авторы расценивали помешательство как Божью кару и считали, что помешанных следует освобождать от наказания, так как они уже достаточно наказаны, невменяемость как обстоятельство, освобождающее по закону от ответственности, не признавалась широко вплоть до тринадцатого столетия (Dreher, 1967; Walker, 1985). До завоевания Англии норманнами (в 1066 г.) различные англосаксонские правовые кодексы определялись теорией безусловной ответственности: совершение незаконного деяния давало право пострадавшей стороне предпринять действия по возмещению ущерба без вмешательства со стороны государства и без учета каких-либо смягчающих обстоятельств. В противоположность этому каноническое право англиканской церкви определяло противоправные деяния на основе моральной вины, или теш rea, и на основании своей неспособности к злоумышлению маленькие дети и умалишенные не подпадали под обвинение в уголовных преступлениях.
![]()
Этот принцип был популяризован Брэктоном, известным английским судьей и священнослужителем XIII в., но лишь в XVI в. признание «буйного помешательства» как оправдывающего обстоятельства стало приводить к оправдательному вердикту. Уолкер (Walker, 1985) отмечает, что защита ссылкой на невменяемость была использована более чем в 100 случаях в Центральном уголовном суде Лондона во второй половине XVIII в. и имела успех примерно в половине из них. В отношении таких подсудимых прекращалось уголовное преследование, и они отпускались на свободу, хотя могли быть впоследствии лишены ее в гражданском порядке как опасные сумасшедшие, согласно Закону о бродяжничестве от 1744 г. Никаких особых мер предосторожности не принималось: такие преступники размещались в тюрьмах, исправительных домах и частных сумасшедших домах вместе с остальными сумасшедшими, которые были определены туда в соответствии с принятыми в XVI в. Законами о бедных (Parker, 1985).
Судебный процесс над Джеймсом ХЭДфИЛДОМ в 1800 г. стал вехой в судебной практике (Moran, 1985). Хэдфилд, бывший солдат, который получил ранение головы, стрелял в Георга Ш. Его адвокату удалось доказать, что преступление было совершено вследствие наличия у Хэдфилда параноидного бреда. Он был признан невиновным вследствие «невменяемости на момент совершения преступления». Хэдфилд был возвращен в тюрьму предварительного заключения, но так как уголовное право не имело над ним непосредственной силы, в 1800 г. правительством был издан закон о содержании под стражей, обеспечивающий изоляцию и безопасность невменяемых лиц, обвиняемых в преступлении. Он давал право суду выносить решение о содержании под стражей оправданного по причине безумия до тех пор, пока «будет угодно Его Величеству». Этот закон заложил основу всего последующего законодательства, допускающего превентивную изоляцию на неопределенный срок преступников, страдающих психическими расстройствами.
Новый закон не предлагал предпринимать каких-то специальных мер безопасности, но условия для содержания преступников с психическими расстройствами были созданы в Вифлеемском госпитале (Бедламе) в Лондоне в 1816 г. Первая лечебница для душевнобольных преступников в Великобритании появилась в Дандруме, близ Дублина, в 1852 г., затем последовало открытие Бродмура поблизости от Лондона в 1863. Вторая государственная лечебница появилась в Рэмптоне, около Ноттингема, в 1912 г. После образования специальной административной структуры (по Закону об умственной недостаточности от 1913 г.), которая должна была заниматься умственно неполноценными, Рэмптон стал государственным учреждением режимного типа для представляющих опасность умственно неполноценных лиц, как и Институт Мосс Сайд (Moss Side Institute) близ Ливерпуля. В 1948 г. все три учреждения попали под юрисдикцию министерства здравоохранения и по Закону о психическом здоровье от 1959 г. стали «специализированными больницами» для пациентов, которым «требуется лечение в местах с повышенными мерами безопасности вследствие их агрессивных или преступных наклонностей». Четвертая специализированная больница появилась в Парк Лейн около Ливерпуля в 1984 г., но впоследствии была объединена с Институтом Мосс Сайд и преобразована в госпиталь Эшворт.
В США акцент всегда больше делался на направлениях на пробацию и изоляцию в психиатрических отделениях тюрем, но в целом американские законы, касающиеся преступников с психическими расстройствами, были схожи с англий-
![]()
скими до 1950-х гг. (Morris, 1983). Законодательные акты, касающиеся «дефективных делинквентов» и «сексуальных психопатов», позволяли размещать преступников в лечебницы для душевнобольных преступников или в специальные отделения общественных больниц. Например, в 1938 г. 25 штатов и округ Колумбия приняли закон о «сексуальных психопатах», согласно которому лица, совершившие половые преступления, направлялись в лечебницы на неопределенный срок. В основном, такие законы были вызваны общей паникой, которая овладела обществом после лавины публикаций о преступлениях на сексуальной почве, и были приняты без рассмотрения проблем, касающихся определения, идентификации или лечения самих «сексуальных психопатбв» (Sutherland, 1950). Большинство из них в настоящее время отменено.
Английский Закон о психическом здоровье от 1959 г. ознаменовал собой победу философии лечения над легализмом (Веап, 1985). Там, где легализм (приверженность букве закона) требует защиты индивидуальной свободы посредством судебного ограничивающего воздействия на экспертов, не принадлежащих судебной системе, этот закон предоставляет значительные дискреционные полномочия психиатрам. Как уже отмечалось, философия лечения в системе уголовного правосудия была мишенью для нападок. Стоун (Stone, 1984) усматривает сдвиг в сторону легализма на протяжении 60—70-х гг. в США в раскрытии злоупотреблений и карательной практики в учреждениях закрытого типа, порожденных законами о дефективных делинквентах и сексуальных психопатах. Также высказывались опасения о том, насколько произвольно принимаются решения о бессрочном заключении тех, кто был признан неспособным предстать перед судом. Разоблачения «квазикриминальных» режимных учреждений («quasi-criminal» institutions) привели к судебным решениям о направлении на лечение, а не только об ограничении свободы, а также к использованию права на отказ от принудительного лечения и права на заключение при режиме наименьшей изоляции. Этот поворот в сторону легализма сказался на психиатрии в целом, что заметно по радикальным реформам механизма препровождения в режимное учреждение в гражданском порядке и по решительным шагам к освобождению лиц, страдающих психическими расстройствами, из учреждений закрытого типа. Однако следствием этого стало повышенное внимание к опасности как необходимому условию ограничения свободы психически больных, с тем результатом, что контингент пациентов психиатрических больниц стал больше походить на контингент более ранних квазикриминальных учреждений.
![]() Легалистские опасения, касающиеся
дискреционных полномочий, предоставленных Законом о психическом здоровья, также
прозвучали в Великобритании, хотя и более приглушенно (Gostin, 1977). По мнению
некоторых психиатров, на способности больниц работать с преступниками,
страдающими психическими расстройствами, были возложены чересчур высокие
ожидания (Rolin, 1969). В то же время политика «открытых дверей» в
психиатрических больницах привела к ухудщению ситуации в отделениях для
деструктивных пациентов, которым предписан не слишком строгий режим изоляции, а
нежелание руководства многих больниц принимать к себе преступников привело к
переполнению специализированных больниц и к тому, что преступников с
психическими расстройствами стали чаще содержать в тюрьмах. Полномочия министра
внутренних дел, касающие-
Легалистские опасения, касающиеся
дискреционных полномочий, предоставленных Законом о психическом здоровья, также
прозвучали в Великобритании, хотя и более приглушенно (Gostin, 1977). По мнению
некоторых психиатров, на способности больниц работать с преступниками,
страдающими психическими расстройствами, были возложены чересчур высокие
ожидания (Rolin, 1969). В то же время политика «открытых дверей» в
психиатрических больницах привела к ухудщению ситуации в отделениях для
деструктивных пациентов, которым предписан не слишком строгий режим изоляции, а
нежелание руководства многих больниц принимать к себе преступников привело к
переполнению специализированных больниц и к тому, что преступников с
психическими расстройствами стали чаще содержать в тюрьмах. Полномочия министра
внутренних дел, касающие-
![]()
ся заключения на неопределенный срок, были оспорены Европейской комиссией по правам человека.
Одним из результатов пристального внимания к преступникам с психическими расстройствами стало учреждение Батлеровского комитета (Butler Committee) для исследования правовых норм (Ноте 0ffice/Department of Health and Social Security, 1975). Отчет этого комитета выявил много проблем в законе, и хотя только некоторые из его рекомендаций были исполнены, он оказал существенное влияние на подходы к работе с преступниками с психическими расстройствами. С результатами работы Батлеровского комитета связан и проведенный в 1983 г. пересмотр Закона о психическом здоровье. Пересмотренный закон требовал получать согласие на лечение, опираться на критерии излечимости при помещении в госпиталь пациентов с психопатическими расстройствами и психической ущербностью, обязал Комиссию по закону о психическом здоровье блюсти интересы пациентов, содержащихся в изоляции, и предоставил судам по пересмотру дел психически ненормальных преступников более широкие полномочия, касающиеся освобождения пациентов. Таким образом, пересмотренный Закон обозначил существенный возврат к легализму.
Несмотря на то что дело Хэдфилда стало вехой в судебной практике определения законного содержания под стражей преступников с психическими расстройствами, оправдание по причине «ограниченной вменяемости» в форме бреда не создало твердого законного прецедента. В этом отношении наибольшее значение имело судебное решение по делу Дэниела Мак-Нотана в Центральном уголовном суде Лондона в 1843 г. Мак-Нотан попытался по идейным соображениям убить премьер-министра, сэра Роберта Пила, но его пуля убила Эдварда Драммонда, личного секретаря Пила. Признавалось, что Мак-Нотан страдал от бреда преследования, касающегося членов партии тори (хотя Моран (Moran, 1985) предполатает, что его убеждения были не так уж беспочвенны), и снова была выбрана защита ссылкой на «ограниченную вменяемость». Судья вынес вердикт «невиновен по причине невменяемости», но в результате общего негодования, которое выразила и королева Виктория, от судей общего права было потребовано разъяснить смысл защиты ссылкой на невменяемость в цалате лордов. Их заключения, ныне известные как правила Мак-Нотана, включали такое требование: чтобы защита ссылкой на невменяемость могла быть принята судом, должно быть доказано, что «в момент совершения преступления обвиняемый действовал при таком дефекте рассудка, вызванном психическим заболеванием, что он не осознавал характера и качества своего действия; или, если он это осознавал, он не понимал, что, совершая это, он поступает неправильно». Впоследствии Мак-Нотан был среди первых пациентов, которые были переведены в Бродмур, где он и умер в 1865 г.
Правила Мак-Нотана прижились в англо-американском законодательстве, но они устанавливают очень строгие стандарты, которым сам Мак-Нотан не соответствовал, и продолжарт вызывать возражения. Они предполагают, что «психическое заболевание, или болезнь рассудка», оказывает когнитивное влияние, и этот юридический концепт подразумевает, что дефекты обусловлены «внутренней болезнью», а не внешними факторами, такими как намеренное употребление алкоголя или наркотиков. Также должно быть установлено, что «дефект рассудка»
![]()
является результатом «болезни». Под «характером и качеством» действия подразумевается физический характер действия (например, сдавливание чьего-то горла, а не выдавливание сока из лимона), совершаемого при непонимании его противоправного характера. Согласно ранним критическим высказываниям, только небольшое количество людей неспособны отличить правомерные действия от неправомерных, и эта когнитивная проверка невменяемости исключает людей с психическими расстройствами, которые осознают свои действия, но не способны их контролировать, например при «клептомании». Проверка волевого контроля в форме критерия «непреодолимого импульса» была введена в Алабаме в 1887 г. и впоследствии в ряде других штатов. Несмотря на свою спорность, этот стандарт был взят на вооружение в некоторых судах Великобритании и теперь может использоваться при защите ссылкой на уменьшенную (частичную) вменяемость (см. ниже). Однако проблема с понятием «непреодолимого импульса» заключается в том, что логически в принципе невозможно отделить Неспособность сопротивляться «импульсу» от простого нежелания это делать. В результате совершение необъяснимого преступления может быть представлено как доказательство невменяемости (Wootton, 1959).
В новой проверке, введенной в Нью-Гемпшире в 1870 г., но принятой более широко после слушания дела Дарем против Соединенных Штатов в 1954 г., когнитивные и волевые аспекты отвергались и требовалось доказать, что «действие было результатом душевной болезни». Здесь заметно влияние медицинской модели. Теперь стало возможным постоянно привлекать психиатров к свидетельствованию в суде. Однако это привело к проблеме установления причинной связи между преступлением и психической болезнью, а также к проблеме, связанной с использованием медицинской терминологии в суде. Со стороны судьи Апелляционного суда США Бэйзлона (Bazelon, 1978), который, собственно, и разрабатывал правило Дарема, прозвучала критика, содержание которой сводилось к тому, что свидетели-эксперты должны были теперь формулировать немедицинские «конечные вопросы» [24] об ответственности перед законом. От применения этого правила отказались в ходе процесса по делу Соединенные Штаты против Броунера в 1972 г.
Специальный вердикт «невиновен по причине невменяемости» (NGRI) формально является оправдательным, но по сути означает содержание в специализированных психиатрических учреждениях. Однако с 1883 по 1964 г. в Англии этот вердикт заменялся на «виновен, но невменяем», а в некоторых американских штатах был недавно введен вердикт «виновен, но психически болен», который предоставляет право на лечение в тюрьме или в больнице в течение ограниченного периода, что отражает стремление сократить применение вердикта NGRI. Такие вердикты, на самом деле, не облегчали участь психически больных (Halleck, 1987). Более широко применявшийся в США критерий была предложен Американским институтом права (АИ): он использовался до 1980 г. в федеральных судах и более чем в половине судов штата. Его формулировка звучит следующим образом: «Лицо не несет ответственности за преступное поведение, если во время такого поведения в результате психической болезни или умственного дефекта это лицо испытывало существенный недостаток способности оценить преступность
![]()
своего поведения или привести свое поведение в соответствие с требованиями закона». Таким образом, здесь объединяются когнитивный и волевой критерии, хотя в замене «осознать» на «оценить» подразумевается аффективная реакция на знание. Критерий ALI был положен в основу защиты Джона Хинкли, стрелявшего в Рейгана в 1982 г. Несмотря на то что свидетельствовавшие психиатры не пришли к единому мнению, ему был вынесен вердикт NGRI. Как и в случае ранее рассмотренных судебных дел Хэдфилда и Мак-Нотана, этот вердикт вызвал обеспокоенность общества, вылившуюся в требование реформы судебной системы, особенно в части защиты ссылкой на невменяемость, хотя недовольство вызывало также участие психиатров в судебных процессах по делам о серьезных правонарушениях (Stone, 1984). В результате в Соединенных Штатах было предпринято еще несколько попыток внести коррективы в защиту ссылкой на невменяемость.
Широко принятой альтернативой было правило Бонни, согласно которому обвиняемый должен быть признан NGRI, если «в результате психического заболевания или дефекта он был неспособен оценить неправомерность своего поведения в момент преступления». Оно было рекомендовано в изложении позиции Американской психиатрической ассоциации (American Psychiatric Association, 1983), по мнению которой, с научной точки зрения, для психиатров более осуществимо дать надежные заключения о когнитивных дефектах, чем о волевых. В заявлении АПА также добавлялось, что круг «психических болезней», признаваемых в защите, следует ограничить «серьезными» психическими расстройствами, сравнимыми по тяжести с психозом, и тем самым исключить из рассмотрения расстройства личности. Следовательно, были исключены расстройства личности. Американская психологическая ассоциация (American Psychological Association, 1984) критически отнеслась к поспешным попыткам изменить формулировки критериев защиты ссылкой на невменяемость, а Роджерс (Rogers, 1987) предоставил доказательства того, что надежность заключений судебных психиатров и психологов о волевом контроле ничуть не меньше, чем надежность оценок когнитивных аспектов. Тем не менее правило Бонни было принято в федеральных судах в 1984 г.
Требования реформирования защиты ссылкой на невменяемость отражают предположения о злоупотреблении ею и о «психиатризации» преступности, но имеющиеся эмпирические данные указывают на то, что эти предположения основаны на ошибочных общественных мнениях (Steadman, 1985; Pasewark, 1986). Оценки использования защиты ссылкой на невменяемость и успешного исхода дела при такой защите (т. е. вердиктов NGRI), по-видимому, были существенно завышены. Например, в одном исследовании в Вайоминге законодатели были уверены, что она используется примерно в 8 0/0 всех обвинений в фелонии (совершении тяжких уголовных преступлений), тогда как в действительности показатель для этого штата составил 0,46 0/0 (Pasewark, Pantle, 1979). По оценкам Стэдмана (Steadman, 1985), в США в 1978 г. было подано 5180 заявлений о NGRI, что составило 0,2 0/0 всех арестов за совершение тяжких уголовных преступлений. Из них около трети
![]()
были приняты судом, и лица, содержащиеся под стражей вследствие вердикта NGRI, составили около 296 всех пациентов психиатрических больниц. В Англии такая защита в настоящее время почти не используется, хотя Макей (МасКау, 1990) обнаружил 49 успешных защит ссылкой на невменяемость в период с 1975 по 1988 г. и сделал вывод, что их было меньше, чем можно было бы ожидать.
Бытовало мнение, что вердикт NGRI защищает богатых, однако согласно результатам исследований большинство признанных невиновными имели плохое образование и занимались неквалифицированным трудом. Они также часто не состоят в браке (Steadmen, 1985), к тому же в совокупности NGRI доля лиц женского пола непропорционально больше их доли в тюремной популяции. Это было обнаружено в английском исследовании Макея, в котором 11 из 49 оправданных были женщины. по-видимому, главным фактором, влияющим на вынесение вердикта NGRI, являются предыдущие частые госпитализации (Steadman, 1985), хотя оправданные не образуют однородную группу психотиков. Пейсворк с соавторами (Pasewark, Plante & Steadman, 1982) установили, что в выборке из 50 лиц NGRI в штате Нью-Йорк диагноз «шизофрения» был поставлен 26, а диагноз «расстройство личности» — 14. Аналогично этому, Макей установил (МасКеу, 1990), что 25 из 49 оправданных имели диагноз «шизофрения», 4 — «депрессия», четыре — «эпилепсия, а З — «расстройство личности». Более того, и американские и английские исследования показывают, что хотя оправданные по вердикту NGRI чаще обвинялись в насильственных преступлениях, менее значительные преступления, такие как жульничество или ночные кражи со взломом, тоже нередки. Это противоречит общераспространенному мнению, что к такой защите прибегают главным образом убийцы, чтобы избежать законного наказания.
С другой стороны, распространенное в обществе мнение, что оправданных по вердикту NGRI содержат под стражей сравнительно недолго, как и обеспокоенность юристов по поводу того, что оно излишне затянуто, находят некоторое подтверждение. Пейсворк с соавторами (Pasewark, Plante & Steadman, 1982) сравнили лиц, содержащихся под стражей по вердикту NGRI, с заключенными, обвиненными в аналогичных преступлениях. Они установили, что после того как оправданные по вердикту NGRI вышли из-под опеки управления исправительных учреждений и были переданы в систему охраны психического здоровья, их сроки содержания под стражей, в целом, стали короче, чем у осужденных преступников. Макей (МасКау, 1990) также обнаружил, что более половины его выборки содержалась в региональных отделениях режимных лечебных учреждений (со средним уровнем изоляции), а не в спецбольницах, и что многие из них были освобождены менее чем через год. Хотя сроки содержания под стражей несколько варьируются, они, как правило, связаны с тяжестью преступления, свидетельствуя о том, что решающим фактором является карательное воздаяние, а не ремиссия расстройства (Pasewark, 1986).
Согласно данным последующих наблюдений, уровень повторных арестов составляет от 13 до 50 0/0, т. е. он довольно высок, хотя и широко варьирует. Пейсворк с коллегами (Pasewark et al., 1982) установили, что оправданные по вердикту NGRI и сопоставимые с ними по тяжести преступлений осужденные имеют практически одинаковый уровень повторных задержаний, 15 и 18 0/0 соответственно, в основном за менее значительные преступления. Стэдман отмечает (Steadman, 1985), что согласно данным по штату Нью-Йорк оправданные по вердикту NGRI
![]()
имеют более высокий уровень повторных арестов, чем бывшие пациенты психиатрических больниц в целом, хотя и ниже, чем у признанных неспособными отвечать перед судом, но распространимость этих данных на другие регионы еще нужно доказать.
Определение способности отвечать перед судом следует из потребности убедиться в том, что наказание понесет виновный. В Англии «не способный участвовать в процессе» — это общее выражение, хотя Закон об уголовном судопроизводстве (раздел о невменяемости) от 1964 г. указывает на «такую неспособность, которая будет служить препятствием для рассмотрения дела в суде». В Шотландии равнозначной формулировкой является «недоступен для суда по причине невменяемости», тогда жак в США наиболее часто употребляется выражение «неспособен предстать перед судом» (Morris, 1983).
В Англии критерием способности отвечать перед судом обычно служит то, способен ли обвиняемый разобраться в судебных процедурах настолько, чтобы надлежащим образом защищаться в суде, заявить отвод члену коллегии присяжных и уяснить существо доказательств (Ноте 0ffice/Department of Health and Social Security, 1975). В американских юрисдикциях особое значение придается пониманию выдвинутых обвинений и судебных процедур, а также сотрудничеству с адвокатом (Halleck, 1987). Это было рекомендовано Батлеровским комитетом. Обычно предполагается, что неспособность является следствием серьезного психического расстройства (также может приниматься в расчет глухонемота, но не амнезия), а в некоторых юрисдикциях суд разрешает психиатру или психологу составить заключение о способности, обычно в случае психоза. Однако используемые критерии затрагивают специфические когнитивные и коммуникационные навыки и требуют большего, чем традиционное клиническое обследование (Roesch, Golding, 1987).
Ссылка на неспособность отвечать перед судом используется чаще защиты ссылкой на невменяемость. Халлек (Halleck, 1987) насчитывает около 25 000 оценок способности отвечать перед судом в США в 1978 г., хотя суды вынесли решение о неспособности только в небольшом количестве случаев. В своем обследовании американских учреждений для психически больных преступников Керр и Рот (kerr, Roth, 1986) показали, что 11 % содержащихся в них лиц были признаны неспособными отвечать перед судом, а 6 0/0 проходили обследование на предмет способности участвовать в судебном процессе. В Англии в последние годы менее чем 2 0/0 преступников с психическими расстройствами подвергались таким процедурам (Grubin, 1991). В Шотландии это использовалось чаще (Chriswck, 1978). Крисвик установил, что, по сравнению с контрольной группой, неспособные отвечать перед судом пациенты Государственного госпиталя были старше, чаще обвинялись в убийстве, им чаще ставился диагноз «психоз» и реже — «расстройство личности» и их содержали под стражей значительно дольше.
Таких пациентов не признают виновными, но они подлежат заключению на неопределенный период, обычно в больнице со строгим режимом изоляции. Вследствие этого было рекомендовано изменить процедуры как в Англии (Ноте 0ffice/Department of Health and Social Security, 1975), так и в Америке (Morris,
1983), в частности ввести отсрочку суда на срок до шести месяцев, обеспечив тем
![]()
самым возможность выздоровления и, следовательно, нормального судебного процесса. В случае «невосстанавливаемых неспособных» предлагается провести специальное судебное исследование фактов по делу, чтобы сделать возможным вынесение вердикта «не виновен», оставляя завершение процесса на судейское усмотрение в тех случаях, когда суд не смог прийти к такому вердикту. Впрочем, число «невосстанавливаемых», вероятно, не очень велико, и в США были успешно апробированы программы восстановления способности отвечать перед судом посредством клинического лечения и обучения навыкам, имеющим отношение к суду (Pendleton, 1980).
После 1960 г. защита ссылкой на невменяемость в Англии сократилась до единичных случаев, отчасти вследствие введения судебных приказов о госпитализации по Закону об охране психического здоровья, но особенно вследствие Закона об убийстве от 1957 г. и последующей отмены смертной казни в 1965 г. Закон об убийстве ввел, после опробования в Шотландии, защиту ссылкой на ограниченную вменяемость, которая, в случае принятия судом, ведет к признанию виновным в простом (без злого предумышления) убийстве. Эта категория преступлений не влечет за собой обязательного наказания пожизненным заключением обвиняемого в убийстве, и суды получают возможность назначать другие наказания, помимо пожизненного заключения, хотя оно и не исключается.
Согласно статье 2 этого закона, в случае «страдания» обвиняемого ограниченной вменяемостью он должен проявлять «такое отклонение рассудка от нормы (обусловленное состоянием арестованного, задержкой его психического развития или другими внутренними причинами либо вызванное болезнью или травмой), которое существенно нарушает его психическую ответственность за свои действия или свое бездействие». Эта формулировка выходит за рамки критерия «дефекта рассудка», представленного в правилах Мак-Нотана, а «существенное нарушение» подразумевает в целом меньшее нарушение. Грив (Griew, 1986) замечает, что формулировка статьи 2 «эллиптична почти до полной бессмыслицы» и, к сожалению, не была улучшена судебными толкованиями. В деле по иску государство против Берна в 1960 г. судья Паркер постановил, что «отклонение рассудка от нормы» означает «психическое состояние, настолько отличающееся от состояния обычного человека, что любой здравый человек посчитал бы его ненормальным». Он также высказал суждение, что «психическая ответственность» («mental responsibility») относится к «степени, до которбй рассудок обвиняемого ответствен за его физические действия», — интерпретация, которую Грив (Griew, 1986) считает «даже хуже оригинала». Согласно выводам Батлеровского комитета, рассматриваемая «психическая» ответственность является «либо юридическим понятием, либо нравственным, но не клиническим фактом, имеющим отношение к обвиняемому». Скорее, вопрос заключается в ответственности личности за свои действия и степени, до которой судебная ответственность будет уменьшена в результате «существенного нарушения».
Допускающий неоднозначное толкование вывод, согласно которому то, что «уменьшается», есть психологическая способность нести «ответственность», снова привел психиатров к необходимости формулировать «конечные вопросы» и, соответственно, к всплеску общественной антипатии к роли психиатров в судах
над убийцами, что нашло непосредственное отражение в деле Питера Сатклиффа, так называемого «йоркширского потрошителя», убившего 13 женщин (Prins, 1986). Хотя психиатры, выступавшие и со стороны защиты, и со стороны обвинения, пришли к общему выводу, что Сатклифф страдал от параноидной шизофрении, судебный процесс, подобно суду над Хинкли, стал «мыльным пузырем», раздутым средствами массовой информации, которые обрушились с критикой на свидетельства психиатров. Однако в этом деле присяжные отклонили заявление защиты об ограниченной вменяемости и признали Сатклиффа виновным в убийстве. Тем не менее психическое расстройство Сатклиффа стало очевидным в тюрьме, и он был впоследствии переведен в специализированную больницу.
Ограниченная вменяемость использовалась в ряде случаев, например при реактивной депрессии, предменструальном напряжении, психозах и психопатиях. Это, однако, не обязательно вело к более снисходительному отношению, и только треть мужчин, признанных виновными в убийстве без злого умысла, согласно статье 2 были направлены на госпитализацию в последние годы, что, возможно, отражает возросшую тенденцию психиатров признацать психопатов неизлечимыми (Dell, Smith, 1983). Тем не менее этот вердикт заменил заключение «недоступен для суда по причине невменяемости» и специальный вердикт. С момента принятия Закона об убийстве эти категории используются менее чем в 396 случаев, в то время как вердикт убийства без злого умысла — в 3796 (Morris, 1983).
Дискуссии вокруг защиты ссылкой на невменяемость не прекращались еще и потому, что недостаточно внимания уделялось вопросу о том, почему наличие психического расстройства должно влиять на уголовную ответственность. Здесь мы затронем некоторые вопросы философии права, которая пыталась найти то общее нравственное «интуитивное» основание, по которому психически больных не следует считать виновными и наказывать.
Традиционные критерии для оправдания деяния ввиду исключающих вину обстоятельств — это незнание (заблуждение), принуждение и непреднамеренность. Последняя относится, строго говоря, к движениям (например, автоматизмы), а не к действиям, и потому первые два составляют важнейшие основания для освобождения от ответственности (Radden, 1985). Они имеют свои параллели в когнитивном и волевом компонентах критерия невменяемости соответственно. Согласно одной интерпретации защиты ссылкой на невменяемость, она отрицает теш rea, поскольку невменяемость отражает отсутствие преступного намерения. Фингарет и Хасс (Fmgarette, Hasse, 1979) оспаривали это, доказывая, что элементы теш rea, такие как злой умысел или преступное намерение, часто присутствуют у невменяемых преступников и оправдание деяния происходит не из-за отсутствия преступного намерения, а из-за истоков намерения в психической неполноценности.
Батлеровский комитет также принял ту точку зрения, что слабость правил Мак-Нотана лежит в «устаревшем теперь убеждении в исключительной роли рассудка в контролировании социального поведения». Далее утверждается, что «современная психиатрия и психология показывают, что социальное поведение человека больше определено тем, что он выучил, а не тем, что он знает или понимает». Это означает, что науки о поведении принимают скорее взгляды эмпиризма на поведение, чем рационалистическую точку зрения, но эти взгляды вряд ли устоят под напором «когнитивной революции» в психологии. Некоторые философы права также доказывают, что наша интуиция в отношении оправдания невменяемого основывается не столько на традиционных оправдывающих обстоятельствах, сколько на факте ухудшения возможностей доступа к поведению, управляемому рассудком. Фингарет и Хасс (Fingarette, Hasse, 1979), к примеру, предположили, что в основе различных критериев невменяемости лежит иррациональное психическое состояние, хотя их понятие рациональности выходит за рамки когнитивной сферы и включает эмоциональную реактивность (responsiveness) в отношении значимости «преступления». Преступники, квалифицированные как психопаты, в этом смысле могут быть названы иррациональными. Однако Радден (Radden, 1985) считает это понятие иррационального слишком расплывчатым. В качестве основы для оправдания душевнобольных она предлагает понятие оправдывающей неразумности (exculpating unreason) как устойчивой неспособности придерживаться и действовать исходя из разумных оснований, а также отказываться от непоследовательных (алогичных) убеждений и желаний. Она проводит параллель между неразумностью невменяемого и дорациональным мышлением, которое, по Пиаже, характеризует маленьких детей и представляет собой неспособность рассуждать логически, мыслить рефлексивно, сообщать другим содержание своего опыта полностью и действовать по собственному выбору.
Радден предполагает, что рациональность является необходимым условием способности человека действовать лично и, следовательно, приписывания ему похвалы или вины. Сходной позиции придерживается Мур (Moore, 1984): «Мы считаем людей ретроспективно ответственными перед законом или с точки зрения морали, только если они являются вменяемыми субъектами действия, которые по небрежности или по умыслу, без оправдания или извинения, совершают действия, которые приводят к такому состоянию дел, которое они не должны были допустить». Каждое условие ответственности, как он считает, предполагает, что люди являются практическими мыслителями (practical reasoners) и что автономия и рациональность являются существенными для признания людей ответственными. Животные, младенцы, корпорации и психически больные освобождаются от ответственности в силу того, что они не обладают статусом лица, наделенного этими атрибутами. Таким образом, именно общая неспособность к рациональному действию образует основу для оправдания по причине невменяемости.
Занимающиеся этикой философы имеют дело с категорией
должного, а вопрос о том, как люди приписывают ответственность, является
вопросом эмпирической психологии, не имеющим отношения к данной дискуссии.
Например, вполне может быть, что не существует единого универсального принципа
оправдания, который можно бы было применить вне зависимости от контекстных
условий. Тем не менее в свете этих разногласий любые попытки реформировать
защиту ссылкой на невменяемость будут оставаться спорными. Те, кто
рассматривают нарушенную мыслительную способность в качестве основной причины
для оправдания, выступают за сохранение такой защиты и проводят границу
ответственности на основании критериев такой неспособности. Например, Мур
доказывает, что невменяемость как юридическое понятие должна определяться на
основе иррациональности, а не исходя из того, является ли человек психически
больным в психиатрическом смысле. Заявление Нори о том, что выбор всегда
ограничен, напротив, заставляет усомниться в любых попытках определить критерии
для установления уголовной ответственности. Доводы против принятия в расчет
психического расстройства в уголовном судопроизводстве не раз высказывались
отдельными авторами. Сас (Szasz, 1979) принимает модель восстановления справедливости,
рассматривая наказание как морально оправданное, но считает, что психиатрия не
должна играть никакой роли в определении того, кто является ответственным и
кого следует наказывать. Уравнивая способность отвечать за содеянное с
наказуемостью, Вуттон (Wootton, 1959, 1980) говорит о том, что если обойтись
без первого, то отпадет надобность в искусственном разграничении преступников
на ![]() «здоровых» и «больных». Она предлагает
обойтись без требований mens rea в судах за счет расширения объективной
ответственности. Вопрос о психическом расстройстве вставал бы только на стадии
вынесения судебного решения, предполатающей прагматическое рассмотрение
потребностей преступника и общества. Различие между пенитенциарной системой и
системой охраны здоровья, таким образом, исчезнет. Эта позиция была поддержана
Британским психологическим обществом (Black et al., 1973).
«здоровых» и «больных». Она предлагает
обойтись без требований mens rea в судах за счет расширения объективной
ответственности. Вопрос о психическом расстройстве вставал бы только на стадии
вынесения судебного решения, предполатающей прагматическое рассмотрение
потребностей преступника и общества. Различие между пенитенциарной системой и
системой охраны здоровья, таким образом, исчезнет. Эта позиция была поддержана
Британским психологическим обществом (Black et al., 1973).
Рекомендации Батлеровского комитета в отношении вердикта «невиновен за доказанностью психического расстройства», возможно, наиболее близки к последней позиции. Граница для установления уголовной ответственности проводится, однако, исходя из психиатрических понятий тяжелой умственной отсталости и тяжелой психической болезни, причем последняя определяется по пяти критериям: стойкое нарушение интеллектуальных функций, стойкое изменение настроения, порождающее бредовые оценки, бредовые убеждения, анормальное восприяме, связанное с бредовым неверным истолкованием, и мышление, настолько нарушенное, что исключает разумную оценку пациентом ситуации. Эти рекомендации считаются достаточно последовательными большинством психиатров и Правовой комиссией, но их логическое обоснование остается неясным. Однако независимо от того, опираются ли они на представление, что именно сама по себе психическая болезнь или нарушенное мышление составляют оправдывающее обстоятельство, проведение пограничной линии в том месте, которое определяется критериями психоза, представляется произвольным. Эти критерии подвергаются
особо сильной деформации под воздействием теоретических разработок, указывающих на определяющую роль когнитивной дисфункции при неврозах и расстройствах личности (ВесК, 1976, 1990). Например, если преступники с расстройством личности не более ответственны за то, что придерживаются системы иррациональных представлений, чем преступники с параноидной шизофренией за свои бредовые идеи, то почему они должны нести за преступление более суровое наказание?
Проблему репрезентативности поднимают Монахан и Стэдман (Monahan, Steadтап, 1983), которые проводят эпидемиологическое разграничение между истинной (Пе) распространенностью и леченной (treated) распространенностью. Те, кого идентифицировали как пациентов по регистрационным записям в учреждениях системы здравоохранения, дают только «леченные» показатели психического расстройства, которые существенно недооценивают «истинную» распространенность психического расстройства в обществе в целом. Осужденные преступники также представляют «леченное» меньшинство тех, кто когда-либо совершил уголовное преступление. В идеале показатели истинной распространенности первых и вторых, а также связи между ними должны определяться на основе случайных выборок из общей популяции путем интервьюирования или самоотчетов, но данные этого типа стали доступны только недавно (Monahan, 1992).
Теплин (Teplin, 1984, 1985) описывает обсервационное исследование 1382 взаимодействий полицейских и городских жителей, в которых наличие тяжелого психического расстройства оценивалось по краткому контрольному перечню симптомов. Из 506 лиц, подозреваемых в совершении преступления, 30 обнаружили признаки психического заболевания, и значительно большее число из них было задержано по сравнению с другими подозреваемыми (47 против 2896). Впрочем, контакт между полицейским и психически больным изначально не всегда определялся подозрением в совершении преступления, так как, несмотря на то что психические больные несколько чаще оказывались подозреваемыми, они также чаще были объектами заботы и оказания помощи. Кроме этого, характер преступлений, в которых они подозревались, не отличался существенно от характера преступлений других подозреваемых. Таким образом, эти результаты указывают на тенденцию задерживать психически больных как из-за их «непочтительного» поведения, так и вследствие ограниченных альтернативных решений. Однако они не указывают на ббльшую склонность к криминальному поведению психически больного человека.
Это исследование дает более хорошее приближение к установлению истинной распространенности преступлений среди «нелеченных» психически больных, чем большинство других исследований. В других исследованиях, в основном, изучались показатели задержаний в выборках леченных психически больных или истинные показатели распространенности психического расстройства среди «леченных» (т. е. подвергнутых судебному преследованию) преступников.
Исследования в этой области в основном были посвящены изучению показателей задержаний пациентов психиатрических больниц после выписки и сравнению их с показателями задержаний в общей популяции. Такие исследования бесспорно опираютс'я на ряд допущений, в частности о текущем психиатрическом статусе, демографической сравнимости таких пациентов с общей популяцией и об отсутствии предубеждений при задержании. В свете результатов, полученных Теплином, последнее сомнительно.
Из этих более поздних исследований репрезентативным является 19-месячное последующее наблюдение больных, выписанных из больницы в штате Нью-Йорк в 1968 и 1975 гг. (Steadman, Cocozza & Melick, 1978). В двух выборках 6,9 и 9,496 впоследствии были арестованы, и показатели бывших пациентов оказались примерно в три раза выше, чем показатели в общей популяции, хотя аресты не ограничивались какой-то конкретной категорией преступлений. Последующий арест был связан с предыдущими задержаниями, возрастом, а также диагнозом расстройства личности или злоупотребления алкоголем, хотя эти диагнозы в значительной степени зависели от возраста. У пациентов без предыдущих задержаний показатели последующих арестов были действительно ниже, чем показатели в общей популяции, и сравнение с более ранним исследованием показало, что критическое различие в показателях обусловлено увеличением числа пациентов с предшествовавшими госпитализации задержаниями с 15 до 409/0 за 30-летний период. Согласующимся с предположением, что тяжелое психическое расстройство не повышает риска совершения преступления, является 15-летнее последующее наблюдение всех больных шизофренией, выписанных из больницы в Стокгольме в 1971 г. (Lindqvist, Allebeck, 1990). Уровень преступности среди больных мужского пола оказался лишь незначительно выше уровня преступности в общей популяции. Однако преступность среди бывших пациенток в два раза превысила ожидаемый уровень.
Сосовски (Sosowsky, 1980), напротив, сообщил о том, что показатель задержаний пациентов, которые не имели прежде арестов, после выписки из государственной больницы в Калифорнии превысил в пять раз соответствующий показатель для жителей местного округа. Монахан и Стэдман (Monahan, Steadman, 1983) подвергли сомнению правомерность этого сравнения и отметили, что, подобно Стэдману с коллегами (Steadman et al., 1978), Сосовски просто еще раз доказал ббльшую важность предыдущих арестов и возраста как предикторов последующих арестов по сравнению с психиатрическим диагнозом. В согласии с Рабкиным (Rabkin, 1979), они пришли к выводу, что совершение преступлений пациентами психиатрических больниц более связано с теми же демографическими показателями, которые предсказывают и совершение преступлений в общем, — возрастом, полом, социальным классом и этнической принадлежностью, чем с психиатрическим статусом.
Исследования распространенности психических расстройств среди осужденных преступников имеют два существенных недостатка: несогласованность диагностйческих критериев, меняющихся от исследования к исследованию и в зависимости от времени, а также фильтрацию преступников с психическими расстройствами на ранних стадиях уголовного судопроизводства. Бродский (Brodsky, 1972) обобщил девять американских исследований судебных или тюремных выборок, проведенных в период с 1918 по 1970 г., в которых показатели психиатрического расстройства варьировали от 16 до 9596, причем более высокие цифры были получены в более современных исследованиях. Показатели распространенности психозов варьировали от 1 до 40/0, а самые высокие показатели были обнаружены для расстройств личности и «расстройств поведения». Нечеткие критерии этих двух
11 Зак 364
1 О.
![]()
последних расстройств объясняют ббльшую часть дисперсии суммарных показателей. Исследования судебных выборок, которые, возможно, являются более репрезентативными в отношении полной совокупности преступников, чем выборки лишенных свободы преступников, проводились редко. Койд (Coid, 1984) нашел только два: одно было проведено до, а другое после Второй мировой войны. Согласно этим исследованиям, процент расстройств невелик, хотя уровень расстройств личности вырос с 6,9 0/0 в раннем исследовании до 24,996 в более позднем исследовании, что отражает изменение критериев.
Более современные исследования ограничиваются выборками заключенных. Хотя в них было уделено больше внимания диагностической надежности, по-виДИМОМУ, все же нет ни одного исследования случайной выборки с применением критериев DSM-III. Газ (Guze, 1976) проинтервьюировал 223 уголовных преступника и 66 уголовных преступниц в Миссури до их освобождения из тюрьмы, используя исследовательские диагностические критерии. Всем женщинам и 90 0/0 мужчин был поставлен психиатрический диагноз. Процент психозов и случаев умственной отсталости был невелик, но 780/0 мужчин и 65 0/0 женщин получили диагноз «социопатия». Этот последний результат вызывает скептическое отношение, так как социопатия определялась по критериям предшествующей социальной девиантности, таким как проблемы с полицией и девиантное поведение в школе, а в случае женщин добавлялась еще и проституция. Подобно более детальным DSM-III критериям для антисоциального расстройства личности, они почти ничего не говорят о характеристиках обследуемых лиц и просто еще раз подтверждают ставшее трюизмом криминологическое суждение, что между лишением свободы и прошлой социальной девиантностью существует связь.
Более низкие цифры были получены в британском исследовании тюремных выборок, и Ган (Gunn, 1977) оценивает показатели распространенности психических расстройств среди преступников как лежащие между 27 и 46 0/0. Ган с коллетами (Gunn et al., 1978) обнаружили, что 31 % случайно отобранных заключенных в юго-восточной Англии отвечает критериям психического расстройства, в основном критериям расстройства личности или алкоголизма. Позднее группа авторов (Gunn, Maden & Swinton, 1991) оценила случайную выборку в составе 1365 взрослых мужчин и 404 юношей из 16 английских тюрем, ставя диагнозы по МКБ на основании полуструктурированного интервью и информации из досье. В целом 3796 был поставлен первичный диагноз. Основными диагнозами были: злоупотребление психоактивными веществами (230/0), расстройство личности ( 100/0), невроз (696), психоз (296) и органические расстройства (0,80/0).
Хотя паттерны расстройств, обнаруженные в различных выборках, имеют некоторые расхождения, которые могут, разумеется, отражать действительные различия, все же складывается впечатление, что треть или более заключенных обнаруживают ту или иную форму психического расстройства и что эти цифры отражают главным образом высокую распространенность среди заключенных алкоголизма, наркомании и расстройств личности. Следует отметить, йто всё это расстройства, статус которых как психических болезней до сих пор дискутируется в психиатрии. Пока остается неясным, действительно ли показатели распространенности расстройств в популяциях заключенных существенно отличаются от соответствующих показателей в общей популяции. Монахан и Стэдман (Моnahan, Steadman, 1983) приводят оценку американских социологических исследо-
![]()
ваний, которая колеблется от 16 до 25 0/0. Средняя распространенность составляет 1,7 % для психоза, 15,1 % для невроза и 7,094 для расстройства личности, причем показатели в группах с низким социоэкономическим статусом, к которым чаще всего принадлежат заключенные, были выше. Робинс с коллегами (Robins et al., 1984) выявили распространенность злоупотребления психоактивными веществами в американских выборках около 15—18 0/0. В целом исследования выборок заклоченных, если учесть принадлежность к социальному классу, показывают, что наличие психического расстройства не увеличивает риска совершения преступления. Однако этот вывод только предварителен. Койд (Coid, 1984) отмечает, что симптомы стресса часто встречаются среди заключенных, но не подпадают под диагноз «невроз».
Несмотря на то что из этих данных невозможно сделать выводы о причинных связях, они могут быть полезными для полиции в плане обращения с преступникамй. Они также имеют значение для гипотезы «криминализации». Исходя из данных об обратной зависимости между количеством коек в психиатрических больницах и тюремными популяциями в европейских странах, Пенроуз (Penrose, 1939) предположил, что изменение популяции в одной институциональной системе вызывает обратное изменение популяции в другой. Веллер и Веллер (Weller, Weller, 1988) нашли корреляцию 0,94 между уменьшением числа пациентов в психиатрических больницах в Англии с 1950 г. и увеличением тюремной популяции, что явно согласуется с «гидравлической» гипотезой Пенроуза. По их мнению, эти данные отражают растущую тенденцию попадания в тюрьму бывших пациентов, совершивших преступление. Тем не менее Луриджио и Льюис (Lurigio, Lewls, 1987) не обнаружили подтверждения этому в американском исследовании выписанных пациентов, а цифры, полученные Ганном с коллегами (Gunn et al., 1978; Gunn et al., 1991), также позволяют предположить, что не произошло существенных изменений процента английских заключенных с тяжелыми психическими расстройствами за последнее десятилетие.
Хотя преступность и психическое расстройство могут варьировать независимо, их распределения все же частично пересекаются. Учитывая, что совокупная распространенность преступности в течение жизни составляет свыше 40 0/0 у мужчин и 14 0/0 у женщин (Farrmgton, 1981), а более 10 0/0 населения получают психиатрическое лечение, преступность и психическое расстройство будут часто сочетаться, даже если между ними нет причинной связи. Тем не менее наблюдаемое отсутствие связи на совокупном уровне не исключает существования значимых связей на индивидуальном уровне, и ввиду неоднородности психически больных и преступников вполне могут существовать зависимости между определенными видами преступлений и определенными видами расстройства (Wessely, Taylor, 1991).
Наибольшее внимание уделялось насильственным преступлениям, которые будут рассмотрены ниже. Информация по другим категориям носит отрывочный характер, хотя получены некоторые данные, наводящие на определенные размышления. Например, магазинные кражи не имеют сколько-нибудь существенной связи с психическим расстройством, но среди преступного меньшинства с психическими расстройствами депрессия представлена непропорционально большим числом случаев (Gibbens, 1981). Ган (Gunn, 1977) отмечает, что пре-
1 О.
![]()
ступники, осужденные за насилие над
личностью, половые преступления и преступное причинение ущерба,
непропорционально чаще определяются как страдающие психическим расстройством на
основе направлений на стационарное лечение по решению английских судов. Это может
отражать предубеждения в судебном процессе, но связь психического расстройства
с уничтожением имущества подтверждается данными Тейлор и Гана (Taylor, Gunn,
1984): свыше 600/0 лиц, содержащихся в предварительном заключении и
обвиняемых в поджоге или преступном причинении ущерба либо уже осужденных по
этим статьям, обнаруживают признаки психических расстройств, половина которых —
психозы. ![]()
По утверждению Фуко (Foucault, 1978), общественное мнение, считающее психически больных людей опасными, сформировалось благодаря усилиям психиатров XIX века, которые ввели в целях объяснения тяжких преступлений, не имеющих очевидной причины, фикцию «мономания убийства»: психическое заболевание, проявляющееся исключительно в этом тяжком преступлении. Хотя эта фикция была вытеснена понятиями нравственного помешательства и сексуальных перверсий, представление о том, что многие преступления являются симптомами психического расстройства, распространялось благодаря предположениям о существовании других «мономаний» (глава З). Исследования конкретных случаев психической болезни у лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления, также поддерживали бытующее среди психиатров мнение о высоком риске проявления насилия психически больными людьми, и до сих пор ведутся споры по поводу того, действительно ли появление внезапных вспышек насилия у молодых взрослых может предвещать начинающийся психоз (Hifner, B6ker, 1982). В настоящее время исследователи подвергают сомнению существование внутренней связи между психическим расстройством и насильственным преступлением (Howells, 1982; Taylor, 1982; krakowsky, Volavka, Brizer, 1986; Monahan, 1992), однако невозможно отрицать, что серьезные преступления иногда совершаются людьми с психическими расстройствами. Хотя связь между истинной распространенностью психического расстройства и насилием остается на сегодняшний день не установленной, сведения из различных источников указывают на то, что некоторые расстройства могут повышать риск применения насилия.
Не будучи обязательно репрезентативными по отношению к проявлениям насилия вообще, высокие показатели раскрытия убийств полицией допускают более сильные обобщения. Впрочем, такие данные с трудом поддаются однозначной интерпретации вследствие разных подходов к регистрации убийств и юридическому признанию психического расстройства в различных странах, а также в силу возможного аверсивного эффекта совершенного насилия, влияющего на постановку диагноза в отдельных случаях.
Наиболее систематическое эпидемологическое исследование провели Хефнер и Бекер (Hifner, B6ker, 1982). Они изучили все 533 случая тяжких убийств, покушений на убийство и непредумышленных убийств в ФРГ между 1955 и 1964 гг., по которым были вынесены решения, освобождающие от судебной ответствен-
![]()
ности из-за тяжелого психического расстройства (шизофренического или аффективного психоза, органического расстройства вследствие повреждения мозга, умственной отсталости). Хотя были проблемы с получением строго сопоставимых официальных данных о преступлениях, авторы приблизительно подсчитали, что на психически больных приходится 2,90/0 осуждений за серьезное насилие и 5,60/0 жертв убийств. Психиатрические обследования 2000 лиц, арестованных за убийства в Сент-Луисе между 1964 и 1973 гг., дали сопоставимые результаты: шизофрения диагностировалась в 0,980/0 случаев, аффективное расстройство — в 0,40/0 и органическое расстройство вследствие повреждения мозга — в 0,50/0 (Непп, Herjanic & Vanderpearl, 1976).
Впрочем, в Великобритании психическое расстройство признавалось у 30— 4096 убийц на протяжении большей части этого столетия, а в течение 1980-х гг. примерно пятая часть осужденных за убийство была предположительно отнесена к категории лиц с ограниченной вменяемостью. Кроме того, примерно в 70/0 случаев известных правосудию убийств подозреваемый вслед за убийством совершил самоубийство (Ноте 0ffce, 1989а). Последняя цифра говорит об уменьшении почти на четверть по сравнению с более ранними десятилетиями. Тейлор и Ган (Taylor, Gunn, 1984) нашли, что более трети из 107 содержащихся в предварительном заключении в Лондоне, обвйненных в убийстве или осужденных за убийство, имеют симптомы расстройства (шизофрения — 9,394; аффективный психоз — 1,996; смешанные расстройства — 2694). Тейлор (Taylor, 1986) также установил, что среди лиц, отбывающих пожизненное заключение в лондонских тюрьмах, большинство из которых убийцы, у 90/0 были отмечены симптомы шизофрении, у 130/0 — депрессия и у 330/0 — расстройства личности. Хотя эти цифры не противоречат оценкам анормальности среди убийц в Великобритании, они указывают на несколько больший, чем обычно, процент психозов.
Однако ввиду вариаций национальных уровней убийств процент психически больных среди убийц может ввести в заблуждение. Проведя кросс-культурное исследование психически больных убийц и тех, кто совершил самоубийство вслед за преступлением, Койд (Coid, 1983) обнаружил отрицательную корреляцию между национальными уровнями убийств и процентом психически больных убийц. Доля психически больных убийц на душу населения оказалась сравнительно постоянной, независимо от временного периода и страны, и составила 0,10 на 100 000. За вариациями уровней убийств, следовательно, стоят социальные факторы, которые влияют на «непатологическое» убийство. Этот вывод также объясняет снижение доли аномальных убийств и убийств-самоубийств в Великобритании на фоне роста общего уровня убийств. Более важный вопрос состоит в том, увеличивает ли наличие определенного расстройства риск совершения убийства или применения других форм насилия.
Хефнер и Бекер (Hifner, B6ker, 1982) установили, что в изучаемой ими группе преступников, совершивших насильственное преступление и страдающих от психического расстройства, по сравнению с группой пациентов-непреступников, шизофрения встречалась намного чаще, а аффективный психоз — реже, хотя это было связано с половыми различиями. Тем не менее, по их оценкам, риск совершения серьезного насилия при шизофрении составляет 0,050/0 (т. е. 5 из каж-
10.
![]()
дых 10 000 шизофреников, вероятно, совершат насилие), а в случае аффективных расстройств и умственной отсталости — 0,006 0/0. Даже принимая во внимание очень низкие риски совершения насилия при этих расстройствах, полученные оценки говорят о том, что шизофрения является расстройством с более высоким риском применения насилия. В своем катамнестическом исследовании страдающих шизофренией пациентов, выписанных из больницы, Линдквист и Алебек (Lindqvist, Allebeck, 1990) также нашли, что преступления с применением насилия совершались в четыре раза чаще, чем ожидалось, хотя они приходились только на 7 % выборки. Наибольшую жестокость больные шизофренией проявляют к членам своих семей или к знакомым, а странные самоповреждения, такие как энуклеация, более вероятны, чем убийство с расчленением трупа (Тауlor, 1982). Существуют, однако, исключения, такие как серийный убийца Питер Сатклифф (Prins, 1986).
В этом контексте релевантны исследования насилия в психиатрических больницах, хотя полученные в них данные отличаются множеством противоречий (Haller, Deluty, 1988; Monahan, 1988). Данные из Великобритании (Noble, Rogers, 1989) и из Канады (Harris, Varney, 1986) показывают, что количество случаев насилия в больницах выросло, начиная с 1970-х гг., вероятно в результате изменения политики госпитализации, хотя, скорее всего, это связано с возросшей концентрацией в больницах более молодых, но хронических и «неуправляемых» пациентов, а не с госпитализацией пациентов, совершивших ранее насильственные преступления. Хотя случаи применения насилия в больницах встречаются часто, их последствия, как правило, незначительны, и лишь немногие из них ведут к тяжелым телесным повреждениям (Fottrel, 1980; Noble, Rogers, 1989). К тому же ответственность за них несет небольшая часть пациентов. Например, Харрис и Варни (Harris, Varney, 1986) считают, что менее 5 0/0 пациентов из больниц с самым строгим режимом охраны ответственны за 74 0/0 случаев насилия. Насколько верно утверждение, что большинство таких пациентов — больные шизофренией, неизвестно, так как некоторые данные указывают на это (Fottrel, 1980; Ретson, Wilmont & Padi, 1986; Noble, Rogers, 1989), а другие свидетельствуют против (Harris, Varney, 1986; James at al., 1990). Возможно, существуют качественные различия между насильственными преступлениями и малозначительными инцицентами, наблюдаемыми в больницах, ибо, согласно некоторым исследованиям, последние совершаются по большей части женщинами. Куинси и Магуайр (Quinsey, Maguire, 1986) также установили, что агрессивное поведение в больницах с самым строгим режимом изоляции не предсказывает совершения насильственных преступления после выписки из больницы; по-видимому, оно является в не меньшей степени продуктом больничной среды, чем следствием патологии пациента. Эта точка зрения подтверждается в исследованиях, согласно которым факторы социального окружения частично ответственны за проявление насилия в больницах (Drinkwater, Gudjonnson, 1989; James et al., 1990).
Пациенты, страдающие шизофренией, не составляют однородной группы, и агрессивное поведение, по-видимому, более вероятно при наличии особых симптомов. Как отмечает группа авторов (krakowsky, Volavka & Brizer, 1986), спланированный и достигший цели акт насилия предполагает некоторую степень интактного функционирования, несопоставимую с тяжелым расстройством или дезорганизацией, и насильственные действия со стороны пациентов с шизофренией
![]()
наиболее вероятны в острой, активной фазе расстройства (Planansky, Johnson, 1977; Hifner, B6ker, 1982) Наличие бреда наиболее часто коррелирует с применением насилия пациентами, страдающими психозами. Планански и Джонсон (Planansky, Johnson, 1977) установили, что из 59 больных шизофренией, которые произносили угрозы или совершали акты насилия, 9 жаловались на неодолимое желание убить, 7 сообщили о галлюцинаторных инструкциях и 6 кататонических пациентов напали внезапно, придя в бешенство, но 3996 случаев нападения были связаны с бредовыми ошибочными восприятиями. Моват (Mowat, 1966) установил, что бред ревности (патологическая ревность) явно присутствовал у 12 0/0 мужчин и 3 0/0 женщин-убийц, помещенных в Бродмур. Однако хотя эти бредовые идей и восприятия были связаны с шизофренией в трети случаев, они также были связаны с депрессией и алкоголизмом, а в некоторых случаях это был единственный симптом.
То, в какой степени психотические симптомы объясняют насилие, еще предстоит выяснить. Краковски с коллегами (krakovsky et al., 1986) доказывают, что «акты насилия, совершаемые психиатрическими пациентами, тесно связаны с психопатологией, лежащей в его основе», но не все акты насилия могут быть объяснены наличием расстройства. Например, случаи проявления агрессии в больницах связаны больше с борьбой за личное пространство или пищу, чем с психотическими расстройствами (Hams, Varney, 1986; Pearson, Wilmont & Padi, 1986). По оценкам Тейлора (Taylor, 1985), 200/0 преступлений, совершенных заключенными с шизофренией, были определенно мотивированы бредовыми или галлюцинаторными симптомами. Несмотря на то что анормальные представления или восприятия могут оказаться необходимыми для объяснения насилия в таких случаях, они редко, если вообще бывают достаточными, так как лица с таким искаженным опытом редко действуют, опираясь именно на них. Даже если психотические представления приходится привлекать для объяснения, объяснение насилия в контексте этих представлений требует соотнесения с общими моделями агрессивного поведения, а также с личностными, социальными и ситуативными факторами, связанными с насилием в общей популяции (Taylor, 1982). Личности,как таковой здесь внимания уделялось мало, но Блэкборн (Blackburn, 1968с) установил, что различия в агрессии больных с параноидной и непараноидной шизофренией были связаны с• их личностными особенностями. Хауэллс (Howells, 1982) также отмечает, что процессы атрибуции, связываемые с насилием у бредовых больных, являются теми же, что связываются с агрессией вообще. Аналогично, Конвит с коллегами (Conv1t et al., 1988) нашел, что переменные, предсказывающие агрессивное поведение у молодых пациентов мужского пола, страдающих шизофренией, были теми же, что предсказывают насилие в других популяциях, например такие, как девиантная родительская семья или совершение актов насилия в прошлом.
Ранее отмечалось, что при аффективном психозе риск применения насилия меньше, чем при шизофрении, однако тому нет бесспорных доказательств. Депрессия всегда связывалась с насилием, имеющим тяжкие последствия, в частности с убийством, но преимущественно у женщин и в контексте «расширенного суицида», при котором убийство партнеров (associates) увязывается с убийством себя (Hafner, B6ker, 1987). Хефнер и Бекер (Hafner, B6ker, 1982) высказывают предположение, что у мужчин депрессия может на самом деле снижать риск при-
1 О.
![]()
менения насилия. Однако другие исследователи (Yesavage, 1983; Binder, McNeil, 1988) установили, что пациенты мужского пола с биполярным расстройством, находящиеся в маниакальной, а не в депрессивной фазе, чаще становились буйными в условиях стационара. Коллинс и Бейли (Collins, Bailey, 1990b), с другой стороны, нашли, что при контролировании демографической переменной и переменной «проблемного пьянства» расстройства настроения у недавно осужденных мужчин не были устойчиво связаны с экспрессивным насилием (убийством, изнасилованием, нападением), однако симптомы депрессии были связаны с взрослой драчливостью. На основании имеющихся данных невозможно сделать каких-либо четких выводов.
Риск применения насилия, по-видимому, связан с умственной отстаиостью, но опять-таки лишь в небольшом проценте случаев (Hodgins, 1992). В выборке Хефнера и Бекера умственно отсталые преступники обнаружили наибольшее сходство с группой «нормальных» насильников по демографическим переменным, и кроме того, чаще, чем пациенты-непреступники, имели в своей биографии факты нарушения семейных отношений и антисоциального поведения. Из этого следует, что сама по себе умственная отсталость не является причиной насилия. Хотя умственная отсталость не постоянно перепредставлена в тюремных выборках (глава 8), страдающие ею преступники, которые были подвергнуты принудительной госпитализации, также демонстрируют непропорционально высокий уровень сексуальных преступлений как до госпитализации, так и после выписки (Gibbens, Robertson, 1983; Coid, 1984). Поскольку диагноз умственной отсталости основывается на признаках социальной неприспособленности и низком уровне интеллекта, высокие показатели сексуальных преступлений, возможно, отражают больше недостаток навыков межличностного общения у этой группы людей, чем интеллектуальную недостаточность как таковую.
В некоторых недавних исследованиях насилие связывается также с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Агрессия не является критерием ПТСР в DSM-III-R, однако отмечается, что раздражительность может являться сопутствующим симптомом и что расстройство иногда связывается с «непредсказуемыми вспышками агрессивного поведения» (American Psychiatric Association, 1987). Соларш (Solursh, 1989) описывает паттерн «пагубной привычки к войне» («combat addiction») у ветеранов Вьетнама с хроническим ПТСР, которые много участвовали в сражениях. Центральным признаком являются «флэшбеки» (внезапно возвращающиеся воспоминания) и ночные кошмары, вызывающие возбуждение или «кайф» («high»), которые сменяются периодами депрессивного настроения. Этот паттерн присутствовал у 940/0 выборки, состоящей из 100 ветеранов с ПТСР, 97 0/0 которых также были вспыльчивыми и раздражительными, 870/0 социально отчужденными, а 72 0/0 злоупотребляли психоактивными веществами. Хотя 81 % этих ветеранов сообщали о своих увлечениях военного характера (хранении дома заряженного оружия и охоте), неизвестно, сколько из них совершали нападения на других людей. Коллинс и Бейли (Collins, Bailey, 1990а) в своем обследовании тюремной выборки, состоящей из 1140 лиц мужского пола, обнаружили взаимосвязь между насильственными преступлениями и ПТСР, не связанным с опытом военных действий. После введения контроля демографических факторов, «проблемного» пьянства и антисоциального расстройства личности оказалось, что 2,396 из этой выборки, отвечающие критериям ПТСР, чаще арестовывались
![]()
или осуждались за акты экспрессивного насилия. Схожая картина имела место у тех, кто обнаруживает один или более симптомов ПТСР, которые в большинстве случаев предшествовали совершению преступления.
Расстройство личности — категория, наиболее часто связываемая в клинической практике с насилием. Однако мы не можем сделать каких-либо обобщений относительно этой связи из-за отсутствия достаточного количества данных. Одна из проблем связана с тенденцией отождествлять социальную девиантность с расстройством личности, что полностью исключает возможность оценивания вклада собственно отклонения личности от нормы (Blackburn, 1988b). Родственная проблема заключается в тенденции ставить диагноз «расстройство личности» без каких-либо уточнений, игнорируя неоднородность этой категории расстройств, и, видимо, поэтому отсутствуют сравнения преступного насилия у лиц с различными видами расстройства личности, как они „определены в DSM-III. Тем не менее кажется маловероятным, что зависимое или избегающее расстройство в той же степени связано с насилием, что и антисоциальное или пограничное расстройство
личности.
Было проведено несколько исследований совершения новых преступлений лицами с умственной отсталостью (Murray, 1989). Поскольку эти выборки уже были идентифицированы как насильственные, такие исследования имеют только косвенное значение для вопроса о дифференциальной подверженности насилию специфических психиатрических расстройств, и поскольку они были посвящены прежде всего клиническому предсказанию опасности, они будут рассмотрены в главе 12. Однако некоторые данные указывают на то, что расстройство личности несет в себе больший риск совершения насилия, чем психоз. Квинси с коллегами (Quinsey et al., 1975), например, установили, что в группе пациентов с диагнозом «расстройство личности», выписанных из больницы с самым строгим режимом изоляции, новые насильственные преступления совершались чаще, чем в группе с диагнозом «психоз». К этому следует добавить, что в первой группе степень насилия до госпитализации предсказывала степень насилия после выписки. В более позднем исследовании пациентов из этого же учреждения, наоборот, диагноз не предсказывял совершения серьезных преступлений в последующем (Quinsey, Varney, 1986). Пациенты, помещенные в английские спецбольницы на основании правовой оценки «психопатическое расстройство», также чаще совершали насильственные преступления после выписки, чем те, кто был оценен как «психически больной» (Tennet, Way, 1984; Black, Spinks, 1985), но это различие может также отражать действие других факторов. Блэк и Спинкс (Black, Spinks, 1985), например, установили, что психопатическое расстройство не предсказывало рецидивов насилия, если в расчет принимались предыдущие преступления. Эти данные также небесспорны, учитывая неоднородность категории и влияние предьщущего криминального поведения на классификацию. И все же несколько исследований, опирающихся на строгие критерии психопатии, подтверждают предположение о ее связи с насилием как у заключенных, так и у преступников с психическими нарушениями (глава 9). Хэйр, Мак-Ферсон и Форт (Hare, McPherson & Forth, 1988) также сообщают о более высоких показателях рецидивизма для большинства преступлений, включая насильственные, у психопатических заключенных, чем у непсихопатов. Криминальная деятельность психопатов идет на
спад после 40 лет, подтверждая предположение о том, что психопаты «выгорают» с возрастом.
В целом, исключая некоторые расстройства личности, ни одна из основных категорий, признаваемых психиатрией, не имеет сколько-нибудь сильной связи со склонностью к насилию. Хотя существует повышенный риск при шизофрении, в частности при параноидной шизофрении, следует еще раз подчеркнуть, что только небольшая часть пациентов с этим заболеванием являются агрессивными и что расстройства как такового недостаточно для объяснения актов насилия. Возможно, в дальнейшем следует больше сосредоточиться на специфических симптомах . или состояниях, а не на глобальных диагностических категориях, и на их взаимодействии с личными и социальными факторами. Существует также потребность в долгосрочных проспективных исследованиях случайных выборок людей с психическими расстройствами, которые не попали в поле зрения системы уголовного правосудия.
По поводу того, что пенитенциарные учреждения представляют собой неблагоприятную среду, разногласий практически нет. Физические условия содержания часто не соответствуют нормам, социальные условия провоцируют скуку, не исключают унижений, эксплуатации и насилия со стороны других закЛюченных и персонала. Ньютон (Newton, 1980) ссылается на некоторые американские исследования, показывающие, что лишение свободы является негуманным и оказывает «разрушительное» влияние на здоровье и чувство собственного благополучия заключенных. Например, по данным проведенного в 1973 г. инспектирования федеральных тюрем и тюрем штатов для взрослых, убийства произошли примерно в трети из них, что дает показатель распространенности около 74,4 на 100 000 человек по сравнению с 9,4 для населения США. Также сообщается, что гомосексуальные изнасилования — обычное явление в амер'иканских тюрьмах, хотя Уолкер (Walker, 1983) полагает, что в тюрьмах Великобритании они случаются нечасто.
Среди заключенных более всего рискуют стать объектом насилия осужденные за растление малолетних или плохое обращение с ребенком, информаторы («стукачи»), осужденные за мошенничество или те, кто не в состоянии отдать долги, сделанные в тюрьме (Walker, 1983). Это указывает на существование особой культуры обитателей тюрем со своими собственными «законами». Социологи, в частности, рассматривают процессы тюремизации (pnsomsatzon), которые Клеммер (Clemmer, 1958) определил как «принятие в большей или меньшей степени нравов, обычаев, законов и основной культуры исправительного учреждения». Эта неформальная субкультур# обычно рассматривается как противостоящая формальной организации тюрьмы и ее целям и как характеризующаяся жестокостью, солидарностью заключенных и манипулятивными отношениями с персоналом. Согласно одному предположению, эта система является средством совладания с «муками заключения» или средством их нейтрализации. Эти муки вызваны лишением свободы, имущества и услуг, гетеросексуальных отношений, автономии и личной безопасности (Sykes, 1966). Сообщения об увеличении числа нападений, коллективных беспорядков и взятия заложников в течение последних двух десятилетий указывают на то, что личная безопасность заключенных изменилась к худшему (Bartollas, 1990).
Существуют и другие модели истоков тюремной культуры (Thomas, 1977). Модель депривации рассматривает ее как реакцию на негативное влияние тюремной организации, а модель импортирования выступает за влияние опыта дотюремной социализации. Например, в некоторых американских тюрьмах случались столкновения банд, отражавших вражду между расовыми группировками в районах, откуда поступили в тюрьму преступники (Bartollas, 1990). Томас (Thomas, 1977) пришел к выводу, что и тюремный, и дотюремный опыт влияет на тюремизацию, прижем первый объясняет ббльшую часть дисперсии.
Впрочем, понятие тюремизации подвергалось критике с разных сторон, и Замбле и Порпорино (Zamble, Porporino, 1988), считают, что тюремизацию полезнее всего было бы рассматривать как аттюдинальный фактор, который совместно с другими переменными определяет адаптацию к тюрьме. Понятие тюремизации также игнорирует индивидуальные различия реакций на лишение свободы. Например, предполагается, что тюремизация ухудшает адаптацию и социализацию после выхода из тюрьмы, но Гудстейн (Goodstein, 1979) указала на то, что «помещение в учреждение закрытого типа» представляет собой альтернативную адаптацию, включающую подчинение формальной тюремной культуре, которая в той же мере может вести к проблемам после освобождения. Она установила, что большинство заключенных испытывали больше всего проблем во время первых двух месяцев после освобождения, по сообщениям сотрудников службы надзора за условно-досрочно освобожденными, но в то же время наиболее «тюремизированные» приспосабливались легче всего. Эти различия исчезали к третьему месяцу, очевидно в результате влияния ближайшего окружения.
Депривация во время пребывания в тюрьме неизбежна, но некоторые ее последствия могут быть смягчены за счет режима заключения. Управленческий стиль влияет на поведение заключенных. Дэвис и Бержес (Davies, Burgess, 1988), например, нашли, что количество дисциплинарных взысканий, занесенных в досье заключенных, в английской тюрьме существенным образом варьировало в зависимости от характеристик начальника тюрьмы. Кук (СооКе, 1991) сообщает, что количество случаев применения насилия заключенными варьирует в зависимости от факторов режима, таких как общение между тюремным персоналом и заклоченными, профессионализм тюремных служащих, допуск посетителей и уровень стимуляции. Такими факторами может объясняться достижение успеха в снижении насилия у упорно не подчиняющихся требованиям режима заключенных в спецотделении Барлинни (Barlinnie Special Unit) шотландской тюрьмы, в котором реализуются принципы терапевтической общины.
Остается неясным, какие характеристики тюремной среды оказывают наибольшее влияние на поведение заключенных. Предпринимались попытки охватить организационные характеристики понятием социального климата, наиболее популярным средством измерения которого является Шкала среды исправительных учреждений (Correctional Institutions Environment Scale) (CIES: Moos, 1975), Шкала оценивает восприятие служащими и заключенными трех постулированных измерений (dimensions): взаимоотношений, личного развития и поддержания системы, каждое из которых имеет три компонента. Тем не менее CIES критиковали за то, что она больше отражает индивидуальные вариации, чем организационные свойства (Thornton, 1987b), а Райт (Wright, 1985) отмечает отсутствие данных о ее валидности. Райт предполагает, что социальный климат тюрьмы находит отражение в восьми главнейших вопросах, которые осознаются и переживаются всеми заключенными (неприкосновенность частной жизни, безопасность, структура, поддержка, эмоциональная обратная связь, социальная стимуляция, активность, свобода). Он сконструировал опросник, структура которого поддерживает валидность этих факторов и который обладает умеренной чувствительностью к индивидуальным вариациям. Торнтон (Thornton, 1987b) оспаривает предположение о том, что окружающие условия оказывают однородное и однонаправленное влияние на заключенных. Он приводит аргументы в пользу оценки взаимодействий между заключенными и факторами режима и описывает валидизацию Вопросника приспособления к режиму содержания под стражей (Custodial Adjustnzent Questionnaire). Он измеряет аттитюды к тюремным служащим и заключенным, а также институционную девиантность и эмоциональный дистресс, которые связаны с характеристиками заключенных и характеристиками режима.
Полученные данные о психологических эффектах заключения допускают только ограниченные обобщения. Не говоря уже о методологических проблемах и явно недостаточном количестве контролируемых лонгитюдных исследований (Bukstel, kilmann, 1980; Zamble, Porporino, 1988), большинство исследований в этой области носили атеоретический характер, не позволяющий строго определить, какие именно аспекты заключения вероятнее всего влияют на определенных людей. Например, кроме лишений, связанных с заключением как таковым, ослабление потенциала (debilitation) может вызываться в результате уменьшения воспринимаемого контроля над окружением, стигмы заключенного или приговора к заключению на неопределенный срок. Влиянйе таких переменных будет зависеть от индивидуальных- обстоятельств, делая одинаковые для всех эффекты заключения маловероятными.
Воздействие заключения на психическое здоровье, по-видимому, в еще большей степени отражает взаимодействие «человек х ситуация», хотя практически нет данных о факторах, влияющих на уязвимость. Единичные сообщения касались острых психотических реакций в тюрьмах («тюремных психозов»), и Хитер (Heather, 1977) нашел, что пятая часть выборки отбывающих пожизненное заключение в шотландских тюрьмах сообщила о психотических симптомах при заполнении Опросника «Мании—Симптомы—Состояния» (Delusions—Symptoms— States Inventory). Клиншески значимые симптомы были найдены у 59 0/0. Тейлор (Taylor, 1986) также выявил высокий уровень заболеваемости психиатрическими расстройствами, включая психозы, о которых сообщалось в личных делах преступников, отбывающих пожизненное заключение в лондонских тюрьмах. Раш (Rasch, 1981), однако, не нашел психотических симптомов у аналогичной выборки в Берлине, хотя отметил, что половина выборки характеризовалась «нарушениями» по результатам психологических тестов. Насколько тяжелые расстройства отражают воздействия ситуации, неизвестно. Арболеда-флорес (ArboledaFlorez, 1980) описывает четырех убийц, у которых развились симптомы, связанные с их преступлениями, такие как видения жертвы, флэшбеки, депрессия. Он предполагает, что это частные случаи психогенного психоза, которые могут быть в настоящее время также идентифицированы как симптомы ПТСР (kruppa, 1991).
МИЗЩИИ.
Риск суицида также более высок на ранних стадиях заключения. В Америке уровень суицидов среди заключенных на 50 0/0 выше, чем в общей популяции (Newton, 1980), и в четыре раза превышает соответствующий уровень в Великобритании (Dooley, 1990). Национальное обследование американских местных тюрем в 1979 г. выявило уровень самоубийств, в 16 раз превышающий уровень самоубийств среди городского населения (Hayes, 1983). Эти сравнения должны приниматься с осмотрительностью, так как с демографической точки зрения заключенные несопоставимы с общим населением. Тем не менее Дули (Dooley, 1990) отмечает, что уровень самоубийств в тюрьмах почти удвоился в период между 1972 и 1987 гг. Самый высокий уровень самоубийств зарегистрирован среди лиц, находящихся в тюрьме предварительного заключения, убийц и приговоренных к пожизненному заключению, большинство случаев самоубийства приходилось на первый год отбывания наказания. Хейс (Hayes, 1983) установил, что заключенные в местных тюрьмах были особенно уязвимы в течение первых 24 часов заключения под стражу. Более 900/0 самоубийств в тюрьме совершаются путем повешения. Членовредительство может иногда означать суицидальную попытку, но такое поведение является эндемическим для тюремной популяции. Ньютон (Newton, 1980) ссылается на исследование канадской школы производственной подготовки для делинквентов (девушек), в которой 860/0 девушек практиковали нанесение себе неглубоких ран, вероятно, в целях отождествления с культурой заведения. Однако членовредительство может выполнять различные функции, такие как снятие напряжения или поиск стимуляции, и, кроме того, входит в набор критериев для пограничного расстройства личности.
Поперечно-срезовые сравнения заключенных с длительными сроками на разжых стадиях заключения не показали серьезного ухудшения психологического благополучия. Банистер с коллегами (Banister et al., 1973) нашли некоторое ухудшение перцептивно-моторной скорости, не связанное с функцией возраста, но интеллектуальная деятельность оставалась без изменений. Последнее было подтверждено Рашем (Rasch, 1981). Сообщалось и о некоторых личностных изменениях, например более жестоком отношении к самому себе (Banister et al., 1973; Sapsford, 1983; Zamble, Porporino, 1988). Сапсфорд (Sapsford, 1983) предполагает, что изменения следует искать прежде всего в мотивации и аттитюдах. Он считает, что интерес к внешнему миру остается неизменным, но снижается включенность в него. Хотя некоторые заключенные становятся более замкнутыми, общего усиления апатии не отмечается. Восприятие временной перспективы сокращается, хотя в исследованиях более коротких сроков заключения Ландау (Landau, 1976) установил, что восприятие будущего изменяется с приближением освобождения.
![]()
ГЛАВА 1 1
Сексуальные отклонения и половые преступления
Сексуальное поведение варьирует в зависимости от времени и культуры, но роль семьи как социальной ячейки диктует нормы гетеросексуальных отношений между супругами, следование которым стремятся обеспечить религия и закон. Глобальная категория «половых преступлений», таким образом, охватывает не только принуждение и эксплуатацию жертв против их воли, но и преступления «без жертв», включающие в некоторых странах действия между добровольно вступившими в супружеские отношения партнерами. В этой главе рассматриваются в основном преступления с жертвами, такие как изнасилование и растление малолетних.
До 1960-х гг. криминология уделяла лишь спорадическое внимание половым преступлениям. Социологи фокусировались в основном на коллективных формах отклонений, таких как гомосексуальные сообщества или проституция (Gargon, 1974). Преступления с жертвами считались областью интересов психологов и психиатров. Акценты сместились после того, как произошел всплеск интереса к этой категории преступлений, связанный главным образом с феминистскими взглядами, согласно которым изнасилование — это продукт культуры, т. е. скорее насильственное, чем половое преступление. Однако психологические исследования, касающиеся половых преступлений с жертвами, также стали развиваться, в основном под влиянием интереса к методам вмешательства. Прежде чем мы займемся их рассмотрением, следует разграничить половые девиации и половые преступления.
Что определять как половое преступление и что — как отклоняющееся сексуальное поведение, зависит от изменяющихся общертвенных стандартов. Эту зависимость, вне сомнения, иллюстрирует исключение в 1960-х гг. гомосексуального поведения из числа уголовно наказуемых деяний и его последующая «депаталогизация» в психиатрии. Как отмечает Кристин-Браун (Christie-Brown, 1983), расплывчатые границы того, что попадает в область «анормального» сексуального поведения, указывают на скорее социальную, чем медицинскую основу определения половых девиаций. Тем не менее некоторые сексуальные увлечения (semal interests) считаются дисфункциональными и с психологической, и с социальной точек зрения.
![]()
Половые девиации традиционно описываются в терминах объекта, способа, частоты или контекста удовлетворения полового влечения; девиация рассматривается как отклонение от нормы генитального полового акта между зрелыми разнополыми партнерами. Психиатрия XIX в. характеризовала «неестественные» половые акты как «перверсии», но в DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987) предпочтение отдается термину парафиия, который означает отклонение фат) в том, к чему человек испытывает влечение (philia). Парафилии отграничиваются от сексуальных дисфункций и рассматриваются как повторяющиеся интенсивные сексуальные желания и фантазии, включающие нечеловеческие объекты, страдания и унижение себя или партнера, детей или других людей, не дававших на то своего согласия. Диагноз «парафилия» ставится в тех случаях, когда желания (влечения) или фантазии испытывались по меньшей мере на протяжении шести месяцев и человек действовал в соответствии с ними или испытывал страдания от них. Основные виды парафилий представлены в табл. 11.1, а дополнительными примерами являются телефонная скатология (похоть), некрофилия (трупы), зоофилия (животные), копрофилия (фекалии) и клизмафилия (клизмы). Изнасилование не определяется как парафилия, но сексуальный садизм включает в себя парафилическое изнасилование (раптофилия или биастофилия) и убийство ради возбуждения похоти (эротофонофилия: Мопеу, 1990). Абель и Руло (Abel, Rouleau, 1990) считают, что в состав парафилий необходимо включать и изнасилование, так как насильники часто сообщают о циклах компульсивных влечений и фантазиях на тему изнасилования, которые они осуществляют.
Таблица 11.1
Виды парафилии (из DSM-lll-R)
|
Категория |
Характеристики |
|
Эксгибиционизм |
Демонстрация гениталий незнакомым людям, иногда сопровождаемая мастурбацией, попытки непосредственного сексуального контакта не предпринимаются |
|
Фетишизм |
Использование неживых объектов, таких как женское нижнее белье или обувь, часто связанное с мастурбацией, которое заключается в их хранении, поглаживании или обнюхивании; иногда требование от сексуального партнера носить такой объект |
|
Фроттеризм |
Выражается в том, чтобы дотрагиваться и тереться о человека против его согласия, обычно в людном месте; возбуждение возникает от контакта |
|
Педофилия |
Половая активность в отношении ребенка препубертатного возраста со стороны человека 16 лет или старше и как минимум на 5 лет старше ребенка; такая активность может ограничиваться прикосновениями и поглаживаниями, но может включать в себя фелляцию, куннилингус, вагинальную или анальную пенетрацию |
|
Сексуальный мазохизм |
Подвергание себя оскорблениям, побоям, связыванию или иным способам причинения страданий со стороны партнера или причинение себе боли для сексуального возбуждения |
девиации
![]()
|
Категория |
Характеристики |
|
Сексуальный садизм |
Действия, при которых психологическое или физическое страдание жертвы является сексуально возбуждающим, включая полную власть над партнером или пытку |
|
Трансвеститский фетишизм |
Переодевание в женскую одежду, часто полностью, как это делает женщина, хотя основные предпочтения остаются гетеросексуальными; отличается от транссексуализма, при котором человек хочет приобрести характеристики противоположного пола и не испытывает сексуального возбуждения от переодевания |
|
Вуайеризм |
Подглядывание за ничего не подђзревающими людьми, которые обнажены, раздеваются или занимаются сексом |
Как отмечалось в DSM-III-R, большой коммерческий рынок парафилической порнографии и соответствующих принадлежностей указывает на то, что некоторые виды парафилии широко распространены и могут составлять часть «сексуальных игр» между парами, согласными на это (Gosselin, Wilson, 1980). Сообщения о сексуальных фантазиях добровольных выборок женщин (Hariton, Singer, 1974) и мужчин (Crepault, Couture, 1980) также показывают, что люди часто фантазируют во время полового акта, причем иногда о таких вещах, которые могли бы быть расценены как парафилии, если бы были реализованы. Их связь с общей способностью к фантазированию и положительные аттитюды к сексу предполагают, что «девиантные» фантазии сами по себе не являются симптомом психопатологии (Hariton, Singer, 1974). Дисфункция лежит, скорее, в эмоциональных и социальных последствиях совершаемых в соответствии с ними действий как для не давших на то согласия жертв, так и для самих нарушителей норм. Поэтому сомнительно, что многие примут бескомпромиссный редукционизм Мани (Мопеу, 1990), который утверждает, что все парафилии являются «заболеваниями мозга».
Классификация DSM-III-R обеспечивает стандартизованную номенклатуру, но она основывается на вводящей в заблуждение концепции раздельных синдромов. Обзоры показывают, что множественные парафилии являются скорее правилом, чем исключением, и могут отражать общий дефицит контроля над девиантным сексуальным поведением, а не наличие специфических дисфункций (Abel, Rouleau, 1990).
Сексуальное возбуждение является широким психологическим конструктом, обозначающим субъективные и физиологические изменения, предшествующие половому акту (Dekker, Everaerd, 1989). Клиническая оценка лиц, совершивших половое преступление, обсуждается в главе 13, но оценка сексуального возбуждения занимает особое место в поведенческих исследованиях девиантного сексуального поведения и описывается здесь. Было разработано несколько основанных на самоотчетах методик оценки половых девиаций (Laws, 1984), но многие клиницисты с осторожностью принимают описания преступниками их девиантного поведения, которые могут искажаться из-за отрицания, нежелания обнаружить события, которые могут повлечь за собой судимость или увеличение срока заключения, или же из-за неспособности выделить главные факторы, контролирующие
![]()
поведение. Поэтому были разработаны более объективные методы оценки девиантного сексуального возбуждения (Laws, 0sborn, 1983).
Хотя самооценки испытанного Сексуального возбуждения дают единственный в своем роде показатель возбуждения, наиболее широко применяемым методом измерения является фаллопетизмография (ФПГ), обеспечивающая запись набухания полового органа в ответ на релевантные сексуальные стимулы в лабораторных условиях. Логическое обоснование этой оценки таково: (1) сексуальное возбуждение является решающим в цепи событий, ведущих к сексуальному поведению; (2) эрекция полового члена является наиболее надежным и специфическим показателем сексуального возбуждения у мужчин; (З) более сильное возбуждение на определенную категорию людей или деятельности указывает на сексуальное преДпочтение этой категории. ФПГ много занимался Фройнд (Freund, 1967; Freund et al., 1972), который использовал стеклянный цилиндр, закрытый с одного конца губчатым резиновым кольцом, в которое вставляется пенис, а реакция эрекции регистрировалась по изменению объема воздуха в цилиндре. Это устройство, возможно, является наиболее точным, но чаще используется измерение изменения окружности полового члена с помощью тензодатчика либо устройства, напоминающего металлический кронциркуль (metal caliper-like device), или же с помощью заполненной ртутью резиновой трубки, окружающей пенис (Laws, 0sborn, 1983). Последнее устройство регистрирует изменение сопротивления слабому электрическому току, по мере того как пенис увеличивается в объеме от состояния вялости до состояния полной эрекции, а выходной сигнал усиливается в виде непрерывной полиграфической записи.
Сексуальными стимулами могут быть слайды, например изображения обнаженных людей различного возраста и пола, или короткие видеозаписи половых актов, совершаемых с обоюдного согласия, либо изнасилования и применения несексуального насилия в случае сексуальной агрессии. Фильмы вызывают наиболее сильную реакцию, однако проблемы, связанные с получением соответствующих порнографических изображений (и этические в том числе), привели многих клиницистов к работе с аудиокассетами, которые проще изготавливаются и адаптируются к конкретному клиенту. Реакции обычно регистрируются в виде процента полной эрекции, хотя некоторые авторы являются сторонниками других отображений (см.: Barbaree, 1990). Проблемы при оценке возникают из-за того, что у некоторых мужчин не возникает набухания полового члена в лабораторных условиях и реакция эрекции частично находится под сознательным контролем (Laws, Rubin, 1969). Следовательно, некоторые клиенты могут пытаться подавить реакцию, возникающую на девиантные стимулы, перенося фокус внимания или оперируя образами воображения. Это также часто используется для оценки самоконтроля, когда клиенту дается инструкция подавлять эрекционную реакцию.
Хотя фаллоплетизмограмма высоко коррелирует с известными девиантными увлечениями (interests), она оценивает только один компонент сексуального возбуждения, а не сексуальное поведение как таковое и, вбзможно, приносит наибольшую пользу при распознавании и контролировании мишеней изменения у хорошо мотивированных клиентов. Применение ФПГ как «сексуального детектора лжи» или в целях прогнозирования опасности неоправданно, поскольку ее предсказуемостная полезность не была ясно продемонстрирована и ведутся спорывокруг пределов ее использования (Над, 1990; Simon, Schouten, 1991). Способ-
и лица, совершающие их
![]()
ность ФПГ распознавать насильников в настоящее время находится под вопросом (Blader, Marshall, 1989), хотя считается, что она представляет собой валидный метод оценки педофилических увлечений. Халл, Проктор и Нельсон (Hall, Proctor & Nelson, 1988) пришли к выводу, что ФПГ-реакции на педофилические стимулы не разграничивали преступников, жертвами сексуального нападения которых были взрослые люди, и преступников, жертвами которых стали несовершеннолетние, но Квинси и Лоз (Quinsey, Laws, 1990) доказывают, что эти результаты могут быть случайными и могут отражать неправильную подборку стимульного материала. В своем обзоре Саймон и Шутен (Simon, Schouten, 1991) подчеркивают, что остается ряд теоретических и технических моментов, которые следует разрешить, чтобы можно было с уверенностью говорить о валидности и клинической полезности оценок сексуального возбуждения методом ФПГ.
Половые преступления определяются в основном по применению силы, большой разнице в возрасте, нарушению близких отношений и нарушению общественного порядка, но их связь с клиническими понятиями половых девиаций является косвенной. Не все парафилические действия противозаконны, и не все сексуальные преступления — парафилии. Растление малолетних или половая агрессия в отношении ребенка (sexual abuse), например, описывают антисоциальные акты, которые вовсе не обязательно являются признаками педофилии, в то время как термин «сексуальное нападение» (semal assault) используется очень широко и относится ко всем актам с сопротивляющимися жертвами, а не к какой-либо конкретной девиации. Более того, некоторые половые преступления могут не подпадать под эту рубрику в официальной статистике (см. табл. 112). «Непристойные» телефонные звонки (телефонная скатология), например, могут подпадать под действие законов о средствах связи или расцениваться как цоровство (электроэнергии!). Непристойное обнажение (эксгибиционизм) может подпадать под действие закона о бродяжничестве или постановлений касательно оскорбления общественной нравственности, а подглядывание (вуайеризм) может быть расценено как нарушение спокойствия. Хотя более серьезные действия с жертвами являются определенно половыми преступлениями, последствия преступлений, при которых не было контакта, также далеко не всегда незначительны. Например, непристойные телефонные звонки, при которых молчат в трубку («тяжело дышат»), оскорбления и угрозы могут спровоцировать у пострадавшего серьезный дистресс.
Юридические определения половых преступлений варьируют от юрисдикции к юрисдикции и за последнее столетие претерпели значительные изменения. Например, изнасилование обычно определяется как «вступление в половую связь с женщиной с применением насилия и против ее воли», но некоторые формулировки включают сексуальные действия в дополнение к вагинальному сексу, в то время как в США и Канаде выдвигались предложения объединить все формы сексуального нападения под одним юридическим термином. Чаппел (Chappell, 1989) отмечает, что традиционные определения изнасилования часто истолковывались таким образом, чтобы перенести акцент с применения силы на отсутствие согласия, в результате чего бремя основной работы перекладывалось на обвинение, которое должно было доказать сопротивление со стороны пострадавшей. Это было
1 1 .
![]()
мишенью для критики со стороны феминисток. В Великобритании супружеское изнасилование только недавно было юридически признано преступлением.
Таблица 11.2
Подлежащие учету половые преступления, зарегистрированные полицией Англии и Уэльса в 1979 и 1988 гг.
|
Категория преступлений |
Преступления в 1979 г. |
Преступления в 1988 г. |
Относительное изменение |
|
Содомия |
632 |
951 |
+50,5 |
|
Непристойное нападение на мужчину |
2385 |
2512 |
+5,3 |
|
Непристойные действия между мужчинами |
1333 |
1306 |
-2,0 |
|
Изнасилование |
1170 |
2855 |
+144,0 |
|
Непристойное нападение на женщину |
11834 |
14112 |
+19,0 |
|
Незаконные половые сношения с девочкой до 13 лет |
248 |
283 |
+14,1 |
|
Незаконные половые сношения с девушкой до 16 лет |
3558 |
2552 |
-28,3 |
|
Инцест |
334 |
516 |
+54,5 |
|
Сводничество |
107 |
201 |
+87,9 |
|
Похищение другого лица |
91 |
277 |
|
|
Бигамия |
151 |
93 |
-38,4 |
|
Грубая непристойность по отношению к ребенку |
Нет данных |
871 |
|
|
Всего |
21843 |
26529 |
|
|
Источник: Эти данные основаны на сведениях, опубликованных в Cnmmal Statistics England and Wales 1988 (Ноте 0ffrce, 1989), и адаптированы к целям данного издания с разрешения Контролера государственной канцелярии Ее Величества (Лондон). |
|||
Половые преступления составляют только малую долю официально зарегистрированных преступлений. В 1998 г. они составляли 0,7 % учитываемых преступлений в Англии и Уэльсе, и менее 29/0 преступников были осуждены (Ноте 0ffice, 1989). За последние три десятилетия число таких преступлений во всех странах существенно возросло, но общий уровень прироста ниже, чем уровень роста преступности в целом, за примечательным исключением изнасилований. В Англии рост половых преступлений отмечался в течение 1960-х гг., затем, в 1970-х гг., на-
и лица, совершающие их
![]()
блюдался их спад, так что суммарное количество таких преступлений в 1983 г. оказалось на самом деле ниже, чем в 1963 г. (Bottomley, Pease, 1986). Таблица 11.2 показывает, что суммарное количество преступлений в 1988 г. было примерно на 22 0/0 больше, чем в предыдущее десятилетие. Если не учитывать удвоившегося числа похищений, которое все равно осталось небольшим, наиболее заметен рост количества изнасилований, который отражает почти шестикратное увеличение их количества с 1963 г. (когда было зарегистрировано всего 422 случая).
В официальной статистике половых преступлений, тем не менее, их истинная распространенность недооценивается в большей степени, чем распространенность других преступлений, так как пострадавшие реже сообщают о преступлениях такого рода. В некоторых случаях это происходит из-за тривиального характера преступления; о серьезных преступлениях может не сообщаться, так как жертва слишком молода, запугана преступником, находится с ним в родственных отношениях или не хочет получить дополнительный стресс, общаясь с полицией по этому поводу, которая может «обвинить во всем жертву». Рост числа изнасилований по статистическим данным в Англии, возможно, обусловлен частичными изменениями в полицейских процедурах, касающихся допроса жертв изнасилования, произошедшими в 1985 г. Эти изменения способствовали тому, что жертвы половых преступлений стали чаще обращаться в полицию. Даже при этих условиях, по данным Британского опроса о преступности 1988 г., только пятая часть изнасилований и сексуальных нападений была зарегистрирована полицией (Mayhew, Elliott & Dowds, 1989), причем процессы по поводу установленных полицией половых преступлений только в 100/0 случаев завершились обвинительным приговором (Lloyd, Walmsley, 1989).
Опросы о виктимизации также могут давать заниженные оценки, поскольку в них исключаются маленькие дети, а различающиеся выборки, методы опроса и определения сексуальных преступлений приводят к широкому разбросу оценок распространенности. Процент взрослых американок, сообщающих о том, что они подверглись изнасилованию или попытке изнасилования, колеблется от 9 0/0 (kilpatrick et al., 1985) до 4496 (Russel, 1984); из национальной выборки американских студенток 28 0/0 сообщили о подобном опыте (koss, Gidycz & Wisniewski, 1987). Цифры, касающиеся половой агрессии в отношении ребенка, также сильно варьируют. Финкелхор приводит (Finkelhor, 1986) оценки в Северной Америке, которые варьируют от 5 до 6296 для женщин и от 3 0/0 до 31 % для мужчин. Другим преступлениям уделяется меньше внимания, но на основе данных Британского опроса о преступности 1982 г. Пиз (Pease, 1985) примерно подсчитал, что 10 0/0 женщин, имеющих личный телефон, пострадали от непристойных звонков.
Данные самоотчетов также указывают на более высокий уровень виктимизации по сравнению с тем, что предлагают официальные данные. В выборке студентов (koss et al., 1987) 80/0 мужчин признались в совершении изнасилования или в попытке изнасилования, а в анонимном опросе заключенные насильники и осужденные за растление малолетних сообщили о количестве совершенных преступлений, которое в два, а то и в пять (!) раз превышало то количество, в котором они официально признались (Groth, Longo & Mcadin, 1982). Абель и Роули (Abel, Rouleau, 1990) установили, что пациенты с сексуальными отклонениями из их добровольной клинической выборки объемом 561 человек признали в сумме 291 737 совершенных ими актов парафилии, в 195 407 из которых были жертвы.
![]()
Основную массу преступлений составляли эксгибиционизм, фроттаж или вуайеризм; 126 насильников сообщили о совершенных ими в совокупности 907 изнасилованиях.
Таким образом, существенная доля виктимизации не попадает в поле зрения официальных инстанций. Репрезентативность выборок заключенных, на которых основывается значительная часть исследований, неизвестна, и обобщения относительно демографических характеристик лиц, совершивших половые преступления, являются предварительными. Амир (Amir, 1971) установил, что большинство из 646 насильников, которые были арестованы в Филадельфии в 1958 и 1960 гг., были молодыми, чернокожими, холостыми, родом из кварталов центральной части города с низким социоэкономическим статусом. Добровольцы, которых обследовали Абель и Роули, были описаны ими как сходные с общей популяцией в социоэкономическом статусе, этнической принадлежности и уровне образования. Хотя его выборка вряд ли была случайной, Адлер (Adler, 1985) установил, что сексуальная агрессия по данным самоотчетов в общинной выборке не была связана с классовой принадлежностью семьи, уровнем образования и престижностью района проживания.
Согласно официальным данным, среди лиц, совершивших половые преступления, явно преобладают мужчины, а женщины составляют лишь 2 0/0 осужденных. В случаях, когда такие преступления совершают женщины, жертвой чаще всего является ребенок, и во многих случаях женщина обвиняла в соучастии мужчину (0'Connor, 1987). По сравнению с лицами, совершившими имущественные преступления, лица, совершившие половые преступления, чаще попадают в категорию старше 21 года. Однако более половины таких преступников начинают криминальную карьеру уже в подростковом возрасте, и подростки, возможно, ответственны за более чем треть случаев половой агрессии в отношении ребенка (Groth, 1977; Davis, Lietenberg, 1987; Perkins, 1987).
Ранние исследования свидетельствовали об относительно низком уровне соверШ<НИЯ новых половых преступлений после отбывания срока наказания. Сутхил и Гиббенс (Soothill, Gibbens, 1978) поставиЛи этот вывод под вопрос, отмечая, что периоды последующего наблюдения в 3—5 лет были слишком короткими. В проведенном в Англии долгосрочном последующем наблюдении за вышедшими на свободу преступниками, отбывавшими заключение за половые преступления, они нашли, что по прошествии нескольких лет многие совершили повторное преступление, и почти четверть совершила такие преступления к концу 22-го года наблюдения. Долгосрочные последующие наблюдения этой категории преступников в Норвегии, длившиеся 9 и 13 лет, показали, что примерно пятая часть бывших заключенных впоследствии совершила половые преступления (Grunfeld, Noreik, 1986). Уровень рецидивов был самым высоким для насильников (2296) и самым низким для осужденных за растление малолетних (1096). Однако последний обзор выявил значительные расхождения в оценках рецидивизма у лиц, соверщивших половые преступления (Furby, Weinrott & Blackshaw, 1989). Какие-либо обобщения сделать пока невозможно, хотя есть некоторые указания на то, что гомосексуальные педофилы чаще совершают новые преступления, чем преступники, осужденные за инцест.
Теории сексуальной девиантности
![]()
При наличии данных о множественных парафилиях можно было бы предположить, что сексуальные преступники являются «универсалами» («generalists»), т. е. совершают не один, а несколько видов половых преступлений. Тем не менее имеющиеся данные скорее указывают на специализацию. В клиническом исследовании взрослых и несовершеннолетних преступников Грот (Groth, 1977) обнаружил постоянство в типе жертвы и типе преступления, а Грюнфельд и Норик (Grunfeld, Noreik, 1986) отметили тенденцию к совершению последующих преступлений, аналогичных первому. Халл и Проктор (Hall, Proctor, 1989) также обнаружили подтверждение специализации. У «сексуальных психопатов», выписанных из государственной больницы, предыдущие аресты за половые преступления против взрослых предсказывали последующие преступления того же рода, а аресты за преступления против детей предсказывали последующие преступления именно против детей.
Впрочем, совершение половых преступлений может коррелировать
со склонностью к совершению более широкого спектра преступлений. Сутхилл, Вэй и
Гиббенс (Soothill, Way & Gibbens, 1980) сравнивали криминальные карьеры
осужденных за совершение изнасилования и оправданных в том же преступлении в
Англии в 1961 г. Две группы были очень похожи между собой. Более половины имели
и предыдущие, и последующие уголовные судимости, особенно за половые и
насильственные преступления. Аналогично, Грюнфельд и Норик (Grunfeld, ![]() reik,
1986) установили, что половина насильников из их выборки имела предшествующие
судимости. Халл и Проктор (Нан, Proctor, 1989) также нашли, что в их выборке
заключенных предыдущие половые преступления против взрослых предсказывали
последующие неполовые преступления, включая насильственные, однако это не было
столь очевидным в отношении преступлений против детей. Таким образом,
получается, по крайней мере для насильников, что их преступления часто связаны
с общей криминальностью.
reik,
1986) установили, что половина насильников из их выборки имела предшествующие
судимости. Халл и Проктор (Нан, Proctor, 1989) также нашли, что в их выборке
заключенных предыдущие половые преступления против взрослых предсказывали
последующие неполовые преступления, включая насильственные, однако это не было
столь очевидным в отношении преступлений против детей. Таким образом,
получается, по крайней мере для насильников, что их преступления часто связаны
с общей криминальностью.
Объяснения девиантного сексуального поведения должны охватывать не только истоки и устойчивость девиантных увлечений (interests), но и условия, при которых люди действуют в соответствии с этими увлечениями. Поскольку сексуальная девиантность принимает различные формы, нет единой теории, которая могла бы адекватно объяснить все аспекты, однако можно выделить четыре широких подхода, на которых базируются современные концепции.
Одно распространенное представление заключается в том, что сексуально отклоняющееся поведение отражает «сильное половое влечение». Некоторые компоненты возбуждения и оргазма действительно контролируются гормонами и физиологическими рефлексами, однако представление о половом «влечении» или «либидо» как биологической силе является вводящей в заблуждение фикцией. Циркуляция гормонов необходима для установления сексуального поведения у самцов (Heim, Hursch, 1979), но не для его поддержания. Существует общее согласие в том, что сексуальное возбуждение, сексуальное поведение и тендерная идентичность у людей во многом зависят от научения и ситуационных факторов.
![]()
Тем не менее, учитывая центральную эволюционную роль репродукции, генетические ограничения, налагаемые на научение, представляются правдоподобными. Квинси (Quinsey, 1984, 1986) предполагает, что некоторые категории сексуальных стимулов и реакций более «готовы» («prepared») к усвоению в силу их эволюционной значимости. Например, моложавая внешность ассоциируется с репродуктивно плодовитыми женщинами, а взрослые мужчины сексуально реагируют на женские характеристики в соответствии с градиентом возраста, демонстрируя некоторую реакцию на девочек препубертатного возраста (Freund et al., 1972). Следовательно, при определенных условиях дети могут становиться объектом сексуального интереса из-за их статуса готовых к усвоению (prepared leaming status) стимулов.
![]() Квинси (Quinsey, 1984) также отмечает исследования на
животных, свидетельствующие о тесной связи между нервными центрами агрессии и
сексуальной активности. Он предполагает, что сексуальное насилие могло бы легче
приобретаться вследствие генетических преимуществ принудительного спаривания в
истории эволюции. С другой стороны, Маршалл и Барбари (Marshall, Barbaree,
1990а), основываясь на тех же очевидных фактах, утверждают, что у мужчин есть
естественная склонность к сексуальной агрессии, которую молодые мужчины должны
научиться тормозить. Однако в этих предположениях игнорируется различие между
гневной и инструментальной агрессией, а последняя, как известно, не требует
специфического нервного механизма. Более того, хотя паттерны вегетативных
(автономных) реакций гнева и сексуального возбуждения частично совпадают,
эрекция и оргазм находятся под парасимпатическим контролем и, вероятно,
несовместимы с состояниями сильного гнева.
Квинси (Quinsey, 1984) также отмечает исследования на
животных, свидетельствующие о тесной связи между нервными центрами агрессии и
сексуальной активности. Он предполагает, что сексуальное насилие могло бы легче
приобретаться вследствие генетических преимуществ принудительного спаривания в
истории эволюции. С другой стороны, Маршалл и Барбари (Marshall, Barbaree,
1990а), основываясь на тех же очевидных фактах, утверждают, что у мужчин есть
естественная склонность к сексуальной агрессии, которую молодые мужчины должны
научиться тормозить. Однако в этих предположениях игнорируется различие между
гневной и инструментальной агрессией, а последняя, как известно, не требует
специфического нервного механизма. Более того, хотя паттерны вегетативных
(автономных) реакций гнева и сексуального возбуждения частично совпадают,
эрекция и оргазм находятся под парасимпатическим контролем и, вероятно,
несовместимы с состояниями сильного гнева.
Фрейд изначально рассматривал половые девиации как непреобразованные продолжения детской сексуальности, но впоследствии сделал особый упор на их защитной функции в избегании страха кастрации (см.: Rada, 1978; Howells, 1981; kline, 1987). Таким образом, в психодинамических подходах сексуальная девиантность истолковывается в аспекте неразрешенных эдипальных конфликтов и регрессии к более ранним точкам фиксации. Неспособность идентифицироваться с отцом может быть результатом доминирования матери, и мальчик может идентифицироваться с ней. Инцестуозные желания не всегда уходят, и страх кастрации может нарушить нормальные гетеросексуальные отношения. Гомосексуальная педофилия представляет собой инвертированный нарциссизм, преступник ищет незрелых сексуальных партнеров, которых он воспринимает как себе подобных и с которыми он обходится так, как он хотел бы, чтобы мать с ним обходиласы Утверждается также, что насильники, которые проявляют враждебность к женщинам, являются амбивалентными по отношению к своим матерям и демонстрируют анально-садистическую регрессию при стрессе. Опять-таки, при сексуа.ЛЬНОМ садизме обесценивание женщины предполагает формирование реакции против инцестуозных желаний, и фиксация на анальной стадии может объяснять взаимосвязь содомии с садистскими нападениями (kline, 1987).
В более поздних объяснениях основное внимание уделяется функциям эго и межличностным целям. Например, девиантные фантазии рассматриваются как защитные когнитивные структуры, которые представляют собой попытку спра-
Теории сексуальной девиантности
![]()
виться с детской травмой путем восстановления (проигрывания) раннего опыта или идентификации с агрессором и которые могут включать символическую месть. Грот и Бержесс (Groth, Burgess, 1977а) подчеркивают несексуальные мотивы девиантного сексуального поведения, рассматривая, например, изнасилование как результат гнева и потребностей во власти и контроле.
В теориях научения также подчеркивается роль фантазии и избегания гетеросексуальной тревоги, но особое значение придается связыванию сексуального возбуждения с неадекватными стимулами и неудачам в приобретении гетеросоциальных и гетеросексуальных навыков. Ганьон (Gagnon, 1974) излагает когнитивную точку зрения на социальное научение, отмечая, что научение способам достижения традиционного гетеросексуального конечного пункта во многом оставлено на волю случая, что предполагает двусмысленности и возможности для ошибки. Он также подчеркивает, что сексуальное взаимодействие зависит от многих несексуальных социальных правил, и рассматривает неподобающее сексуальное поведение в терминах сексуальных сценариев, в которые добавляются несексуальные элементы. Тем не менее в большинстве объяснений с позиции теории научения определяющая роль отводится не комициям, а опосредованию связи «S—R».
Мак-Гуайр, Карлайсл и Янг (McGuire, Carlisle & Young, 1965) предложили условно-рефлекторную модель половых девиаций. Они считают, что первоначальный возбуждающий опыт в последующем пополняется фантазиями для мастурбации и специфические сигналы достигают сексуальной валентности через сочетание с сексуальным возбуждением и оргазмом. Это, однако, не может объяснить, почему только некоторые стимулы достигают парафилического статуса. Лоз и Маршалл (Laws, Marshall, 1990) развивают эту теорию, предполагая, что определенные стимулы более готовы (prepared) к тому, чтобы стать условными раздражителями для сексуального возбуждения из-за их эволюционной релевантности, и что воображаемые акты развиваются в направлении девиантного поведения благодаря процессам дифференцированного подкрепления и наказания, а также доступности наблюдаемых и символических девиантных моделей.
Есть некоторые свидетельства того, что сексуальное возбуждение может быть условно-рефлекторным (Dekker, Everaerd, 1989), однако, хотя механизмы обусловливания могут правдоподобно объяснять усиление девиантных интересов, они не объясняют их истоков. Согласно этой модели, первоначальный опыт столкновения с любым готовым стимулом и его использование в качестве фантазии для мастурбации являются случайными, а вероятность приобрести девиантное условно-рефлекторное возбуждение, по-видимому, равна для всех людей. Однако данная модель не может объяснить выбор девиантных фантазий. Например, теория социального научения предсказала бы, что люди имеют тенденцию удерживаться от них благодаря механизму самонаказания. Вдобавок ко всему, эта модель не уделяет должного внимания осуществлению фантазий в открытом поведении.
Интерес к несексуальным аспектам сосредоточен вокруг гетеросоциальных навыков (Abel, Blanchard & Becker, 1978). Поскольку они необходимы для получения доступа к партнерам своего возраста и установления отношений, дефициты этих навыков могут привести к отрицательному подкреплению девйантных аттракций, которые не будут вызывать такого страха и которые, в случае безнака-
![]()
занности, могут также получить положительное подкрепление. Хауэлс (Howells, 1981) также отмечает значимость социальных когниций для девиантных интересов, но пытается связать девиантные сексуальные интересы с более широкой социально-когнитивной моделью, разработанной совсем недавно (Segal, Stermac, 1990). Однако кажется маловероятным, что приобретение сексуальных интересов, навыков и представлений, которое идет нарастающими темпами в пубертате, может быть понято в отрыве от развития социальных ожиданий и навыков саморегуляции, имеющих свои корни в более раннем детстве. Этот взгляд развивает Маршалл, который считает лиц, совершающих половые преступления, более уязвимыми к девиантным сексуальным реакциями из-за дефицита навыков, который является следствием родительского отвержения или родительских насильственных интеракций (Marshall, 1989; Marshall, Barbaree, 1990а). Он делает особый акцент на неспособности к развитию привязанностей и близости, в результате чего некоторые мужчины начинают искать близости в неадекватных сексуальных отношениях. Это можно также проинтерпретировать с точки зрения теории контроля, предложенной Хирши, поскольку тем, кто действует в соответствии со своими девиантными интересами, делая других жертвами своего поведения, вероятно, недостает сдерживающего действия более широких социальных связей.
Исторические и антропологические исследования выявили широкую кросс-культурную вариативность в распространенности насильственного секса и сексуальных отношений между взрослыми и детьми (Quinsey, 1984, 1986). Она указывают на то, что культурные факторы играют значительную роль в развитии такого поведения. Эта точка зрения поддерживалась социологами и социальными психологами в течение последних двух десятилетий. Основное внимание уделялось изнасилованию, так как согласно феминистской точке зрения изнасилование является выражением властных отношений между мужчиной и женщиной в обществе (Brownmiller, 1975; Russell, 1984; Herman, 1990). Как наиболее решительно заявляет Браунмиллер, изнасилование это «не больше и не меньше, чем сознательный процесс запугивания, благодаря которому все мужчины держат всех женщин в состоянии страха». С этой точки зрения изнасилование является насильственным преступлением, истоки которого кроются в связи маскулинности с силой, властью и превосходством, и если и не открыто, то неявно оправдывается как средство удержания женщин на подчиненных ролях.
Как и в случае насилия в семье, эта точка зрения привела к высокополитизированным дебатам, часто сопровождаемым «сентиментальной и эмоциональной риторикой» (Chappell, 1989) и заявлениями наподобие таких, как: «...все мужчины держат всех женщин в состоянии страха» (Brownmiller, 1975) или: «...нормальной мужской социализации уже достаточно» для сексуальной агрессии (Herman, 1990), — явно преувеличенными. Тем не менее утверждение, что изнасилование поощряется поддерживаемыми культурой аттитюдами, получило некоторое подтверждение в эмпирических исследованиях, которые рассматриваются ниже.
Демонстрация мужских гениталий в социально неадекватных условиях — одно из самых распространенных половых преступлений, которое, однако, остается плохо
Эксгибиционизм
![]()
понимаемым. В типичных случаях эксгибиционизм представляет собой поведение мужчин в присутствии женщин любого возраста, хотя некоторые мужчины склонны демонстрировать себя только детям. Во время демонстрации у мужчины возникает эрекция и он может начать мастурбировать, но это совсем не обязательно, и сексуальное удовлетворение может достигаться за счет фантазий, сопровождающих действие. Имеет ли преступник намерение шокировать или привлечь к себе внимание, неизвестно, но обычно это бесконтактное действие, которое вряд ли является прелюдией к нападению.
Некоторые клиницисты, тем не менее, высказывали предположение, что эксгибиционисты со временем переходят к совершению насильственных половых преступлений. Рут (Rooth, 1973) не находит никаких доказательств этому в досье эксгибиционистов, реализующих свое девиантное поведение, по меньшей мере, в течение двух лет, но другие сообщают, что около четверти эксгибиционистов становятся насильниками (Freund, 1990). Фройнд говорит о совместном проявлении эксгибиционизма и других девиаций: около трети эксгибиционистов признаются в вуайеризме и фроттаже. Аналогичные данные приводит Рут (Rooth, 1973), который предполагал наличие определенной связи с педофилией. Майерс и Бера (Myers, Berah, 1983) изучили эту возможность, сравнив эксгибиционистов и педофилов. Первые существенно отличались лучшими отношениями с родителями, более стабильной и успешной учебной и трудовой биографией, а также реже находились в состоянии алкогольного опьянения во время совершения преступления. Авторы заключили, что эти две группы несопоставимы. Напротив, Флор-Генри с коллегами (Flor-Henry et al., 1991) сообщает, что и эксгибиционисты, и педофилы обнаружили сходныеаномалии в ЭЭГ, проявляющиеся в нестабильности доминантного полушария и неустойчивости межполушарных связей. Они предполагают, что это может быть основным компонентом половой девиации, связанным с возможностью анормальной идеации, сочетающейся с оргазмической реакцией.
В обзоре имеющейся литературы Блэр и Ланион (Blair & Lanyon, 1981) находят несколько сравнений эксгибиционистов с недевиантной контрольной группой. Они делают предварительный вывод, что появление девиации связано со стрессом в ранней взрослости, что практически нет доказательств образовательных дефицитов и что большинство взрослых эксгибиционистов женаты, хотя и редко имеют удовлетворяющие их сексуальные отношения. Сравнения с лицами, осужденными за совершение других половых преступлений, такими как совершившие непристойные действия хулиганы (assaulters) и насильники (Rader, 1977) или педофилы (Myrah, Berah, 1983), также показывают, что эксгибиционисты имеют менее размытые психологические и социальные проблемы. Впрочем, Блэр и Ланион (Blair, Lanyon, 1981) нашли относительно согласованные данные, согласно которым эксгибиционисты отличаются робостью и недостатком социальных навыков, а также часто имеют судимости за совершение неполовых преступлений.
Удовлетворительной этиологической
теории эксгибиционизма не существует. Сторонники психодинамического подхода
рассматривают эксгибиционизм как ![]() отрицание страха кастрации и «магическое»
действие, которое удерживает запретные влечения к матери в узде. Некоторые
бихевиористы предполагают, что такое поведение может брать начало в
родительском подкреплении демонстрации
отрицание страха кастрации и «магическое»
действие, которое удерживает запретные влечения к матери в узде. Некоторые
бихевиористы предполагают, что такое поведение может брать начало в
родительском подкреплении демонстрации
![]()
гениталий в детском возрасте и что ему способствует развитие гетеросексуальной тревоги и избегания и, следовательно, отрицательное подкрепление девиантного действия. Данных для поддержки какой-либо из теорий недостаточно, но Блэр и Ланион (Blair, Lanyon, 1981) отмечают, что фантазия играет существенную роль в подержании эксгибиционистского поведения и именно она должна быть терапевтической мишенью.
Сексуальное нападение (в смысле оскорбления действием) обычно заключается в приставаниях или в кратких попытках войти в телесный контакт с объектом сексуального интереса (обнять, прижать и т. д.). Под сексуальной агрессией понимается использование угроз или силы для достижения согласия на половой акт или же агрессивное поведение в контексте сексуального возбуждения. Изнасилования различаются по социальному контексту и степени примененного насилия. Примерно в половине случаев жертвой является незнакомый человек, нередки также изнасилования «на свидании» (Dietz, 1878). Дальнейшее разграничение, оказавшееся в известной степени полезным, проводится между «скоротечным» изнасилованием («blit» таре), связанным с внезапным нападением обычно незнакомого лица, и изнасилованием, основанным на «доверии» («confidence» таре), при котором некто использует различные уловки, чтобы подобраться к жертве (Silverman et al., 1988).
Значительный процент изнасилований совершается парами либо группами. В одном исследовании изнасилований в. Филадельфии (Amir, 1971) 43 0/0 таких преступлений были совершены двумя или большим числом преступников. Райт и Вест (Wright, West, 1981) изучили все случаи изнасилования и попытки изнасилования, имевшие место в шести английских графствах в 1972— 1976 гг., и установили, что 13 /0 0 из них были совершены двумя или большим числом людей. Преступники, совершившие изнасилование в одиночку и в составе группы, имели в известной степени сходные криминальные досье, и в обоих случаях треть преступников перед совершением насилия находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Преступники, действовавшие в группе, чаще были моложе 21 года (65 0/0 против 2796), имели меньше судимостей за половые преступления и реже состояли на психиатрическом учете. Жертвы групповых изнасилований реже не были знакомы с насильниками, чаще были моложе 21 года, чаще находились в состоянии опьянения и чаще получали травмы (50 0/0 против 3296). Групповое нападение является скорее результатом групповой динамики в молодежных делинквентных группировках, а не индивидуальной патологии. Схожие данные были получены и в других странах (Dietz, 1978). Однако анализ судимостей за изнасилование в Англии в 1985 г. показывает, что количество преступлений, совершенных в одиночку, по сравнению с 1972 г. возросло (Lloyd, Walmsley, 1989). Более современные данные указывают на пропорциональное уменьшение среди преступников и жертв лиц моложе 21 года, на рост числа преступников с богатой криминальной биографией и на увеличение количества случаев, когда жертва и преступник знакомы.
При одних изнасилованиях жертва пассивно уступает под давлением угроз, но при других степень насилия гораздо выше, чем необходимо для того, чтобы до-
стичь согласия жертвы. Изнасилования с убийством относительно редки, и чаще всего убийство потерпевшей является результатом попыток усмирить жертву или скрыть преступление, а не следствием причинения повреждений из садистких побуждений, так что зловеще звучащее «убийство ради возбуждения похоти» («lust murder») встречается крайне редко. Райт и Вест (Wright, West, 1981) установили, что 6 0/0 жертв изнасилования получили серьезные телесные повреждения, а 6694 — никаких. Непосредственные и долговременные неблагоприятные психологические последствия намного более важны. Килпатрик и коллеги (kilpatrick et al., 1985) нашли, что 19 0/0 жертв изнасилования сообщали о суицидальных попытках по сравнению с 296 женщин, не подвергавшихся насилию.
Насильники не являются однородной группой, и можно провести параллель между различиями в социальной динамике изнасилований на свидании, групповых изнасилований и изнасилований незнакомого человека и психологическими различиями среди преступников. Попытки выделить однородные подгруппы сосредоточены на мотивационные вариациях (Prentky, Cohen, Seghorn, 1985). Грот (Groth, Burgess, 1977а; Groth, Burgess & Holmstrom, 1977) рассматривает сексуальное нападение как сексуальное поведение, обслуживающее несексуальные потребности, и подчеркивает значение мотивов власти и гнева. Изнасилование является «псевдосексуальным» актом, связанным с обоими мотивами, но при этом имеет место относительное доминирование одного или другого. В случае властного изнасилования (power таре) преступник ищет власти или контроля, либо чтобы выразить возмужалость (virility) и доминантность (утверждение власти), либо чтобы разрешить сомнения в своей маскулинности (подтверждение власти). Гневное изнасилование (anger таре) — это выражение ярости, презрения и ненависти к женщинам, и потому связано с чрезмерным насилием. Оно может быть мотивировано местью за субъективно воспринимаемые обиды (гнев-возмездие) или садистическим возбуждением от страданий жертвы (гнев-возбуждение). Эта типология отводит сексуальной мотивации второстепенную роль в изнасиловании, и Грот и Бержес (Groth, Burgess, 1977а) отмечают, что 75 0/0 выборки заключенных описывали сексуальные неудачи или дисфункции во время изнасилования. Властные изнасилования составляют около двух третей, и только 696 изнасилований попадают в категорию садистских.
Сходные виды насильников были выделены социологами, которые, однако, не рассматривают изнасилование с точки зрения индивидуальной патологии. Скалли и Маролла (Scully, Marolla, 1985) опросили 114 осужденных насильников с целью оценить их взгляд на вознаграждения, полученные от совершенного акта. Гнев, власть и благоприятная возможность снова оказались значимыми, а в качестве главных вознаграждений назывались месть и наказание, «дополнительный бонус» к корыстному преступлению, сексуальный доступ к обычно недоступной женщине, получение власти путем лишенного чувств секса, участие в групповом изнасиловании как развлечение.
Типологии насильников являются только предварительными и только недавно стали предметом эмпирической проверки (Plentky et al., 1985). Остается неясным, есть ли устойчивость в криминальных карьерах насильников. Тем не менее предполагается, что изнасилование является многоаспектным и что несексуальные, равно как и сексуальные, цели должны приниматься в расчет.
Феминистская концепция, согласно которой изнасилование поощряется превалирующими в обществе нормами отношений с позиции силы/власти, предсказывает, что изнасилование всегда связано с аттитюдами и представлениями, касающимися женщин, а также отношениями между полами, и это предсказание подкрепляется данными исследований, ведущихся в нескольких направлениях. Во-первых, в противовес тому взгляду, что изнасилование отображает биологически запрограммированную мужскую склонность к агрессии, антропологические исследования показывают, что оно не характерно для всех обществ и его частота зависит от устройства культуры. Оттербейн (0tterbein, 1979), например, установил, что в дописьменных обществах наличие мужских силовых групп, прибегавших к агрессии с целью защиты членов общества, было умеренным предиктором частоты изнасилований, но взаимодействовало с наказанием, которое подавляло наблюдаемый эффект. В исследовании 156 племенных групп Санди (Sanday, 1981) нашел, что общества, склонные к изнасилованию, характеризовались большей половой сегрегацией и меньшими властью и статусом женщин и поддерживали идеологии, в которых поощрялись насилие в отношениях между людьми и жестокость у мужчин.
Некоторые исследования насильников также поддерживают феминистскую точку зрения. Амир (Атщ 1971) установил, что 71 % изнасилований был спланирован, что противоречит психиатрической концепции изнасилования как импульсивного преступления, совершаемого людьми с недостаточным контролем. Большинство преступников были выходцами из бедных криминогенных районов города, что согласуется с представлением о «субкультуре насилия», хотя валидность этой концепции оспаривается. Филд (Feild, 1978) сравнил осужденных насильников с адвокатами, защищающими насильников, полицейскими и горожанами. Оказалось, что эти группы различаются по некоторым измерениям (dzmenstons) аттитюдов, касающихся принятия мифов об изнасиловании и приписывания ответственности за изнасилование женщинам. Однако, хотя профеминистские аттитюды к женщинам коррелировали с негативными аттитюдами к изнасилованию, этого не было в выборке насильников. В некоторых более поздних исследованиях также не удалось подтвердить, что заключенные насильники отличаются принятием мифов об изнасиловании (0verholser, ВесК, 1986) или негативными аттитюдами к женщинам (Stermac, Qmnsey, 1986).
12 Зак 364
Стоящие на феминистских позициях исследователи доказывают, что осужденные насильники не являются репрезентативной выборкой сексуально агрессивных мужчин, да и исследования непреступников на основе самоотчетов также дают противоречивые результаты. Косс и Леонард (koss, Leonard, 1984) сообщают, что по данным самоотчетов сексуальные агрессоры в большей степени принимали мифы об изнасиловании и чаще приписывали ответственность за изнасилование женщинам, но в то же время оценивались ниже по шкале негативных аттитюдов к женщинам. Другие не находят никакой прямой связи между сексуальной агрессией, по данным самоотчетов, и представлениями о половых ролях, хотя обнаруживают ее связь с принятием межличностного насилия и соперничающими половыми представлениями (Rapaport, Burkhart, 1984), а также с представлениями, оправдывающими сексуальную виктимизацию женщин (Alder, 1985). Однако Маламут (Malamuth, 1986) обнаружил, что и принятие межличностного насилия, и враждебное отношение к женщинам связаны с сексуальной агрессией по данным самоотчетов.
Ретроспективные клинические исследования позволяют предположить, что насильники выходят из той же семейной среды, что и агрессивные делинквенты, и что в этих семьях часто имеет место жестокость со стороны хотя бы одного из родителей. Например, Ван Несс (Van Ness, 1984) отметил, что, по судебным данным, семейное насилие или заброшенность отмечены в биографиях 41 % подростков-насильников по сравнению с 1596 лиц, совершивших неполовые преступления. С другой стороны, Рада (Rada, 1978) установил историю семейного насилия у менее четверти насильников, однако в этой области явно не достает лонгитюдных исследований. Хотя половая агрессия в отношении ребенка считается значимым фактором, Картер с коллегами (Carter at al., 1987) сообщают, что такой факт биографии обнаружен у 57 0/0 осужденных за растление детей и только у 23 0/0 насильников. Однако при наличии связи сексуальной агрессии с принятием межличностного насилия можно ожидать, что дети скорее всего будут свидетелями супружеского насилия в семье.
К более проксимальным влияниям на насильственные действия относятся ситуационные факторы, воздействующие на сексуальное возбуждение и агрессию преступника. Амир (Amir, 1971) установил, что пятая часть изнасилований в Филадельфии была «спровоцирована жертвами», но эти данные не были воспроизведены (см. главу 9). Алкоголь часто упоминается в числе факторов, но сообщения преступников необходимо рассматривать с осторожностью, так как заявление об интоксикации представляет собой форму «отрицания девиантности», т. е. защищает преступника от признания того, что у него есть какие-либо другие проблемы, помимо пьянства (McCaghy, 1968). Независимые сообщения, тем не менее, указывают на относительно высокие уровни употребления алкоголя перед изнасилованием. Рада (Rada, 1978) отмечает, что 50 0/0 насильников, которых он оценил, были пьяны на момент совершения преступления, а треть страдала «проблемным» пьянством. Амир (Amir, 1971) установил, что и преступник и жертва были в состоянии алкогольного опьянения в 60 0/0 случаев, хотя Райт и Вест (Wnght, West, 1981) выявили более низкий процент таких случаев в своей английской выборке. Экспериментальные исследования позволяют предположить, что ожидания, связанные с алкоголем (плацебо), а не сам по себе алкоголь, увеличивают сексуальное возбуждение при просмотре эротических фильмов и также повышают интерес к эротическому насилию (George, Marlatt 1986). Однако результаты исследований в этой области неоднозначны (Quinsey, 1984). В некоторых исследованиях было показано, что злоупотребление алкоголем связано с ббльшим применением насилия при изнасиловании, но Лангевин, Питич и Рассон (Langevin, Pitich & Russon, 1985) это не подтверждают. Кажется маловероятным, что сам по себе прием алкоголя имеет более прямое отношение к совершению изнасилования, чем к другим актам насилия. Любые эффекты, содействующие совершению изнасилования, возможно, опосредованы другими ситуационными и личностными факторами, например ошибочным восприятием социальных сигналов, возросшим чувством власти или ожиданиями того, что девиантное поведение более допустимо.
Возможность того, что сексуальная стимуляция сама по себе увеличивает риск сексуальной агрессии, лежит в основе дискуссий вокруг порнографии. Феминистки рассматривают порнографию как поощрение изнасилования посредством
![]()
дегуманизации женщин (Brownmiller, 1975), но национальные комиссии в Америке и Великобритании в 1970-х гг. пришли к заключению, что порнографические материалы не вносят никакого вклада в сексуально преступное поведение. Комиссия, собранная в США в 1986 г., пришла к диаметрально противоположному выводу, который, однако, критиковался как чрезмерное обобщение (Linz, Donnerstein & Pentrod, 1987) Критическим пунктом является значение слова порнография. Некоторые отличают эротические изображения откровенно сексуального взаимодействия, связанного с взаимным наслаждением и свободой, от неравноправных отношений, от изображений женщин как сексуальных объектов, находящихся в полной власти мужчин, демонстрирующих различные формы принуждения, иногда доходящего до садизма. Для того чтобы подчеркнуть эти различия, здесь применяются термины «неагрессивная» и «агрессивная» порнография.
Исследования в последовавшие за смягчением правовых норм об ответственности за непристойное поведение в 1960-х гг., не выявили роста сексуальных преступлений и показали снижение числа малозначительных преступлений. Корт (Court, 1984) доказывает, что большее значение имеет возросшая доступность агрессивной порнографии в западных странах с начала 1970-х гг., хотя его доказательства были подвергнуты сомнению (Linz et al., 1987). Корт полатает, что «порнонасилие» вызывает «волновой эффект» в области аттитюдов к женщинам и сексуальному поведению и демонстрирует связь между изменениями в законодательстве, сказывающимися на доступности порнографии, и изменениями в официальной статистике изнасилований в ряде стран. Эти совокупные данные не позволяют установить существование прямого причинного влияния, но согласуются с предположением, что порнография оказывает влияние, способствующее сексуальной агрессии.
Экспериментальные исследованид также подтверждают такое влияние. Маламут (Malamuth, 1984) обобщил данные нескольких исследований когнитивных эффектов от просмотра агрессивных сексуальных изображений. В одном исследовании изображения сцен изнасилования увеличивали (в процентном ОТНОШении) агрессивные сексуальные фантазии у мужчин, тогда как в другом исследовании испытуемые, слушавшие аудиозапись изнасилований, в которых результат был «положительным» (женщина невольно возбуждалась), впоследствии оценивали жертву как менее пострадавшую, чем те испытуемые, которые слушали запись изнасилований с «отрицательным» результатом (женщина выказывала отвращение) или секса с обоюдного согласия. Маламут также описывает полевое исследование, в котором мужчины, смотревшие фильмы с изображением положительных последствий сексуальной агрессии, впоследствии в большей степени принимали применение насилия к женщинам, чем контрольная группа, и были немного восприимчивее к мифам об изнасиловании.
Влияние порнографии на агрессию также изучалось в лабораторных исследованиях. Эксперименты показывают, что демонстрация неагрессивной порнографии сама по себе не усиливала агрессию в отношении женщин, но оказывала такое влияние на мужчин, которые предварительно были разозлены (Donnerstein, 1984). С другой стороны, в некоторых работах было установлено, что влияние порнографии сильнее, если мишенью агрессии является мужчина. Это указывает скорее на эффект общего возбуждения или торможения, чем на эффект специфического сексуального возбуждения. Однако в одном эксперименте агрессивная
![]()
порнография, демонстрирующая «положительный» результат для женщины, повышала впоследствии агрессию в отношении женщин среди мужчин, которые не были предварительно разозлены, цо демонстрация с «отрицательным» результатом такого эффекта не оказывала. У предварительно разозленных мужчин оба вида порнографии усиливали агрессию. Доннерштейн предполагает, что положительный результат оправдывает применение агрессии и снижает торможение, тогда как отрицательный результат несет с собой сигналы чужого страдания, которые усиливают последующую агрессию у разозленных мужчин В другом исследовании (Donnerstein, 1983) мужчины были предварительно разозлены по к мощником экспериментатора, мужчиной или женщиной, и прежде чем получить возможность проявить агрессию, они смотрели один из четырех фильмов: нейтральный, неагрессивный порнографический, агрессивный или агрессивный порнографический. Когда мишенью был мужчина, только неагрессивный порнографический фильм повышал агрессию Когда мишенью была женщина, агрессия не усиливалась за счет неагрессивной порнографии, но максимально повышалась после просмотра агрессивного порнографического фильма и, в несколько меньшей степени, просто агрессивного фильма. Последующее исследование также показало, что демонстрация несексуальной агрессии в отношении к женщине увеличивает степень принятия мифов об изнасиловании и связанных с ним аттитюдов (Donnerstan, 1984) Таким образом, похоже, что именно агрессивные образы и представление женщины как жертвы в агрессивной порнографии способстјуют агрессии по отношению к женщине, а не сексуальное возбуждение.
Хотя эти исследования свидетельствуют о том, что порнография может порождать негативные аттитюды и недоброжелательное поведение по отношению к женщинам, в зависимости от эмоционального состояния наблюдателя и «сообщения», передаваемого женскими реакциями, они не доказывают однозначной причинной роли агрессивной порнографии, которая является только одним из многих возможных влияний на сексуальную агрессию. Они зависят от ограниченжрй внешней валидности лабораторных определений «агрессии» и преимущественно касаются краткосрочных и, возможно, скоропреходящих эффектов. На данный момент не существует проспективных лонгитюдных исследований воздействия порнографии на сексуальное поведение. Известно, что лица, совершившие половые преступления, являются активными потребителями порнографической продукции. Картер с коллегами (Carter et al., 1987) установили, что преступники, осужденные за растление малолетних, чаще использовали порнографию до и во время совершения преступления, чем насильники. Однако лица, осужденные за половые преступления, как было установлено, потребляли меньше порнографии, чем непреступники в подростковом возрасте (Qumsey, 1984). Вклад порнографии в развитие девиантного сексуального поведения, таким образом, не ясен. Маламут (Malamuth, 1984) предполагает, что любые эффекты будут двунаправленными, как и в случае насилия в СМИ, и что агрессивная порнография может усиливать негативные реакции в отношении женщин у тех, кто уже предрасположен к сексуальной агрессии.
Было предпринято несколько попыток установить, отличимы ли насильники по каким-либо особым личным, сексуальным и социальным диспозициям. Связь .
![]()
с психозом встречается редко, и контролируемые исследования не нашли отличий насильников по интеллектуальным характеристикам (Quinsey, 1984). Насильники, имевшие контакт с системой психиатрического здравоохранения, чаще всего получают диагноз расстройства личности, но сравнения насильников с другими преступниками по личностным тестам не показали устойчивых различий, что может свидетельствовать о том, что насильники характеризуются криминальностью, а не более специфическими особенностями личности (Rada, 1978; koss, Leonard, 1984). Роль антисоциальной склонности поддерживается получением умеренных корреляций сексуальной агрессии по данным самоотчетов с шкалой Pd (психопатическое отклонение) MMPI (koss, Leonard, 1984), шкалами Социализации и Ответственности Гоха (Rapaport, Burkhart, 1984), и шкалой Р (психотизм) EPQ (Malamuth, 1986). Маламут и Чек (Malamuth, Check, 1983) также установили, что возбуждение в ответ на описания сцен изнасилования (по данным самоотчетов) связано с сообщаемой вероятностью совершения изнасилования, шкалой Р EPQ и мотивацией сексуальной власти (semal power motivation). Они предположили, что наклонности сексуальных насильников связаны с более общей склонностью к агрессии. Однако ни осужденные насильники, ни «сексуальные агрессоры» по данным самоотчетов нр получали устойчиво высоких показателей по Инвентарю враждебности Басса—Дарки (koss, Leonard, 1984; 0verholster, веск, 1986).
С другой стороны, исследования отбывающих наказание насильников с исполь ованием MMPI показали, что в общем они ближе к заключенным, совершившим насильственные преступления в более широком смысле, чем к тем, кто был осужден за другие категории половых преступлений (Rader, 1977; Langevin, Paitich & Russon, 1985), и что они часто имеют высокие значения по шкале Sc (шизофрения) и по шкале Pd. Этот паттерн был проинтерпретирован в терминах враждебности, раздражительности, импульсивности, избегания близкого участия, социальной недальновидности и конфликта с властью (Armentrout, Hauer, 1978). Хотя наиболее однозначным можно признать вывод о плохой социализации насильников, данные MMPI позволяют сделать предположение, что они относятся к группе более девиантных в личностном плане преступников и чаще являются вторичными психопатами.
Другая переменная, предположительно отличающая насильников, это уровень тестостерона, который, как полагают, влияет на степень сексуальной возбудимости и агрессивности. Рада, Лоз и Келлнер (Rada, Laws & kellner, 1976) пришли к выводу, что высокий уровень тестостерона не характеризует насильников как группу, а только отличает небольшую подгруппу высокоагрессивных насильников. Однако Лангевин с коллегами (Langevin et al., 1985) не обнаружили различий в уровне тестостерона между насильниками и лицами, совершившими половые преступления без применения насилия, как, впрочем, и между садистическими и несадистическими насильниками.
Представители поведенческих подходов предполагают, что насильники отличаются девиантным предпочтением насильственного секса, которое должно быть видно в различных ФПГ-реакциях на описание секса по обоюдному согласию и на описание сексуальной агрессии. Абель с коллегами (Abel et al., 1977) представили аудиозапись сцен полового акта с взаимного согласия и изнасилования тринадцати насильникам и семи сексуальным девиантам, не применявшим насилия.
![]()
Ненасильники демонстрировали меньшие ФПГ-реакции на изнасилование, чем на секс по обоюдному согласию, тогда как насильники реагировали сходным образом на обе записи. «Индекс изнасилования» (отношение ФПГ-реакции на изнасилование к реакции на секс по обоюдному согласию) был прямо связан и с частотой посягательств на изнасилование, и с тяжестью причиненных повреждений. Реакции на изнасилование также коррелировали с реакциями на несексуальное насилие по отношению к женщине, хотя и на более низком уровне. Не показывая предпочтения насильственного секса сексу по обоюдному согласию, эти результаты позволяют предположить, что изнасилование может быть мотивировано девиантным влечением (attraction) к сигналам несогласия или к использованию силы. Барбари с коллегами (Barbaree, Marshall & Lanthier, 1979) повторили эти результаты при сравнении насильников с непреступниками, но высказали предположение, что насильники не обязательно возбуждаются от применения силы или от сигналов жертвы, но, скорее, не могут подавить эрекцию, возможно вследствие меньшей эмпатии. Квинси, Чаплин и Апфолд (Quinsey, Chaplin & Upfold, 1984), однако, установили, что насильники реагировали слабее, чем контрольная группа, на изображения сексуальных действий по обоюдному согласию и сильнее, по сравнению с контрольной группой, на изображения изнасилования. Насильники также сильнее реагировали на демонстрацию несексуального насилия по отношению к женщине, но не к мужчине, что предполагает важность гетеросексуального контекста. Хотя авторы рассматривают неспособность насильников остановиться при виде страданий жертвы как решающий фактор, их результаты также поддерживают гипотезу девиантного сексуального предпочтения. В противоположность этому другие исследования показали, что насильники в меньшей степени реагируют на изнасилование, чем на секс по обоюдному согласию (Langevin et al., 1985; Baxter, Barbaree & Marshall, 1986).
Существуют две возможные причины таких противоречивых результатов. Барбари (Barbaree, 1990) доказывает, что изображения сексуальной агрессии содержат и возбуждающие, и тормозные стимульные элементы и что противоречивые результаты могут поэтому отражать использование различных стимульных паттернов различными исследователями. С другой стороны, это могут быть различия между испытуемыми. Блейдер и Маршалл (Blader, Marshall, 1989) отмечают, что Квинси и коллеги (Quinsey et al., 1984) работалих с наиболее опасными и садистическими насильниками, и считают, что индекс изнасилования является надежным различителем только для этой категории насильников. Далее они доказывают, что сексуальное возбуждение в том виде, как оно оценивается в лаборатории, не является антецедентом сексуальных нападений, которые обычно начинаются как попытка добиться от объекта согласия на половой акт, и что из полученных данных определенно следует: за исключением садистов, насильники не имеют девиантного интереса к изнасилованию с применением физической силы. Насильника может отличать именно неспособность принудительного отреагирования подавить сексуальное возбуждение.
Открытым остается вопрос, что подкрепляет использование принуждения. Ограниченные сведения относительно особых характеристик насильников иногда интерпретируются в том смысле, что большинство из них являются плохо социализованными людьми, которые «воруют» секс, если необходимо, применяя силу, но также возможно и то, что они мотивируются некоторыми элементами
![]()
секса без согласия. Например, Маркес (Marques, 1981) варьировал окончания описаний изнасилования и установил, что насильники демонстрировали повышенную эрекцию на просьбы жертвы о сострадании, но не на настойчивый отказ, установление отношений или отсутствие сопротивления. По-видимому, это указывает на важность мотивации власти. Более того, индекс изнасилования обладает некоторой валидностью в том, что касается предсказания сексуальной агрессии по данным самоотчетов, особенно в комбинации с доминированием как мотивом сексуальных актов, враждебным отношением к женщинам и принятием межличностного насилия (Malamuth, 1986).
Другим фокусом интересов были гетеросоциальные и ассертивные навыки насильников. Впрочем, по имеющимся данным, насильники не сильно отличаются от других преступников в этом отношении. Стермак и Квинси (Stermac, Qmnsey, 1986), например, сравнили насильников с преступниками, осужденными за неполовые преступления, и с составленной из представителей общины контрольной группой по аспектам общения, разыгрывания ролей и собственным оценкам социального взаимодействия и навыков. Обе группы преступников были оценены как имеющие меньше навыков; насильники отличались только в том, что оценивали себя как менее ассертивных. Сигал и Маршалл не смогли повторить последние данные (Segal, Marshall, 1985), но тем не менее подтверждают, что насильники и другие преступники сходны в остальных отношениях. Растлители малолетних демонстрировали более очевидные дефициты навыков; аналогичные результаты получили Оверхолсер и Бек (0verholser, ВесК, 1986). Однако Липтон, Мак-Донел и Мак-Фолл (Lipton, McDonel & McFall, 1987) нашли, что насильники менее точно, чем другие преступники, распознают аффективные сигналы женщин, изображенных во время взаимодействия с партнером на первом свидании, что предполагает дефицит обработки при декодировании информации в таких ситуациях.
Поскольку многие насильникц женаты или имеют регулярные половые отношения (Rada, 1978; Langevin, Paltich & Russon, 1985), исследователи, возможно, переоценивают дефицит основных гетеросексуальных навыков, и дефициты в формировании и поддержании интимных взаимоотношений могут играть более важную роль (Marshall, 1989). Учитывая роль, которая приписывается представлениям о женщинах в генезе изнасилования, больше внимания следует уделять ожиданиям, опосредующим взаимодействия насильников с их жертвами.
Исследования социальных и личных характеристик насильников дали множество противоречивых результатов, что привело отдельных авторов к предположению, что помимо плохой социализации насильники, в общем, не отличаются от других преступников. Однако Маршал и Барбари (Marshall, Barbaree, 1990а), используя наиболее эвристичные данные, предложили интегративную теорию, которая объединяет биологическое развитие, социализацию в детстве и влияние культурных и ситуационных факторов. Они считают, что при наличии тесной связи между нервным и гормональным субстратами секса и агрессии достигший половой зрелости юноша должен научиться тормозить врожденную способность к сексуальной агрессии. В результате неблагоприятного детского опыта (например, ребенок воспитывался некомпетентными родителями, страдал от семейного насилия) некоторые мальчики неспособны приобрести адекватные эмпатические и социальные навыки, которые позволили бы им научиться такому торможению и вступить в адекватные гетеросексуальные и социальные взаимодействия. Неспо-
![]()
собность формировать интимные отношения также порождает агрессию. Такие мальчики наиболее уязвимы к влияниям культуры, таким как мифы об изнасиловании, находящие отражение в порнографической продукции, и более быстро растормаживаются под воздействием врёменных факторов, таких как алкогольная интоксикация или гнев. Если один раз такой юноша дошел до того, что применил насилие при половом акте, эти случаи будут повторяться и дальше, особенно если наказание не было адекватным. Однако, как уже отмечалось, предположение, что основная задача подростка состоит в научении торможению естественной склонности к сексуальной агрессии, довольно спорно.
Одна из вероятных причин противоречивых результатов исследований — мотивационная неоднородность насильников. Тем не менее предпринимались попытки определить характеристики садистических насильников. Бриттейн (Brittain, 1970) предложил прототипическое описание убийцы-садиста, основанное на его собственном опыте судебного психиатра и патолога. Несмотря на присущий садисту нарциссизм и эгоцентризм, его все же неправильно описывать как психопата. Он постоянно занимается самоанализом, живет обособленно, робок, отличается ханжеством и часто религиозен, остро чувствует собственную неполноценность, особенно в сексуальном плане, и полагает, будто общаться с женщинами очень сложно. Желание властвовать над другими — существенная особенность, и применение насилия ради обретения власти важнее причинения боли и страданий Он ведет богатую воображаемую жизнь, включающую жестокость и зверства, и он ищет работу, где его желание властвовать может быть реализовано. Есть вероятность, что его интересы включают чтение садистической литературы и коллекционирование оружия. Ему также свойственны некоторые парафилии, такие как вуайеризм и трансвестизм, но часто они не отражены в криминальном досье. Совершение преступления часто следует за снижением самооценки или за отрицанием своей маскулинности, и планирование преступления дает ему возможность почувствовать свое превосходство. Убийство совершается с крайней жесткостью, так как сексуальное влечение и жакда власти берут верх и садист возбуждается от страха жертвы и от ее страданий. Однако ни половой акт, ни оргазм не являются необходимыми компонентами; он может мастурбировать над телом или использовать фаллоимитатор. Преступление имеет следствием снижение напряжения, после чего преступник ведет себя нормально.
Хотя этот портрет составлен из черт, присущих по отдельности разным лицам, имеющиеся данные подтверждают несколько отмеченных особенностей. Мак-Каллох и коллеги (MacCulloch et al., 1983) высказали предположение, что критическими признаками являются садистические фантазии и репетиция преступления. У 13 из 16 пациентов специализированной больницы, совершивших садистские убийства или садистские нападения без смертельного исхода, были обнаружены периодически повторяющиеся садистические мастурбаторные фантазии, связанные с идеями власти и сексуального насилия. Преступление является кульминацией фантазийной последовательности, а предшествующие ему попытки выследить и подкрасться к жертве, по-видимому, поддерживают фантазию как источник возбуждения. Все пациенты имели в анамнезе трудности в социальных взаимоотношениях и в попытках сближения с женщиной. Мак-Каллох и коллеги
11.
![]()
(MacCulloch et al., 1983) предположили, что фантазия власти является оперантом, который отрицательно подкрепляется освобождением от опыта неудачи, а сексуальное возбуждение связывается с ним путем классического обусловливания. Прентки и коллеги (Prentky et al., 1989) предполагают, что развитие садистических фантазий может быть особенно важным в случае серийных убийств на сексуальной почве. Они сравнили 25 серийных и 17 несерийных убийц, совершивших убийства на сексуальной почве. Предварительные фантазии на тему изнасилования или убийства были зарегистрированы у 860/0 серийных убийц, по сравнению с 230/0 преступников, совершивших одно убийство.
В своем исследовании сексуальной агрессии
Лангевин с коллегами (Langevin et al., 1985) сравнивали садистических и
несадистических агрессоров с испытуе![]() мыми контрольной группы, совершившими
имущественные преступления. Хотя размер выборок не позволил сделать
окончательные выводы, а некоторые данные, например низкий индекс изнасилования
у садистов, противоречили ожидавшимся, все же обнаружился ряд интересных
различий. Например, выявились следующие тенденции: садисты имели более феминную
или же амбивалентную тендерную идентичность, чаще чувствовали себя сексуально
неадекватными, находили, что им трудно разговаривать с женщинами, которые их
раздражали, имели более традиционные полоролевые аттитюды, демонстрировали
больше парафилий и реже злоупотребляли алкоголем или психоактивными веществами.
Они также имели самые высокие показатели по шкале шизофрении MMPI, что говорит
о 60лее спутанном или искаженном мышлении. Один из наиболее значимых выводов
состоял в том, что 560/0 садистов, но 0 0/0 несадистов и
11 0/0 представителей контрольной группы имели расширение правого
височного рога, как показала компьютерная томография, и эти различия были
обнаружены и в другой, более обширной, выборке (Hucker et al., 1988). Причинное
значение этого не ясно, но несколько случаев из практики свидетельствуют о
связи аномалий височной доли с парафилиями. Мани (Мопеу, 1990) утверждает, что
в случае сексуального садизма мозг становится патологически активированным в
целях передачи симультанных сообщений о нападении и сексуальном возбуждении;
это является эпизодической дисфункцией, схожей с эпилептическим припадком.
Однако доказательства преднамеренности и планирования садистских убийств
(MacCulloch et al., 1983; Prentky et al., 1989) показывают, что садистские
нападения являются когнитивно опосредованными и находятся под сознательным
контролем. Таким образом, патологическая нейронная активность мозга не является
ни необходимой, ни достаточной для объяснения такого поведения.
мыми контрольной группы, совершившими
имущественные преступления. Хотя размер выборок не позволил сделать
окончательные выводы, а некоторые данные, например низкий индекс изнасилования
у садистов, противоречили ожидавшимся, все же обнаружился ряд интересных
различий. Например, выявились следующие тенденции: садисты имели более феминную
или же амбивалентную тендерную идентичность, чаще чувствовали себя сексуально
неадекватными, находили, что им трудно разговаривать с женщинами, которые их
раздражали, имели более традиционные полоролевые аттитюды, демонстрировали
больше парафилий и реже злоупотребляли алкоголем или психоактивными веществами.
Они также имели самые высокие показатели по шкале шизофрении MMPI, что говорит
о 60лее спутанном или искаженном мышлении. Один из наиболее значимых выводов
состоял в том, что 560/0 садистов, но 0 0/0 несадистов и
11 0/0 представителей контрольной группы имели расширение правого
височного рога, как показала компьютерная томография, и эти различия были
обнаружены и в другой, более обширной, выборке (Hucker et al., 1988). Причинное
значение этого не ясно, но несколько случаев из практики свидетельствуют о
связи аномалий височной доли с парафилиями. Мани (Мопеу, 1990) утверждает, что
в случае сексуального садизма мозг становится патологически активированным в
целях передачи симультанных сообщений о нападении и сексуальном возбуждении;
это является эпизодической дисфункцией, схожей с эпилептическим припадком.
Однако доказательства преднамеренности и планирования садистских убийств
(MacCulloch et al., 1983; Prentky et al., 1989) показывают, что садистские
нападения являются когнитивно опосредованными и находятся под сознательным
контролем. Таким образом, патологическая нейронная активность мозга не является
ни необходимой, ни достаточной для объяснения такого поведения.
Комплексное объяснение садистских сексуальных нападений предложили Берджес с коллегами (Burgess et al., 1986). Они построили мотивационную модель, в которой главное место отводится садистическим фантазиям и когнитивным структурам, поддерживающим акт сексуального убийства. Были предположительно выделены пять взаимодействующих фаз развития:
1) неэффективное социальное окружение в первые годы жизни, ослабляющее узы привязанности;
2) травматические события в годы формирования личности, такие как девиантные ролевые модели и опыт жестокого офащения, порождающие фантазии власти и агрессии как приемы совладания;
![]()
З) систематические (закрепившиеся) реакции, такие как социальная изоляция, аутоэротизм и бунтарство, ограничивающие корректирующий опыт межличностного общения, и развитие когнитивных структур, способствующих самооправданию, антисоциальному взгляду на мир и на себя;
4) действия, направленные на других, такие как жестокое отношение к детям и животным, посредством которых подкрепляется применение насилия и задерживается развитие эмпатии;
5) фильтр обратной связи, который поддерживает девиантные схемы мышления. Эта модель имеет сходство с социокогнитивными моделями агрессивной делинквентности.
Роль сексуальной агрессии в ранние годы жизни особо подчеркивают Ресслер с коллегами (Ressler et al., 1986), которые установили, что лица с такой предысторией, совершившие убийство на сексуальной почве, чаще подвергались жестокости в детстве, обнаруживали больше сексуальных конфликтов и парафилий и начали фантазировать в более раннем возрасте, чем убийцы, не пострадавшие от такого обращения. Они также чаще (хотя и не намного) уродовали жертву после убийства. Однако, как отмечает Финкелхор (Finkelhor, 1986), теории, которые приписывают сексуальные преступления мужчин опыту насилия в детстве, должны объяснить, почему женщины, которые в основном и являются жертвами, не становятёя сексуальными насильниками. Жестокость и причинение боли в несексуальном контексте, как полагают, характеризуют садистическое расстройство личности, которое по DSM-III-R редко возникает совместно с сексуальным садизмом, но клинические наблюдения других исследователей (Brittain, 1970; Burgess et al., 1986) показывают, что убийцы-садисты могут иметь общие садистические черты. Садистические сексуальные фантазии также являются распространенными в общей популяции (Crepault, Couture, 1980), например присутствуют в садистских «сексуальных играх» (Gosselin, Wilson, 1980), и садизм на этом уровне, по-видимому, связан с общей потребностью в межличностном контроле (Breslow, 1987). Поэтому вполне возможно, что садистское сексуальное нападение Является одним краем континуума.
Половые преступления против детей по большей части ограничиваются генитальными ласками и гораздо реже предполагают вагинальную или анальную пенетрацию, хотя использование физической силы имеет место в значительной части случаев преступных действий с несовершеннолетними (!Abel et al., 1981). Термины пеДофшшя, растление малолетних и половая агрессия в отношении ребенка часто употребляются как взаимозаменяемые при описании этих преступлений, но педофилия в этом отношении значит больше, чем понятие парафилии в DSM-III-R, поскольку у некоторых преступников сохраняется первичный сексуальный интерес к взрослым партнерам. Сексуальное предпочтение детей более вероятно у тех мужчин, чьими жертвами являются исключительно мальчики (гомосексуальные педофилы, составляющие около четверти известных полиции преступников), и обнаруживается у незначительного меньшинства тех, кто выбирает своими жертвами как мальчиков, так и девочек. Также высказывались пред-
![]()
положения, что это менее вероятно у преступников, обвиненных в инцесте (Ноwells, 1981; Qumsey, 1986), однако некоторые исследования показывают, что более трети из них растлевают детей и вне семьи (Wllhams, Frnkelhor, 1990). Итак, те, кто совершают половые преступления против детей, образуют неоднородную группу лиц, различающихся по возрасту и полу жертв, отношению к жертве, степени сексуального контакта и степени силы, используемой при совершении преступления.
Поскольку о большинстве случаев половой агрессии в отношении ребенка не сообщается, информация поступает в основном из опросов о виктимизации и из клинических исследований. Изменчивые показатели распространенности отражают не только различные методы проведения опросов, но и недостаток точного определения самого термина «половая агрессия в отношении ребенка». Обычно под этим понимается нежелательный сексуальный опыт со взрослым в период детства, а при проведении некоторых опросов сюда включают и неконтактный опыт, например непристойное обнажение или устные высказывания, и продлевают границу детства до 18-летнего возраста (Finkelhor, 1986). Однако опросы, в которых используются строгие критерии, показывают, что от 10 до 15 0/0 женщин сталкиваются с половой агрессией в период детства (Mullen, 1990). Примерно в половине случаев это единичный опыт, хотя у некоторых он имеет продолжение. Отношение женщин к мужчинам, которые сообщают о детском опыте половой агрессии, примерно равно 2,5:1 В случае женщин субъектами половой агрессии чаще являются члены семьи или знакомые, однако больше мужчин, чем женщин, пострадали в детстве от действий незнакомых людей.
Финкелхор (Fmkelhor, 1986) представляет аналитический обзор данных о факторах риска половой агрессии в отношении девочек. Уязвимость оказалась выше для тех, кому от 10 до 12 лет, кто воспитывается отчимом или без биологического отца, чьи матери работали вне дома, кто был болен или имел инвалидность, кто был свидетелем конфликтов между родителями или имел плохие отношенид с одним из родителей. Примечательно, что высокие показатели не характерны для чернокожих девочек или девочек из семей, относящихся к низшим слоям общества. Финкелхор отмечает возможную связь этих факторов с плохим надзором со стороны родителей и с эмоциональной уязвимостью или неспособностью ребенка оказать сопротивление взрослому. Однако он подчеркивает, что предпосылки половой агрессии в отношении ребенка заложены в преступнике, который мотивирован к ней и который должен преодолеть интернализованные запреты, внешние препятствия и сопро№ивление ребенка.
Многие педофилы не считают свое поведение отклоняющимся от нормы. Главный вопрос состоит в том, что дети не способны давать информированное согласие, и в том, что секс между взрослым и ребенком является эксплуатацией неравных в плане власти и силы отношений (Abel, Becker & Cunmngham-Rather, 1984). Психологические негативные последствия для жертвы включают как непосредственное переживание случившегося, так и долговременные эффекты. Первичные эффекты — эмоциональные реакции страха, вины, враждебности и навязчивые мысли Эти симптомы сопоставимы с теми, что наблюдаются при ПТСР, и присущи примерно половине жертв Среди поведенческих проблем такие, как
![]()
плохая успеваемость в школе, нарушения пищевого поведения, уходы из дома, проституция и делинквентность у меньшинства (Finkelhor, 1986). Долговременные эффекты включают тревогу, депрессию, низкую самооценку, саморазрушающее поведение, повторную виктимизацию, недостаток доверия к другим людям и нарушенную сексуальную адаптацию (Finkelhor, 1986; Mullen, 1990).
Однако долговременные эффекты не являются неизбежными, и серьезная психопатология развивается примерно у пятой части жертв. Поэтому сложно доказать прямое причинное влияние, и половая агрессия в отношении ребенка, возможно, взаимодействует с другими факторами, такими как семейная дезорганизация и другие формы плохого обращения с ребенком. Некоторые клиницисты предполагают, что последствия наиболее сильнЁ1 в том случае, когда ребенок осознает всю неадекватность акта, агрессия поддерживается, включает пенетрацию и применение силы, насильник является близким родственником и семья не является поддерживающей (Abel et al., 1984). Этому есть некоторые доказательства, хотя данные носят разрозненный характер (Fmkelhor, 1986).
Предпринимались попытки уменьшить неоднородность совокупности растлителей малолетних посредством создания типологий, сравнимых с типологиями насильников. Грот и Бержес (Groth, Burgess, 1977b) снова подчеркивают роль несексуальных мотивов и делят растлителей малолетних на две большие группы на основе степени применения силы при совершении преступления. Сексуально-прессинговое (sex-pressure) преступление отличается практически полным отсутствием физического насилия. Преступник чувствует себя безопаснее с детьми и желает ребенка как объект любви. Однако преступники в этой группе подразделяются на тех, кто использует обольщение (enticement) Или убеждение, и тех, кто завлекает в свои сети (entrapment) с помощью незаслуженных подарков. В случае сексуально-силового (sex-force) преступления преступники применяют принуждение или физическую силу и бывают либо эксплуатирующими, используя ребенка для снятия сексуального напряжения без каких-либо дальнейших отношений или в качестве объекта, над которым можно обрести власть, либо саДистскими, извлекающими удовольствие из причинения боли и унижения ребенка. Эта типология представляет собой гипотезу, основанную на клинических наблюдениях, которая так и не была подтверждена.
Сторонники другого подхода делят преступников на фиксированный (fixated), регрессированный (regressed) и агрессивный типы (Cohen, Seghorn 8z Calmas, 1969). Фиксированный преступник предпочитает детей и чувствует себя с ними более спокойно, причем ищет тех, кто ему знаком. Регрессированный тип имеет некоторый гетеросексуальный интерес к взрослым, но испытывает ощущение собственной неадекватности и, чувствуя угрозу маскулинности, реагирует сексуально на ребенка. Преступник агрессивного типа совершает садистские действия, обычно с мальчиками. Хауэллс (Howells, 1981) проводит более прагматичное разделение между преДпочитающими Детей и ситуационными растлителями. Квинси (Quinsey, 1986) сходным образом отличает растлителей, имеющих сексуальное предпочтение к детям, от растлителей, использующих детей как замену в отсутствие взрослого партнера. Считается, что это разграничение касается также инцестуозных и неинцестуозных субъектов половой агрессии в отношении детей.
.
![]()
Найт и Прентки (knight, Prentky, 1990) описывают дальнейшую, эмпирически обоснованную, разработку типологии Коэна с коллегами (Cohen et al., 1969), которая представляет собой иерархическое древо решений с двумя осями. Первая ось делит преступников по степени фиксации и, далее, по степени социальной компетентности, в результате чего образуются четыре группы. Вторая ось делит их по степени контакта с детьми; те, кто имеют высокую степень контакта, делятся на межличностный и нарциссический типы, те же, кто имеют низкую степень контакта, делятся на тех, кто причиняет незначительные и серьезные увечья. Последние подразделяются на садистический и несадистический типы. В то время как эта система основывается на пяти переменных, использование дихотомического принципа распределения дает 24 группы, хотя авторы предполагают, что большинство растлителей малолетних относятся к одной из 11 групп. Этот подход кажется многообещающим, но большинство исследователей сегодня полагаются на простые дихотомии или рассматривают“ растлителей малолетних как однородную группу.
Обзоры исследований растлителей малолетних были выполнены Хауэллсом (Howells, 1981), Финкелхором (Finkelhor, 1986), Квинси (Quinsey, 1986) и Ланионом (Lanyon, 1986а), а обзор исследований инцестуозных отцов представили Уильямс и Финкелхор (Williams, Finkelhor, 1990). Финкелхор (Finkelhor, 1986) предполагает, что в основе большинства исследований лежали однофакторные теории, но при этом затрагивалось около четырех дополняющих друг друга вопросов. Они таковы:
1) эмоциональная конгруэнтность сексуальных отношений с ребенком;
2) сексуальное возбуждение ребенка;
З) блокировка социально приемлемых отношений;
4) растормаживание запретов в отношении секса с ребенком.
Эти вопросы задают нам удобные ориентиры для подведения итогов современных исследований.
Вопрос об эмоциональной конгруэнтности — это вопрос о том, почему сексуальные отношения с ребенком являются удовлетворяющими или соответствующими потребностям индивидуума. Психодинамические теории предлагают несколько мотивационных источников. В частности, фиксация многих растлителей малолетних подразумевает незрелость в плане возрастного развития и чувство собственной неадекватности. Таким образом, сексуальные отношения с детьми кажутся менее угрожающими, чем со взрослыми, и позволяют почувствовать себя более могущественным и контролирующим ситуацию. Более широкое предположение состоит в том, что влечение педофила к детям является нарциссическим, отражающим эмоциональную связанность с образом себя как ребенка. Последнее предположение не проверялось, но есть некоторые указания на то, что педофилы считают детей менее угрожающими. Хауэллс (Howells, 1979) сравнил репертуарные решетки гетеросексуальных педофилов и лиц, совершивших неполовые преступления, и обнаружил, что педофилы интерпретируют сексуальные отношения со взрослыми строго в плане доминирования—подчинения. Педофилы считают взрослых ограничивающими их свободу и рассматривают детей как недоминант-
![]()
ных, — свидетельство того, что педофилам недостает навыков контролирования своего окружения.
Существуют также некоторые доказательства того, что растлители малолетних являются «незрелыми» и им недостает самоуважения или чувства адекватности. Исследования социальных навыков показывают, что многие растлители малолетних недостаточно уверены в себе (см. ниже), и результаты личностных тестов также указывают на это. Уилсон и Кокс (Wilson, Сох, 1983) предложили заполнить личностные опросники, включая EPQ, членам клуба педофилов в Англии, по показателям которых они оказались интровертированными, застенчивыми, чувствительными, одинокими, подавленными и лишенными чувства юмора. Пэнтон (Panton, 1979а) сравнил заключенных, отбывающих наказание за растление малолетних и за инцест, по показателям MMPI. Обе группы имели высокие показатели по шкалам, указывающим на самоотчуждение, тревогу, чувства неадекватности и небезопасности и подавление агрессии. Преступники, осужденные за инцест, были более социально интровертированными. С другой стороны, Халл с коллегами (На) et al., 1986) не обнаружил никаких характерных паттернов в профилях MMPI, полученных на большой выборке заключенных растлителей детей, и никаких отличительных признаков, касающихся инцеста, изнасилования или применения силы. Они пришли к заключению, что растлители малолетних составляют неоднородную с точки зрения личностных черт группу. Тем не менее только 7 % их выборки имели профиль, полностью попадающий в границы нормы. Существенные превышения критического уровня демонстрировали две трети выборки по шкале Pd и более половины по шкале Sc, что позволило делать следующее предположение: для этой популяции характерны плохая социализация, отчуждение и спутанное мышление.
Еще одна психодинамическая гипотеза состоит в том, что
виктимизация детей представляет собой попытку справиться с травмой от
собственного столкновения с жестоким обращением в детском возрасте; эта мысль
присутствует и в объяснениях сексуального садизма. Финкелхор (Finkelhor, 1986)
указывает, что гипотеза ![]() «цикла жестокого обращения» предсказывает:
жестокое обращение с ребенком должно преобладать у женщин. Однако Картер с
коллегами (Carter et al., 1987) отмечают, что 57 0/0 растлителей
детей сообщили о собственном детском опыте половой агрессии, по сравнению с 23 0/0
насильников. С другой стороны, инцестуозные отцы не часто сообщают о
столкновениях с половой агрессией в детстве, 60лее распространенными являются
плохое физическое обращение и родительское отвержение (Wiliams, Finkelhor,
1990).
«цикла жестокого обращения» предсказывает:
жестокое обращение с ребенком должно преобладать у женщин. Однако Картер с
коллегами (Carter et al., 1987) отмечают, что 57 0/0 растлителей
детей сообщили о собственном детском опыте половой агрессии, по сравнению с 23 0/0
насильников. С другой стороны, инцестуозные отцы не часто сообщают о
столкновениях с половой агрессией в детстве, 60лее распространенными являются
плохое физическое обращение и родительское отвержение (Wiliams, Finkelhor,
1990).
Ответ на вопрос, почему некоторые мужчины реагируют сексуальным возбужДением на детей, обычно содержит ссылку на обусловливание через мастурбаторные фантазии, однако прямые доказательства научения сексуальному возбуждению отсутствуют. Порнография, по-видимому, не является значимым источником научения, так как педофилы редко потребляют порнографическую продукцию в детском возрасте (Quinsey, 1986). Тем не менее, в дополнение к возможному влиянию травматического опыта половой агрессии в детстве, есть некоторые доказательства того, что лица, совершившие половые преступления, приобретают опыт добровольных сексуальных отношений со взрослыми раньше, чем мальчики подросткового возраста в среднем (Longo, 1982). Вероятно, посредством подкрепления и подражания это приводит к более раннему сексуальному эксперименти-
![]()
рованию со сверстниками, хотя само по себе это не объясняет, почему дети возбуждают таких людей больше, чем взрослые.
Некоторые исследования были посвящены изучению стимульных| характеристик, вызывающих сексуальное возбуждение у растлителей малолетних (Freund, 1967). Одно предположение состояло в том, что преступники, совершившие инцест, будут демонстрировать меньшее предпочтение детей. Абель с коллегами (Abel et al , 1967) сравнивали ФПГ-реакции небольших выборок преступников, совершивших инцест, гетеросексуальных педофилов и различных сексуальных девиантов на аудиозапись описаний, предполагающих разную степень согласия и физического принуждения в сексуальных взаимодействиях с детьми, физическую агрессию по отношению к ребенку и секс по обоюдному согласию со взрослой женщиной. По «индексу педофилии» преступники, совершившие инцест, получили более высокие оценки, чем педофилы, которые, в свою очередь, имели более высокие оценки, чем представители контрольной группы. Педофилы, однако, получили более высокие оценки по «индексу агрессии». Было также установлено (Avery-Clark, Laws, 1984), что аналогичный индекс агрессии разграничивал более и менее опасных растлителей малолетних Барбари (Barbaree, 1990) описывает ФПГ-обследование двух групп растлителей малолетних, совершавших преступления в семье и за ее пределами, и непреступной контрольной группы, которым показывали слайды обнаженных девочек и женщин в возрасте от З до 24 лет. Были выделены пять типов профилей (детский, детско-взрослый, неразличающий, подростково-взрослый и взрослый), которые по-разному распределились в этих трех группах. Никто из инцест-группы не реагировал исключительно на детей, большинство демонстрировало взрослый или неразличающий тип реакции. Растлители чужих детей чаще реагировали на детей, треть из них демонстрировала взрослый или подростково-взрослый типы реакций. Эти результаты получены на более широких выборках, чем те, что использовались в исследовании Абеля с коллегами (Abel et al., 1981 и они говорят в пользу той точки зрения, что некоторым растлителям малолетних, и в частности совершившим инцест, не свойственно сексуальное предпочтение детей
Возможно, что научение сексуальным предпочтениям находится под влиянием физиологических переменных, таких как уровень гормонов, однако по данным одного исследования (Rada, Laws kellner, 1976) растлители малолетних не отличались от насильников и от контрольной группы по уровню тестостерона в плазме крови. Однако получены некоторые доказательства наличия у педофилов кортикальной дисфункции. Хакер с коллегами (Hucker et al., 1986) установили, что у гетеро- и гомосексуальных педофилов, по данным компьютерной томографии и нейропсихологических тестов, чаще встречаются аномалии в височной области левого полушария, чем у преступников, осужденных за неполовые преступления Это согласуется с другими данными (Flor-Henry et al., 1991), касающимися ЭЭГ аномалий в доминирующем полушарии у педофилов и эксгибиционистов, и свидетельствует о том, что у сексуальных девиантов нарушены механизмы научения сексуальным предпочтениям Однако это не объясняет специфичность педофилических интересов.
![]() Фактор блокировки связан с
предположением, что растлители малолетних блокированы или заторможены в
формировании взрослых гетеросексуальных отношениЙ и поэтому ищут менее
фрустрирующие взаимодействия. Этот фактор учи-
Фактор блокировки связан с
предположением, что растлители малолетних блокированы или заторможены в
формировании взрослых гетеросексуальных отношениЙ и поэтому ищут менее
фрустрирующие взаимодействия. Этот фактор учи-
![]()
тывается как в психодинамическом понятии страха кастрации, так и в гипотезе теории научения, согласно которой лица, совершившие половые преступления, страдают от дефицита гетеросексуальных навыков. В частности, это применимо к инцесту, который, как считают, является выбором суррогатного партнера в условиях супружеского стресса или неудовлетворенности. В отличие от фактора эмоциональной конгруэнтности эта гипотеза предполагает, что растлители малолетних скорее «подталкиваются» к сексуальным контактам с детьми, чем «притягиваются» благодаря внешней аттракции.
Наличие гетеросексуальной тревоги у растлителей малолетних было продемонстрировано в клинических исследованиях и проективных тестах (Fmkelhor, 1986); эмпирический материал был взят из наблюдений, сравнивающих гетеросексуальное поведение растлителей малолетних, насильников, преступников, осужденных за неполовые преступления, и непреступников. Сегал и Маршалл (Segal, Marshall, 1985), например, установили, что растлители малолетних наиболее некомпетентны в отношениях с женщинами и оценивают себя как более тревожных и менее ассертивных. В то же время Оверхолзер и Бек (0verholser, ВесК, 1986) нашли, что насильники и растлители малолетних демонстрировали одинаковые дефициты социальных навыков, причем последние больше опасались негативных оценок и также считали себя менее ассертивными. Как было установлено, инцестуозные отцы также имеют дефициты социальных навыков и относительно слабую маскулинную идентификацию (Wllhams, Fmkelhor, 1990). Впрочем, семейная изоляция и дезорганизация являются, по-видимому, более значимыми факторами для этих преступников, чем супружеская неудовлетворенность.
Четвертый фактор, растормаживание, касается отсутствия или потери традиционных запретов на половые акты с детьми. Предполагалось влияние как диспозиционных, так и ситуационных факторов. Стереотипное мнение, что растлители малолетних либо страдают старческим слабоумием, либо умственно отсталые, не получило подтверждения. Также нет доказательств наличия в этом случае серьезных психических расстройств (Quinsey, 1986). Постоянное обнаружение высоких показателей по шкале Pd MMPI в тюремных выборках указывает на то, что важной может оказываться недостаточная социализация, хотя она характерна для всей популяции преступников. Исследования инцестуозных отцов, однако, показывают, что тут могут играть роль более специфические факторы в отношениях, такие как слабая привязанность или слабая эмпатия к ребенку (Wilhams, Fmkelhor, 1990). В пользу того, что факторы отношений сами по себе могут иметь большое значение, говорит высокий риск растления для девочек, живущих с отчимами.
Иногда как на возможный фактор при попытке растления детей указывают на алкоголь, но неизвестно, насколько его воздействие специфично именнб для этого типа преступлений. С другой стороны, алкоголь иногда используется как оправдывающее обстоятельство растлителями малолетних (McCaghy, 1968), которые к тому же склонны к оправданиям, представляющим факты в ложном свете. На основе клинических наблюдений Абель с коллегами (Abel et al , 1984) выявили некоторые когнитивные искажения у растлителей малолетних, например убеждения в том, что недостаточное сопротивление со стороны ребенка означает согласие, что ребенок не воспринимает прикосновения к половым органам как насилие, что ребенок приобретет опыт половых отношений и что общество со временем разре-
Таким образом, доказательства в пользу какой-либо из причин
растления детей остаются фрагментарными, но, как показывает этот краткий обзор,
потенциальную роль может играть каждый из этих четырех факторов. Как и в случае
преступных действий вообще, решение совершить растление ребенка, вероятно,
являетсА кульминационным моментом множественных влияний на развитие индивидуума
и сигналов актуальной ситуации.
![]()
ГЛАВА 12
Судебная психология и преступник
Изучение в рамках экспериментальной психологии восприятия и памяти стимулировало ранний интерес к свидетельским показаниям, и в конце XIX в. ряд европейских психологов представили результаты своих исследований, релевантные для уголовных и гражданских судов (Bartoland, Bartol, 1987). В Америке Мюнстерберг (Munsterberg, 1908) приводил доводы в пользу расследования преступлений и судебных процедур, которые основывались бы на психологических исследованиях, но адвокаты и многие из его коллег расценивали такие заявления как экстравагантные. До 1950-х гг. в судах не использовались данные социальных наук при вынесении судебных решений по конкретным делам или при проведении определенной политики, и, несмотря на быстрое развитие судебной психоломи, их использование продолжает быть неравномерным и выборочным (Webster, 1984). Тем не менее психологические знания все чаще применяются при рассмотрении дел физических лиц, о чем и пойдет речь в данной главе.
Термин суДебная психология иногда безосновательно уравнивается с применением психологии в сфере правосудия в целом. Конноли и Мак-Келлар (Connolly, Mckellar, 1963), например, определяли судебную психологию как применение психологии в процедурах судов, действующих по нормам статутного и общего права, в полицейских расследованиях и в родственных областях, таким образом подчеркивая изучение поведения в правовом контексте. Бартол и Бартол (Bartol, Bartol, 1987) также рассматривают судебную психологию и как исследование поведения, связанного с юридическими процессами, включая криминальное поведение, и как профессиональную практику в судебной системе. Однако исследования, имеющие отношение к судебной сфере, обычно предпринимались либо в целях проверки психологических теорий, либо из-за того, что поведение в суде представляет интерес с точки зрения психологии (Monahan, Loftus, 1982), и эти исследования отличаются контекстом приложений психологии, а не какой-то особой теорией или методологией. Подобным же образом, профессиональная практика в системе уголовного правосудия, такая как оказание клинической помощи преступникам, не требует особых методик.
Тем не менее определение «судебная» подразумевает отношение к законной поДсуДности, т. е. к деятельности судебного органа или суда (Haward, 1981;Grisso, 1987), и в объединенной формулировке Американского общества психологии и права и отделения 41 Американской психологической ассоциации судебная психология определяется как:
.все формы профессионального психологического поведения при исполнении, с известной долей благоразумия, роли психологического эксперта по четко определенным психолого-юридическим вопросам в таких областях, как оказание непосредственной помощи судам, сторонам судебного процесса, исправительным и судебно-психиатрическим учреждениям, а также административным, судебным и законодательным органам, связанным с осуществлением судебной власти (Commlttee оп Ethlcal Guldehnes for Forensrc Psychologsts, 1991)
Судебные психологи могут быть по своей профессиональной направленности экспериментальными или прикладными психологами, но в большинстве своем они ориентированы на клиническую работу и потому предлагают доказательства, основанные на индивидуальных обследованиях (Gudjonsson, 1985; Grisso, 1987). Их роль не ограничивается криминальными вопросами, и их все шире привлекают к гражданским делам по опеке над детьми и искам о возмещении личного ущерба. Здесь, однако, будет сделан акцент на психологических доказательствах в уголовных делах.
Психологи и полицейские расследования
Предоставление прямых психологических услуг полиции относительно мало распространено в Великобритании (Вии, 1984), но в США оно имеет давнюю традицию и включает профотбор и тренинг, клинические услуги для полицейских, обучение кризисному вмешательству, а также различные консультативные услуги (Bartol, Bartol, 1987). Предметом исследования были также проведение опознания и допроса подозреваемых в полиции. Однако практически все это выходит за пределы судебной психологии согласно вышеприведенному определению, и наше внимание будет направлено только на консультационные услуги при расследовании специфических происшествий. Две специфические области, в которые психологи внесли определенный вклад, это анализ (определение) профиля преступника и допрос подозреваемых.
Психологический «анализ профиля» («proftling»), или «изучение места совершения преступления» («спте scene analyszs»), имеет целью помочь в розыске (и обнаружении) преступника посредством экстраполяции его личных атрибутов из информации, которую можно получить о преступлении (Holmes, 1989). Хотя дедуктивный ход рассуждения был обычен во многих детективных романах и в составлении психодинамических «портретов» политиков, настоящий интерес возник в кОнце 1970-х, когда полицейские отделения стали привлекать психиатров, а затем и психологов к клиническому интерпретированию действий неизвестных преступников. Последующие методы анализа (определения) профилей, разработанные Отделом поведенческих наук Академии ФБР, привели к развитию более эмпирических подходов к связям между преступлением и характеристиками преступника (Ressler et al., 1989)
Тарко (Turco, 1990) считает, что процесс построения профиля схож с клиническим применением теста Роршаха, — сравнение, которое многие психологи могли бы счесть оскорблением! Согласно Дицу (Dietz, 1985), этот процесс представляет собой генерирование гипотез посредством логического рассуждения. Опираясь на данные наблюдений Отдела поведенческих наук ФБР, он выявляет в этом процессе продвижение через ряд стадий: ассимиляцию (усвоение) данных о преступлении, реконструкцию преступления как поведенческого события, формулирование гипотез о мотивах преступления, формулирование типологических гипотез о лице, совершившем преступление, и, наконец, установление особых (отличительных) характеристик преступника
Цель состоит в сужении области расследования; предполагается, что поведение преступника на месте преступления отражает устойчивые соответствия между личностными чертами и способом совершения преступления (Holmes, 1989). Поэтому основное внимание уделялось серийным преступлениям и сексуальным нападениям, и 90 0/0 попыток определения профиля касаются убийств или изнасилований. Холмс предполагает, что анализ профиля наиболее полезен, когда картина совершения преступления отображает психопатологию, например садистские нападения, изнасилования, сектантские (сатанисты) или культовые убийства. Впрочем, можно найти примеры применения анализа профиля в случаях поджогов, непристойных телефонных звонков и ограблений банков. Акцент на патоломи, по-видимому, отражает предположение, что клиническая экспертиза может пролить свет на «психику убийцы» при совершении странных или кажущихся немотивированными преступлений, и объясняет влияние психодинамических подходов на ранние попытки анализа профиля. Это влияние заметно в тенденции соотносить преступления с типологиями половых преступников, разработанными для клинических целей (глава 11). Однако надежное определение профиля требует эмпирически установленных коррелятов преступлений, которые могут быть проверены на основе данных, полученных при анализе места преступления (Dietz, 1985; Canter, 1989). В этом отношении клинические типологии представляют ограниченную ценность для исследователей.
Кантер (Canter, 1989) предполагает, что действия, совершаемые во время преступления, представляют собой прямое отражение трансакций преступника с другими людьми. Например, убийцы, которые убивают без предварительного взаимодействия с жертвой, вероятнее всего, ведут уединенное существование. Аналогично, район и время совершения преступлений могут иметь отношение к более общим особенностям жизненного стиля преступника. Кантер доказывает, что модели преступного поведения являются необходимым первым шагом в установлении связи данных с места преступления и характеристик преступника. Кантёр и Херитейдж (Canter, Heritage, 1990) описывают поисковое исследование переменных преступления, установленных на основе показаний жертв 66 сексуальных нападений. Применив неметрическую форму многомерного шкалирования, они выявили двумерную, центрированную структуру в этих данных. В центре пространства факторов находились наиболее часто встречающиеся Аарактеристики, такие как вагинальные половые сношения, отсутствие реакции на жертву, применение безличной формы обращения (mpersonal language) и неожиданное нападение, свидетельствуя о том, что использование женщины в качестве сексуального объекта составляет смысловое ядро большинства сексуальных нападений. Однако группирование переменных в двумерном пространстве послужило подтверждением теорий, которые различным образом связывают сексуальное нападение с попытками установления близости, сексуальным удовлетворением, агрессией, безличным взаимодействием и криминальностью (глава 11). Предположительно у разных преступников будут различные комбинации этих переменных.
Допросы подозреваемых проводятся в целях получения признания в совершении преступления, и американских полицейских обучают специальным, относительно эффективным методам ведения допроса. Однако эти методы вызывают беспокойство у общественности из-за возможного принуждения и «выбивания» ложных признаний в некоторых получивших широкую огласку случаях. Ирвинг и Хилгендорф (Irving, Hilgendorf, 1980) характеризуют допрос как процесс манипулирования принятием решения со стороны подозреваемого посредством влияния на соотношение затрат и выгод признания. Например, допрашивающий может подчеркивать последствия чесдного признания, которое будет учтено в суде, вызовет положительное отношение допрашивающего или повысит самоуважение. Эффективность подобной тактики усиливается за счет содержания в тюремных условиях и относительного бессилия подозреваемого.
Многие подозреваемые во время допроса находятся в крайне встревоженном состоянии, а некоторые могут находиться в состоянии интоксикации или оказаться психически больными либо умственно неполноценными. Поэтому, вследствие действия диспозиционных или ситуационных факторов, некоторые из допрашиваемых чрезмерно восприимчивы к приемам убеждения сознаться, в особенности — умственно неполноценные лица. Гудджонсон (Gudjonson, 1984, 1988) разработал Шкалу внушаемости для измерения степени воздействия передаваемых во время формального допроса сообщений на реакции допрашиваемого. Он полатает, что она оценивает копинг-стратегии, используемые для борьбы с неопределенностьр ситуации допроса. Показатели шкалы отрицательно коррелируют с IQ
и ассертивностью и положительно — с тревогой как состоянием и страхом перед негативными оценками (Gudjonsson, 1988); шкала позволяет отличать тех, кто делает ложные признания, от подозреваемых, упорно отвергающих обвинения (Gudjonsson, 1984). Так как не все, кто отказывается от признания в суде, относятся к внушаемым, Гудджонсон использовал свою шкалу для выявления тех, чьи признания могут быть «ненадежными».
Хотя многие подозреваемые признаются в ходе допросов, в руководствах для полицейских уделяется внимание распознаванию обмана. Например, предполагается, что ложь связана с наблюдаемыми поведенческими сигналами (сие», такими как изменения в контакте глаз, тембре голоса и жестикуляции, хотя экспериментальные исследования не подтверждают надежность таких сигналов (Вии, 1984). Впрочем, американские полицейские больше полагаются на полиграфическую регистрацию вегетативных реакций во время задавания вопросов, призванных выявить ожь. Валидность полиграфа как инструмента для психофизиологического исследования не вызывает сомнения (глава 6), однако полезность «полиграфического теста» как Детектора лжи ставится под сомнение.
Поскольку не существует единого паттерна физиологического реагирования в случае лжи, полиграф обнаруживает не «ложь», а, скорее, изменения уровня возбуждения в течение допроса. Регистрируемыми переменными обычно являются кожное сопротивление, дыхание, частота сердечных сокр4щений и кровяное давление, и хотя некоторые полиграфисты применяют систему количественных показателей, большинство полагается на общее визуальное исследование записи (Iacono, Patrick, 1987). Первоначально использовался метод сравнения реакций на «релевантные» вопросы (Это преступление совершили вы?) и нерелевантные вопросы (Сегодня вторник?). Этот метод все еще используется, но считается примитивным, поскольку люди иногда сильнее реагируют на релевантные вопросы не по причине своей виновности, а, например, вследствие сильного раздражения или растерянности. Более распространенным вариантом при отборе сотрудников является метод «релевантных» вопросов из разных областей, при котором релевантные вопросы задаются на различные темы. Этот метод не подвергался специальному исследованию, и даже сторонники полиграфического тестирования сомневаются в его валидности (Raskin, 1988). Некоторые, однако, поддерживают его применение, поскольку он часто приводит к признанию в обмане и может выявить потенциально нечестных сотрудников.
Наиболее часто применяемым при расследовании специфических инцидентов является Тест контрольных вопросов (CQT), в котором ответы на релевантные вопросы сравниваются с другими, касающимися прошлого поведения (например, «Вы когда-нибудь причиняли вред другому человеку?»). Логическое обоснование этого теста, оспариваемое критиками, заключается в том, что виновные больше озабочены релевантными вопросами, а невиновные — контрольными вопросами, поскольку только на последних их можно поймать на лжи. Другой методикой является Тест «виновной» заведомости (ИТ), предложенный Ликкеном, который подчеркивал, что это скорее мера признания, чем детектор лжи (Lykken, 1988). Испытуемому задают вопросы о совершенном преступлении с несколькими вариаАтами ответов, включая «правильные», которые могут быть известны только преступнику (например, применявшееся оружие, цвет одежды). Поскольку вероятность случайного реагирования на некоторые подобные вопросы мала, считается, что GkT защищает невиновных.
Полевые исследования реальных уголовных дел сдерживаются отсутствием независимого критерия обмана и основываются либо на признаниях обвиняемых, либо на заключении группы судебных экспертов. Однако есть разногласия по поводу того, что составляет адекватную проверку точности. Например, Раскин (Raskm, 1988) настаивает на том, что в валидизации нуждается полная оценка, проведенная квалифицированным следователем. Критики же возражают на это, утверждая, что основной вопрос состоит в том, добавляет ли «слепая» интерпретация полиграфа что-нибудь к условиям допроса, поскольку полиграфисты могут опираться в своих решениях больше на поведенческие, а не на психологические реакции (Carroll, 1988; Lykken, 1988). В своей аргументации обе стороны исходят из различных исследований. Раскин (Raskm, 1988) предполагает, что, при условии осмотрительного использования в уголовных расследованиях, точность CQT, вероятно, составит около 95 0/0 для виновных и 85 0/0 для невинных, позволяя провести достоверный скрининг тех, кто прошел тестирование. С другой стороны, Ликкен (Lykken, 1988) пришел к заключению, что CQT дает ошибку в трети или более случаев, и отметил, что тест можно обойти контрмерами, например прикусывая кончик языка во время контрольных воџросов. Он доказывает, что GkT не имеет этих проблем. Однако его использование не распространено, и Раскин считает его применение непрактичным в большинстве расследований.
Вопросы, поднятые в связи с применением методов обнаружения лжи, выходят за пределы исключительно научных вопросов их валидности, так как использование таких методов предполагает намеренное введение в заблуждение, введение в состояние напряжения и вторжение в личную жизнь человека, что может идти вразрез с профессиональной этикой психологов (British Psychological Society, 1986). Поэтому маловероятно, что споры вокруг них удастся легко разрешить будущими эмпирическими исследованиями. Тем не менее стоит отметить, что частота ошибок, сообщаемая в исследованиях обнаружения лжи, ниже той, которую получают в клинических предсказаниях опасности (см. ниже).
Суды в Великобритании оказались более сдержанными в предоставлении психологам слова в уголовных делах (Fitzgerald, 1987). Опрос, проведенный для Британского психологического общества в 1985 г., выявил 185 психологов, которые в качестве экспертов давали свидетельские показания в обычном суде или в судах по пересмотру дел психически ненормальных преступников, являющихся квазисудами, в течение предыдущих пяти лет (Gudjonsson, 1985). Из них 71 % составляли клинические психологи, 22 0/0 — педагогические психологи и около половины выступали при разборе уголовных дел. Тем не менее только меньшинство выступало в суде регулярно, и на каждые 10 представленных заключений приходилось
всего 1—2 устных свидетельских показания. То же относится и к Северной Америке, где представление доказательств в форме заключения для последующего использования в суде является более широко распространенной практикой, чем устное представление доказательств со свидетельской скамьи.
Суды в Англии и Америке опираются на исковую систему, в отличие от инквизиционной системы стран Европы, беспокоясь не столько об установлении истины, сколько о том, чтобы выяснить, может ли быть обвинение доказанным вне всяких обоснованных сомнений (Haward, 1981; СооКе, 1990). В этой системе защита и обвинение излагают дело наилучшим образом и оспаривают версию противной стороны, а свидетельские показания экспертов могут использоваться для того, чтобы укрепить версию обвинения или подорвать ее. Исследование доказательств начинается с первоначального допроса свидетеля выставившей стороной, при котором защитник, вызывая свидетеля, пытается обосновать доводы своего клиента. Свидетель затем подвергается перекрестному допросу представителем противной стороны, который проверяет качество свидетельских показаний эксперта и может оспаривать их достоверность. В ходе допроса свидетеля выставившей стороной после перекрестного допроса защитник стремится свести к нулю любое воздействие перекрестного допроса, хотя никакого нового материала может при этом не представлять.
Правила регламентируют также определение и роль свидетеля-эксйерта, хотя решение о допустимости свидетельских показаний эксперта принимается судьей. Обычный свидетель рассказывает о том, что он наблюдал в момент совершения преступления, а «факты» устанавливаются лицами, решающими вопрос факта, т. е. судьей и присяжными. Свидетель-эксперт не представляет «факты», однако он, благодаря своему образованию и опыту, достаточно квалифицирован (и потому правомочен), чтобы сделать выводы в какой-либо специфической области знания и сформулировать мнение, обладающее приемлемым правдоподобием (Haward, 1981; Таи, 1985). Хотя критерии допустимости свидетельских показаний эксперта варьируют в зависимости от юрисдикции и вида доказательств, Грин, Скулер и Лофтус (Greene, Schooler & Loftus, 1985) приводят четыре традиционных требования:
1) содержание заключения должно быть доступно общему пониманию среднего присяжного;
2) эксперт должен быть, достаточно квалифицированным, чтобы его мнение помогло присяжным;
З) доказательства, о которых свидетельствует эксперт, должны быть научно надежными и общепринятыми внутри научного сообщества;
4) доказательная ценность свидетельства должна перевешивать его преюдициальные эффекты [26] .
Каждый из этих критериев вызывал нерднократные споры.
Впрочем, в вопросе о «нормальном» поведении суды стойко придерживаются ограничительной политики. Например, они обычно принимают доказательства влияния стресса или особых ситуаций на психически больного или умственно неполноценного субъекта, но не делают этого, если человек психически здоров и полноценен. Согласно правовым нормам «вопросы о человеческой природе и поведении в пределах нормального не выходят за рамки опыта и знаний судьи и присяжных» (Fltzgerald, 1987). По этой причине дача показаний об экспериментальных данных, полученных свидетелем, недопустима в Великобритании, хотя разрешена в американских судах, когда опознание подсудимого является вопросом, подлежащим обсуждению в суде. В то время как психологи могут испытывать возмущение из-за сокращения сферы их компетенции до «здравого смысла», из их собственных рядов выдвигается схожий аргумент. Мак-Клоски и Эгет (McCloskey, Egeth, 1983), например, подвергают сомнению обоснование полезности свидетельских показаний эксперта относительно надежности свидетеля, доказывая, что нет достаточных доказательств того, что присяжные либо чрезмерно доверяют свидетелям, либо лучше разбираются в деле, когда им представлены свидетельские показания эксперта. Это активно оспаривается Лофтус и ее коллегами (Greene, Schooler & Loftus, 1985; Goodman, Loftus, 1988). Тем не менее Пачелла (Pachella, 1988) идет дальше и приводит аргументы в пользу исключения свидетельских показаний экспертов-психологов из всего уголовного судопроизводства, говоря, что они не выходят за пределы области обычного опыта. По его мнению, психологические знания отличаются от знаний непрофессионалов большей структурированностью и большей объяснительной силой, но они не обязательно более обширные.
Критерий квалификации свидетеля-эксперта представляется менее спорным. Тем не менее юристы обычно не разбираются в процессе подготовки различных специалистов-психологов и часто привлекают психологов, не компетентных в данной конкретной области (Haward, 1987). Профессиональная этика должна обязать их отказаться свидетельствовать.
Наконец, ставится вопрос о том, является ли психологическая экспертиза 60лее доказательной, чем преюдициальной. Возможно, например, что присяжные под влиянием показаний эксперта будут чрезмерно скептически настроены по отношению к надежности свидетелей (McCloskey, Egeth, 1983). Несмотря на эти дискуссии, психологическая экспертиза, по-видимому, становится все более популярной в судах (Gudjonsson, 1985).
Вклад психологов в судебную процедуру выходит за рамки свидетельствования о психическом состоянии подсудимого, и экспертиза может производиться в отношении поведения свидетелей или жертв. Адвокаты чаще всего обращаются за помощью к экспертам, а тип вопроса отчасти зависит от их знакомства с наукой психологией, отчасти от изобретательности психологов в переводе судебных проблем в плоскость психологических вопросов. Хавард (Haward, 1981), авторитетная фигура в судебной психологии в Великобритании, описывает целый ряд ее достижений, таких как воссоздание психического состояния предполагаемого магазинного вора, находящегося под воздействием комбинации определенной дозы барбитуратов и алкоголя; установление водительских навыков подростков с умственной неполноценностью и демонстрация влияния перцептивной установки или ситуационных условий на полицейские доказательства.
Хавард (Haward, 1981) считает, что при подготовке применимого экспертного заключения судебный психолог принимает на себя одну из четырех функций. Как экспериментатор, психолог может обобщить научные данные, полученные в экспериментах или исследованиях, провести лабораторное или полевое исследование, чтобы продемонстрировать вероятность какого-либо эффекта. Как пиницист, психолог применяет клинические методы оценки, большей частью с целью установить некоторый аспект психологической способности, возможности или излечимости. Как статистик, психолог использует опубликованные данные, чтобы установить возможность некоторого происшествия, например восстановить условия, при которых, как утверждает свидетель, он видел событие. Наконец, как консультант, психолог может помочь адвокатам, например, делая наблюдения о психологических характеристиках очевидца, не выступая в качестве свидетеля. В США некоторые психологи выступают в качестве консультантов при отводе лиц, подобранных в коллегию присяжных, или при voir dire [27] (Nietzel, Dillehay, 1986).
На предварительном этапе подготовки заключения следует удостовериться в том, что переданный на рассмотрение вопрос попал точно по адресу и что к нему применима психологическая оценка (Weiner, 1987). Хотя некоторые психологи полагаются на поведенческие оценки или интервью, заключение обычно пишут исходя из данных специально подобранных тестов, которые в Великобритании чаще всего заимствуются из интеллектуальных и нейропсихологических тестов (Gudjonsson, 1985). Выбор тех или иных тестов должен быть обоснованным. Тем не менее существует конфликт между критериями для экспертного заключения, такими как стандарт Фрая[28], диктующий консервативный набор установленных инструментов (Таи, 1984), и потребностью психологов использовать новые методы, более чувствительные к современным судебным проблемам (Lanyon, 1986b; Grisso, 1987). В этом контексте были разработаны несколько измерительных средств, например Шкала внушаемости Гудцжонсона (Gudjonsson, 1984). Другими примерами, имеющими отношение главным образом к Северной Америке, являются Шкалы оценки уголовной ответственности Роджерса (Rogers Criminal Responsibilzty Assessment Scales), которые измеряют психологические переменные, релевантные стандарту АИ (Американского института права) для защиты ссылкой на невменяемость (Rodgers, 1987), и Междисциплинарное интервью пригодности (Interdzsciplinary Fitness Interuew) для оценки дееспособности, которое может быть проведено совместно юристом и психологом (Roesch, Gold, 1987). Независимо от вида применяемых методов, психологи должны хорошо разбираться в тонкостях тестов, которые они используют. Матараццо (Matarazzo, 1990) отмечает, что некоторые юристы стали настолько сведущими в психометрических вопросах, что могут с пристрастием допрашивать свидетеля о таких вещах, как тестовая надежность, стандартные ошибки измерения и смысл корреляций между субтестами.
Роль психологической экспертизы на разных этапах уголовного судопроизводства варьирует в правовых системах Великобритании и Америки, но обычно представлена в трех аспектах (Fersch, 1980; Gudjonsson, 1986). До начала судебного разбирательства основным вопросом является способность участвовать в судебном производстве, или дееспособность, что требует оценки актуальных способностей ответчика. Как отмечалось в главе 10, это теперь редко проводится в Англии и зависит от психиатрической экспертизы, но в Северной Америке оценка способности отвечать перед судом входит в круг основных задач судебных психологов (Lanyon, 1986b; Roesch, Gold, 1987). Пендлетон (Pendleton, 1980) описывает клинический вариант этой роли в калифорнийской больнице, в которой тренинг навыков, использованный вместе с психиатрическим лечением, привел к восстановлению способности отвечать перед судом и позволил предстать перед судом 90 0/0 людей, первоначально признанных неспособными к этому.
На стаДии судебного разбирательства доказательства могут представляться свидетелем-экспертом в связи с actus reus (сознательное противоправное действие) либо mens теа (виновная воля) требованиями. Actus reus касается того, имело ли место предполагаемое преступление и участвовал ли в нем подсудимый, и во многих делах экспертами представлялись экспериментальные данные, касающиеся таких вопросов, как надежность доказательств, перцептивные искажения у свидетелей и отказ от сделанного признания (Haward, 1981; Gudjonsson, 1986). При установлении психического состояния подсудимого в целях опровержения теш rea или подтверждения ограниченной вменяемости либо уменьшения вины рассматривается функционирование во время преступления, и заключение психолога неизменно уточняет и дополняет заключение психиатра. Опять же, защита ссылкой на невменяемость более применима в Северной Америке, а в Великобритании психологи способствовали доказательству «дефекта рассудка», обычно фокусируясь на интеллектуальном функционировании.
После осуждения, на стадии назначения наказания, рассматриваются возможные варианты завершения процесса. Направление на лечение в спецбольницу по приказу суда зависит от психиатрических рекомендаций, но суды все больше и больше следуют психологическим рекомендациям выбрать воздействие на правонарушителей средствами общины (под психиатрическим наблюдением по судебному приказу о пробации) либо отсроченный приговор или условное наказание, например в случаях лиц, совершивших половое ненасильственное преступление, или магазинных воров с психологическими нарушениями (Brown, 1985). В таких случаях план лечения обычно запрашивается адвокатом защиты или сотрудником службы пробации. Когда пациенты заключаются под стражу по Закону о психическом здоровье, психологи также проводят экспертизу для судов по пересмотру дел психически ненормальных преступников. Хотя обязательными являются только психиатрические заключения, психологическая экспертиза все чаще применяется для оценки интеллектуального функционирования, расстройств личности, половой девиации или насилия, особенно в отношении длительного содержания под стражей и излечимости пациентов, страдающих психопатическим расстройством и психической ущербностью.
Роль свидетеля-эксперта поднимает многие профессиональные и этические проблемы для психологов. Прежде всего, большинству тех, кто появляется в суде только эпизодически, естественно, недостает необходимых навыков в представлении суду письменных и устных показаний. Бродский-и Роби (Brodsky, Robey, 1972) сравнивали «ориентированных на зал суда» и «незнакомых с залом суда» психологов. Незнакомый с залом суда свидетель не умеет общаться с юристами, подготавливает заключение как будто для конференции, а не для неподготовленной аудитории, не понимает систему защиты или сущность свидетельского показания эксперта, а также проявляет тревожность, сыплет техническими подробностями, запутывается в показаниях на свидетельском месте. Такой психолог впоследствии порождает разговоры о непреодолимой пропасти между психологией и судебной сферой! Хотя многие психологи в Северной Америке теперь «ориентированы на зал суда» и существуют специальные курсы (Heilbrun, Annis, 1988), отсутствие подготовки все еще составляет проблему в Великобритании, „где спрос на подготовленных психологов пока не настолько велик, чтобы появилась мотивация к приобретению соответствующих умений.
Тем не менее мнения психологов относительно этичности их участия в уголовных судах разделились. Система состязательности в суде, с ее акцентом на пристрастности, чужда традициям психологии как науки и как помогающей профессии, ибо психологи и так довольно часто выражают беспокойство по поводу расширения деструктивных аспектов своей деятельности (Tunstall et al., 1982). Не редкость, например, когда данные тестирования используются в суде неправильно, а конфиденциальные подробности тестовых оценок и их интерпретация озвучиваются вопреки профессиональным обязательствам неразглашения (Наward, 1987). Ферш (Fersch, 1980) считает, что, участвуя в судебном разбирательстве, психологи не имеют возможности строго придерживаться этических стандартов. Психологи, занимающиеся принудительным лечением преступников или прогнозированием опасности, могут выглядеть в глазах других менее компетентными в профессиональном плане. Представляя экспертное заключение суду, они сталкиваются с конфликтом лояльности, который может превратить их из защитника в соперника подсудимого, поскольку клиентом, запросившим от них услугу,
В Зак 364
является судебный чиновник. Они не могут, следовательно, действовать исключительно в интересах тех, кого оценивают. Ферш, вслед за Сасом, считает, что психологи не должны оценивать или лечить клиентов-недобровольцев. Хотя у этой позиции, вероятно, немного сторонников, она тем не менее близка к другим критическим моментам роли психолога в качестве свидетеля-эксперта. Тем не менее возросшее внимание к этим вопросам нашло отражение в последней публикации инструкций для психологов, которым приходится выполнять свою роль в суде регулярно или от случая к случаю (Committee оп Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991).
От судебных психологов часто требуют спрогнозировать, или предсказать, вероятностр совершения индивидуумом нЬвых преступлений. Клиническое предсказание опасности особенно спорно и исследуется в следующем разделе. Тем не менее криминологи проявляют устойчивый интерес к получению эмпирических предикторов криминального поведения (Утоп, 1971; Farrington, Tarling, 1985;, Glaser, 1987) Рассмотрим сначала наиболее общие вопросы прогноза в криминологии.
Конкретная цель состоит в выведении статистических или актуарных прогнозирующих индексов, которые объективно указывают оптимальное решение. Этот подход обычно противопоставляется клиническому прогнозу, который предполагает субъективную оценку риска (Meehl, 1954, 1986). Это чрезмерно упрощает задачу принятия решения, которая зависит не только от степени клинического или статистического объединения данных, но и от характера объединяемых данных (Sawyer, 1966). Клинические суждения, например, могут быть количественными и составлять часть статистического предиктора, в то время как последний может быть одним из элементов в принятии клинического решения. Тем не менее последующее обсуждение фокусируется на статистической комбинации «объективных» данных, таких как биографические детали или показатели психологических тестов.
Прогностическое решение требует информации в форме преДиктора (прогнозирующего параметра), который связан с интересующим критерием, таким как последующее нарушение режима условно-досрочного освобождения. Прогностиче-
Предсказание в криминологии
![]()
ские исследования стремятся определить факторы риска, которые максимизируют точность предсказания критерия в единицах уменьшения ошибок, однако точность, или валиднбсть, зависит от надежности как предиктора, так и критерия. Предикторы в уголовной юстиции зачастую представляют собой сведения из досье по делу, надежность которых ограничена из-за низкого качества материалов. Надежность критериев в форме задержания или повторного осуждения также ослаблена дискреционными факторами, определяющими официальные отчеты. Кроме того, вряд ли единичное событие, например последующее преступление, может надежно показать «успех» или «неудачу». Единичные акты зависят от ситуационных и случайных факторов, так же как и от индивидуальных склонностей (глава 1), но, как будет отмечено ниже, прогностические исследования пренебрегали вопросом о том, какие критерии являются надежно предсказуемыми.
Отношение между предиктором и критерием, каждый из которых принимает два значения, можно представить в виде матрицы 2 х 2 (см. рис. 12.1, А). Предположим, что предиктор является фактором, чье наличие (+) коррелирует с критерием рецидивизма насильственных преступлений (+), а отсутствие (—) — с отсутствием рецидива или, иначе говоря, критерия (—). Решением может быть задержание и помещение под стражу тех, кто демонстрирует данный предиктор, и освобождение тех, кто его не демонстрирует. Правиьное положительное решение («попадание») имеет место, когда предиктор правильно предсказывает результат (а на рис. 12.1, А); а принятие ошибочно положительного решения («ложная тревога») происходит том случае, если, несмотря на присутствие предиктора, преступник не становится рецидивистом (Ь на рис. 12.1, А). Аналогично, правильное отрицательное решение («попадание») принимается, когда отсутствие предиктора совпадает с отсутствием рецидивизма, а ошибочно отрицательное («пропуск цели») — когда рецидивист ошибочно идентифицируется как нерецидивист. Общая точность предиктора имеет вид: (а + d) / N, и желательный предиктор — тот, который максимизирует точные «попадания» (а и d) и минимизирует ошибки или «промахи» (Ь и с). Тем не менее, хотя ошибочно положительное и ошибочно отрицательное решения одинаково нежелательны в научных исследованиях, они имеют разные социальные последствия. Высокий процент «пропусков цели» (с/(с + ф) нежелателен с точки зрения общества, поскольку использование предиктора ведет к освобождению многих, кто небезопасен для него. Напротив, высокий процент «ложных тревог» (b/(a + Ь)) нежелателен с точки зрения гражданских свобод ввиду того, что использование предиктора ведет к заключению многих из тех, кто «безопасен». Чрезмерное внимание к той или иной ошибке, следовательно, отражает социальные ценностные суждения относительно того, чьи интересы следует защищать.
Эффективность предиктора определяется тем, насколько сделанный по нему прогноз отличается от случайного. Это зависит не только от его корреляции с критерием, но и от базисного уровня (base rate), который определяется как частота критерия в целевой популяции (Meehl, Rosen, 1955). Предположим, что исследователь идентифицирует предиктор, который представлен у 40 из 50 рецидивистов и отсутствует у 40 из 50 нерецидивистов (рис. 12.1, Б). Базисный уровень рецидивизма в этой выборке — 50 0/0, а общая точность предиктора — 80 0/0 ((40 + 40)/100). Процент «ложных тревог» равен 20 0/0 (10/(40 + 10)), так же как и процент «пропусков цели» (2096). Вероятность рецидивизма при наличии данного предиктора,
![]()
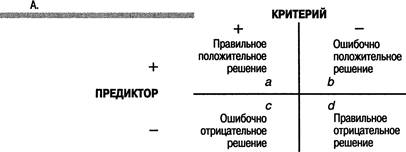 ПРЕДИКТОР
ПРЕДИКТОР
Б. Базисный уровень = 5096
![]() КРИТЕРИЙ
КРИТЕРИЙ
|
40 (8096 из 50) а |
10 (2096 из 50) |
|
10 (2096 из 50) 50 |
40 (8096 из 50) 50 |
ПРЕДИКТОР
N=100
В. Базисный уровень = 9096
![]() КРИТЕРИЙ
КРИТЕРИЙ
|
72 (8096 из 90) а |
2 (2096 из 10) |
|
18 (200/0 из 90) 90 |
8 (8096 из 10) 10 |
ПРЕДИКТОР
N=100
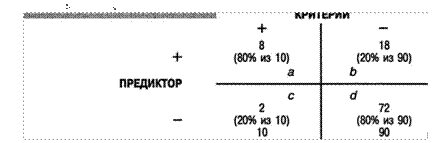 ПРЕДИКТОР
ПРЕДИКТОР
Рис. 1 2.1 . Базисные уровни и предсказуемостная эффективность (см. текст)
Глава 12 Судебная психология и преступник
![]()
следовательно, равна 0,8, а вероятность отсутствия рецидива при отсутствии предиктора также равна 0,8.
Этот предиктор сравнительно эффективен, так как он правильно
идентифицирует на 30 0/0 больше представителей данной популяции, чем
можно было бы обнаружить случайно, т. е. на базисном 5096-ном уровне. Однако
это не относится к выборкам, имеющим другие базисные уровни критерия. Если
базисный уровень в новой выборке равен 90 0/0 (рис. 12.1, В), доля
«ложных тревог» сокращается до 2,7 % (2/(72 + 2)), однако доля «пропусков цели»
теперь составляет 69 0/0 ![]() (18/(18 + 8)). Присутствие предиктора,
следовательно, ведет к уверенйому решению, но его отсутствие дает больше
неправильных, чем правильных решений Кроме того, хотя общая точность остается
равной 80 0/0, этот предиктор в действительности дает больше ошибок,
чем в том случае, если бы предсказание опиралось исключительно на базисный
90%-ном уровень и все члены выборки рассматривались бы как рецидивисты.
(18/(18 + 8)). Присутствие предиктора,
следовательно, ведет к уверенйому решению, но его отсутствие дает больше
неправильных, чем правильных решений Кроме того, хотя общая точность остается
равной 80 0/0, этот предиктор в действительности дает больше ошибок,
чем в том случае, если бы предсказание опиралось исключительно на базисный
90%-ном уровень и все члены выборки рассматривались бы как рецидивисты.
Аналогичная проблема возникает, когда базисный уровень составляет только 10 0/0 (рис. 12.1, Г). В этом случае доля «пропусков цели» составляет только 2,7 0/0, а доля «ложных тревог» теперь равна 69 0/0. Фактически, две трети предсказанных рецидивистов не совершат новых преступлений. К тому же, хотя общая «точность прогноза по-прежнему составляет 8096, она снова меньше получаемой путем огульного предсказания на основе базисного уровня, что все в выборке являются нерецидивистами. Эти проблемы возникают всякий раз, когда базисный уровень критерия низок, как это обычно имеет место в случае повторного совершения насильственных преступлений. Как показывает Кертис (Curt1s, 1971), для «победы» над низким базисным уровнем требуются предикторы, чья связь с критерием сильнее, чем это обычно бывает при клиническом или актуарном предсказании Следовательно, эффективность может зависеть от предсказания по подгруппам, базисный уровень критерия в которых близок к 50 0/0
Еще одно ограничение на предсказуемостную эффективность накладывает коэффициент отбора (selectton ratzo), который представляет собой процентное отношение отобранных как положительных (т. е. демонстрирующих критерий) по заданному предиктору. Оптимальная эффективность требует, чтобы коэффициент отбора был равен базисному уровню, однако коэффициент отбора может быть изменен в целях изменения доли «ложных тревог» или «пропусков цели». Например, если предиктор является непрерывным показателем, точка отсечения может быть поднята, чтобы давать меньше положительных предсказаний. Однако, хотя это уменьшит количество «ложных тревог», это также уменьшит долю правильных положительных решений.
Таблицы прогнозирования были впервые созданы американскими криминологами в 1920-х гг. Поскольку в таких таблицах основной упор делается на криминальных и демографических переменных, их иногда называют эмпирическими таблицами (ехрейепсе tables) или таблицами ожидаемого базисного уровня. В 1950-х социологи-актуарии работали в тюрьмах Иллинойса, оказывая посильную помощь в принятии решений об условно-досрочном освобождении заключенных, но применение таблиц прогнозирования в других обстоятельствах огра-
![]()
ничивалось лишь отдельными случаями (Glaser, 1987). Они имеются в распоряжении национальных комиссий по условно-досрочному освобождению Англии и Северной Америки, и есть свежие примеры их использования для принятия решения относительно залога, судебного преследования и вынесения приговора (Glaser, 1987), а также относительно изменения меры пресечения (Brennan, 1987b). К тому же они используются как средство статистического контроля в исследованиях результата пенитенциарных вмешательств. Например, когда случайное распределение осужденных по разным программам неосуществимо, уровни предсказываемого рецидивизма могут использоваться при сравнении воздействия программы на разные группы риска или при сравнении фактических результатов с ожидаемыми.
Таблица прогнозирования устанавливает вероятность будущего криминального поведения группы (а не отдельных лиц), определяемой комбинацией характерных признаков. Хотя в исследованиях может изучаться большое количество переменных, прогноз не улучшается намного при их добавлении из-за взаимодействий между ними, и обычно для получения прогнозного показателя комбинируется небольшое их число. Эта комбинация может быть простым сложением невзвешенных оценочных баллов для каждого предиктора (метод Бургесса). Однако чаще это линейная взвешенная сумма (total), а весовые коэффициенты получаются при помощи метода множественной регрессии, хотя в ряде исследований использовались более сложные модели (Gottfredson, 1987). Прогнозные показатели могут разбиваться на классы, различающиеся по уровню риска, или может выводиться оценка вероятности совершения новых преступлений (Ward, 1987). Например, Прогнозный показатель повторного осуждения (Reconviction Prediction Score), разработанный для Английской комиссии по условно-досрочному освобождению (English Parole Board) и построенный на более ранних исследованиях Манхейма и Уилкинса (Mannheim, Wilkins, 1955), представляет собой сумму взвешенных показателей по 16 переменным, таким как возраст на момент первого осуждения, характер совершенного преступления, время, проведенное на последней работе, и т. д., которые, после суммирования, переводятся в процентиль вероятности последующего осуждения (Ward, 1987). Другой подход связан с использованием древа решений. В качестве примера можно привести Диагностическую схему для оценки риска преступного нападения (Assaultive Risk Screening Sheet), разработанную Мичиганским департаментом исправительных учреждений (Michigan Department of Corrections) (Monahan, 1981). «Да—нет» выбор по каждой из шести переменных (например, описание преступления соответствует грабежу с насилием, сексуальному нападению или убийству; первое задержание до 15-летия) дает пятиступенчатую классификацию риска дальнейшего задержания за насильственное преступление.
Переменные, используемые как предикторы, чаще всего являются биографическими данными. Причард (Pritchard, 1979) обобщил результаты 71 исследования, в которых биографические данные связывались с рецидивизмом. Чаще всего в них выделялись следующие пункты: тип преступления, первый арест до 18-летнего возраста, предшествующие судимости, наличие стабильной работы, жизненные планы, текущий доход и злоупотребление психоактивными веществами в прошлом (алкоголем и опиатами). Этот тип информации используется во многих актуарных исследованиях рецидивизма, равно как и при предсказании плохого
в криминологии
![]()
поведения в исправительном учреждении (Brennan, 1987b). Тем не менее прочность любой связи между предиктором и критерием зависит от выборки и средовых характеристик и, вероятно, варьирует во времени. Следовательно, таблицы прогнозирования, скорее всего, нельзя применять за рамками локальных условий. Прогнозный показатель повторного осуждения, например, применим только по отношению к заключенным мужского пола, осужденным на срок не менее двух лет, и предсказывает риск повторного ареста в пределах двух лет. Применяемый с этой целью, он оставался устойчивым на выборках, разделенных почти десятилетием (Ward, 1987).
Хотя наиболее частым критерием является совершение новых преступлений, было предпринято несколько попыток предсказать совершения преступлений с применением насилия в будущем. Они не были достаточно успешны, особенно из-за проблемы низких базисных уровней критерия. Венк, Робисон и Смит (Wenk, Robison & Смит, 1972) описывают три попытки предсказать насилие среди условно-досрочно освобожденных в Калифорнийском департаменте по делам молодежи (Califomia Youth Authority), каждая из которых дала высокий процент «ложных тревог». В одном исследовании, например, 100 биографических переменных, включая совершение насилия в прошлом, психиатрические диагнозы и показатели психологических тестов, были получены для более чем 4000 заключенных. Базисный уровень совершения новых насильственных преступлений в течение 15 месяцев последующего наблюдения составил 2,5 0/0, и наилуЧший статистический предиктор идентифицировал бы 50 0/0 нарушителей режима условно-досрочного освобождения, но с долей «ложных тревог», доходящей почти до 90 0/0. Авторы считают попытки предсказать процент официально регистрируемых насильственных преступлений бесполезными из-за ненадежности критерия. Холланд, Холт и Беккет (Holland, Holt & Beckett, 1982) пришли к аналогичному выводу на основании полученных ими данных о том, что рецидивизм насильственных преступлений не предсказывался по материалам досье совершенных лицом актов насилия.
Попытки предсказать насилие, возможное в будущем у внебольничных психиатрических пациентов, также наталкиваются на проблему высокого процента «ложных тревог» (Сосоиа, Steadman, 1974), даже с базовыми уровнями в 2596 (klassen, 0'Connor, 1989). Поэтому современные исследования сконцентрировались на предсказании агрессивного поведения в краткосрочной перспективе, и притом в больничной обстановке. Конвит и коллеги (Convit et al., 1988) разработали прогнозный показатель, выводимый на основе фактов судимости за насильственное преступление, интенсивных суицидальных попыток, неврологических нарушений и девиантной семейной среды. Хотя этот предиктор дифференцировал агрессивных и неагрессивных пациентов, оптимальный критический показатель давал около 60 0/0 прогнозов типа «ложная тревога» и 20 0/0 прогнозов типа «пропуск цели». Авторы обобщают близкие по тематике исследования, показывающие сопоставимые результаты. Палмстиерна и Вистедт (Palmstierna, Wistedt, 1990) пришли к выводу, что биографические переменные, обычно упоминаемые как предикторы насилия, оказались даже менее эффективными при прогнозе агрессивного поведения пациентов стационара в первые 8 или 28 дней после госпитализации. Впрочем, ограничение этих исследований заключается в том, что они стремятся предсказать действия агрессивного характера в окружении, которое
![]()
преследует цель минимизировать насилие при помощи фармакотерапии и средств социального контроля.
Доверие к статическим биографическим данным как предикторам критиковалось за пренебрежение влияниями на последующее антисоциальное поведение тюремного заключения или лечения в спецбольнице и среды, в которую вернутся преступники (Sutherland, Cressey, 1970; Simon 1971; Clarke, 1985). Тем не менее Бонта и Мотюк (Bonta, Motiuk, 1985) описывают схему стандартизированного интервью Вопросника для определения уровня надзора (Level of Supervision Inventory; LSI), в котором биографические данные сочетаются с такими нестатическими переменными, как текущее место работы, семейные проблемы и аттитюды к нарушению закона. LSI предсказывает рецидивизм у лиц, отбывающих пробацию, и эффективность пребывания в «домах на полпути». В некоторых исследованиях также рассматривались личностные переменные (глава 8). Диагноз «психопатия» предсказывает рецидивизм (Ganzer, Sarason, 1973; Black, Spinks, 1985; Hare, McPherson & Forth, 1988), и психомоторные тесты также могут быть здесь полезны (Roberts et al., 1974). Тем не менее исследования, использующие опросники, например MMPI или CPI, не дали согласованных результатов и, в лучшем случае, позволяют говорить об умеренном вкладе этих инструментов в предсказание будущего криминального поведения. Гох, Венк и Розинко (Gough, Wenk & Rozynko, 1965) обнаружили, что наилучшим предиктором нарушения режима условно-досрочного освобождения была комбинация таблицы ожидаемого базисного уровня и шкал CPI, в особенности шкалы социализации (So), а таблица ожидаемого базисного уровня была наилучшим одиночным предиктором. Полезность So в целом подтверждена, но стандартные клинические шкалы MMPI оказались слабыми предикторами рецидивизма (МасК, 1969; Gendreau et al., 1979). Впрочем, на сегодняшний день отсутствует и теоретическое обоснование, связывающее клинические шкалы MMPI с рецидивизмом.
Исследовалась также полезность личностных переменных при предсказании насилия в режимных учреждениях и после освобождения из них. Мегарджи (Меgargee, 1970) сделал обзор исследований валидности структурированных личностных опросников и показателей проективных тестов агрессии. В целом сообщалось о положительных связях, но они обычно имели более низкий уровень, и большинство исследований были «постдиктивными», а не предиктивными. Впрочем, умеренный вклад личностных мер в прогнозирование был установлен в последующих исследованиях. Структурированные оценочные шкалы позволяют предсказывать нарушение дисциплины в режимных учреждениях (Dav1s, 1974b; Фау, 1984), и Пантон (Panton, 1979b) сконструировал шкалы из пунктов MMPI для предсказания некоторых аспектов тюремного поведения. Щкала приспособления к тюремной иерархии (Ар) имела общую точность 7496 при выявлении тех, кто совершает серьезные нарушения дисциплины за трехлетний период; доли прогнозов по типу «ложная тревога» и «пропуск цели» составили каждая по 25 0/0. Базисный уровень в этом случае был равен 500/0. Мера склонности к побегу (ЕС), однако, имела более высокий процент «ложных тревог» и вряд ли имела значительную прогнозирующую силу из-за низкого базисного уровня такого поведения.
Специфические шкалы могут принести больше пользы при сочетании с другими переменными (Gearing, 1979). Хейлбрун и Хейлбрун (Heilbrun, Heilbrun, 1985) нашли, что комбинация психопатии (Pd минус So), низкого IQ и социаль-
![]()
ной самоизоляции предсказывала опасность заключенного, а при добавлении совершенного в настоящем преступного насилия эта комбинация предсказывала еще и агрессивность в течение условно-досрочного освобождения. В пятилетнем последующем наблюдении преступников с психическими расстройствами, выписанных из английской специализированной больницы, Блэк и Спинкс (Black, Spinks, 1985) также обнаружили, что специфические шкалы MMPI (стандартные Еи Pd шкалы, шкалы экстраверсии и импульсивности) коррелировали и с последующим насилием, и с рецидивизмом вообще, й многое добавили к истории преступления в аспекте предсказания поведения после освобождения. Холл (Най, 1988) сообщает, что некоторые шкалы MMPI вносили вклад в предсказание рецидивизма у лиц, совершивших половое преступление.
Ограниченное использование техники прогнозов при вынесении приговоров по уголовным делам частично обусловлено общим недоверием к статистическому прогнозу, несмотря на доказательства того, что он превосходит клинический прогноз (Meehl, 1954, 1986; Sawyer, 1966). Кроме тоМ, это также обусловлено сравнительно низкой способностью актуарных индексов в предсказании будущих преступлений, и корреляции с мерами критерия редко превышают 0,4 (S1mon, 1971). Кларк (Clarke, 1985) считает, что прогностическое исследование предполагает наличие диспозиционной причины преступления, которую оно не может подтвердить. Тем не менее постоянное обнаружение того, что прошлое криминальное поведение является лучшим предиктором совершения преступлений в будущем, представляет собой primafacie[29] демонстрацию криминальности как сравнительно устойчивой склонности. Как отмечает СаЙмон (Simon, 1971), методы прогнозирования сравнительно эффективны на краях распределения показателя, как и предполагается диспозиционной концепцией криминальности, но для большинства преступников, находящихся в средней области распределения, существуют ограничения на предсказание будущего поведения на основе биографических сведений. Этот тот самый случай, когда критерий ненадежен.
Тем не менее в той мере, насколько прогностические методы дают лучшие результаты, чем случайный или традиционный клинический прогноз, их использование может считаться оправданным, и Глазер (Glaser, 1987) полагает, что их использование будет расширяться. Лучшие результаты могут быть следствием лучшего измерения как предикторов, так и критериев (Gottfredson, 1987). Выбор предикторов, например, должен определяться теорией, а не «вынужденным эмпиризмом», а множественные меры «благоприятного исхода» могут оказаться лучше прогнозирующими вероятность повторного ареста или повторного осуждения преступника, чем простые дихотомии.
Вероятность того, что человек нанесет вред другим людям, может привести к его превентивной изоляции либо в исправительном учреждении, либо в психиатрической больнице. Вопросы, при решении которых рассматривается будущая опасность, включают поручительство (внесение залога); вынесение приговора, условно-досрочное освобождение, направление на принудительное лечение или
![]()
освобождение психически больных, освобождение преступников с психическими расстройствами и даже приведение в исполнение смертного приговора (Shah, 1978; Най, 1987). Лица, принимающие судебные решения, часто полагаются на суждения специалистов по охране психического здоровья (преимущественно психиатров), но данные, собранные в течение 1970-х, позволяют заключить, что их суждения об опасности были в высшей степени неточными (Ennis, Litwack, 1974; Monahan, 1981). Хотя предсказания специалистов являются не очень точными во многих областях, неточность в предсказании совершения насилия имеет более серьезные практические, моральные и политические последствия (Мопаhan, 1981). Например, поднимаются вопросы о том, насколько риск оправдывает задержание, или как много решений по типу «ложная тревога» может быть допущено при защите общества от опасных больных или преступников. Очевидность неточности предсказаний выливается в призывы борцов за гражданские права исклочить участие клиницистов в принятии решений о превентивном заключении, и, кстати говоря, эта позиция поддерживается многими клиницистами (Stone, 1984; Bowden, 1985).
Парадокс заключается в том, что стремление легалистов ограничить критерии принятия решения о препровождении в режимное учреждение лиц с психическими нарушениями только неизбежной опасностью для себя и для других привело к большей опоре на клиницистов, которые, собственно, и должны определять степень этой опасности, и в США это распространилось на более широкую клиническую практику. Например, в 1976 г. клиент психолога из Калифорнии убил Татьяну Тарасову, к которой имел патологическую привязанность, через два месяца после того, как психолог сообщил полиции о том, что это может случитБся. В деле Тарасова против Членов правления Калифорнийского университета Верховный суд постановил, что клиницисты имеют правовую обязанность предупреждать третьих лиц, для которых их клиенты представляют опасность. Это решение имело серьезные последствия для практики в сфере охраны психического здоровья, заставив клиницистов добиваться содержания под стражей клиентов, чтобы избежать ответственности за возможное насилие (Wettstein, 1984; АрреЉаит, 1988). Хотя многие доказывают, что эти полицейские функции компрометируют психолога как человека, оказывающего профессиональную помощь, Монахан (Мопаhan, 1981, 1984) возражает на это, что уравновешивание интересов клиентов и общества является неизбежной составляющей многих помогающих профессий.
Несмотря ни на что, предсказание опасности продолжает оставаться востребованным, однако предсказуемостная способность клиницистов вызывает большие сомнения. Основной вопрос в том, что предсказывается. «Опасный» (danger) означает риск вредных последствий, а «опасность» (dangerousness) может являться свойством действий, ситуаций или людей. В судебной сфере это опасность конкретного человека, но то, что является вредящим, во многом зависит от ценностей. Одна из проблем, возникающая при описании человека как «опасного», состоит в том, что без уточнения характера опасных действий, к совершению которых предрасположен человек, или условий, в которых человек совершит эти действия, данное прилагательное представляет собой неопределенное суждение. Некоторые авторы обходят эту проблему, фокусируясь на «опасном поведении», в частностд на агрессии и насилии (Megargee, 1976; Shah, 1978; Monahan, 1981). Однако насилие, опасное поведение и опасность являются раздельными конст-
![]()
руктами (Mulvey, Lidz, 1984). Насильственные действия обычно считают опасными, но не все опасные действия включают насилие, примером чего может послужить пьяный водитель. Дискуссии об опасности, тем не менее, ведутся вокруг применения насилия.
Малви и Лидс(МиКтеу, Lidz, 1984) предполагают, что предсказание опасности должно быть двойной оценкой, когда оценивается и само действие, и вероятность совершения человеком такого действия. Однако это совершенно не означает, что так и происходит на практике. «Опасность», подобно другим диспозиционным концептам, подразумевает вероятность «если... то», где «если» — условия, в которых диспозиция реализуется в конкретное действие. Вероятность того, что это случится, не равна вероятности того, что у человека есть такая диспозиция, Например, одно дело определить вещество как «растворимое в воде», но совершенно другое дело — предсказать вероятность того, что оно попадет в воду. Хотя исследования в этой области предполагают, что клиницисты дают нам прогноз результата, на практике они могут оценить только вероятность и силу тенденций индивидуума (Gordon, 1977). Последствия этого рассматриваются ниже.
«Первое поколение» исследований, посвященных клиническим предсказаниям опасности, возникло из натуралистических наблюдений за преступниками с психическими расстройствами, выпущенными на свободу из режимных учреждений по распоряжению суда, вопреки заключению психиатров об их опасности. В 1966 г. Верховный суд США постановил, что Джонни Бакстром был ошибочно заключен в тюремный госпиталь вследствие невменяемости в отношении совершенного преступления, и это привело к переводу 969 пациентов в гражданские психиатрические больницы. Четырехлетнее катамнестическое исследование четверти так называемых «бакстромских пациентов» показало, что половина осталась в гражданских больницах, 27 0/0 вернулись в общество, 14 0/0 умерло, 2,2 0/0 были возвращены в спецбольницы со строгим режимом, а 0,8 0/0 заключены в тюрьму (Steadman, keveles, 1972). Несмотря на то что 17 % в разное время подвергались арестам, только девять человек были осуждены, в основном за ненасильственные преступления. В плане предсказанной оћасности, таким образом, «ложные тревоги» составили более 8096. Аналогичные постановления, приведшие к освобождению меньших выборок в Массачусетсе (McGarry, Parker, 1974) и Пенсильвании (Thornberry, Jacoby, 1979), дали сопоставимые результаты, только несколько человек были впоследствии осуждены за серьезные преступления.
В других исследованиях сравнивались пациенты-преступники, отпущенные на свободу после прохождения лечения, и пациенты, идентифицированные как опасные, но все же освобожденные по решению суда. Козол, Боучер и Гарофало (kozol, Boucher & Garofalo, 1972) сообщают о пятилетнем катамнестическом исследовании лиц, совершивших половые преступления, из которых 386 были освобождены как не представляющие опасности после лечения, а 49 — вопреки рекомендациям. 8 0/0 первых и 35 0/0 последних были впоследствии задержаны за совершение серьезных преступлений, что позволяет сделать вывод о некотором влиянии лечения на уменьшение опасности. Тем не менее доля «ложных тревог», составившая 6596 для оцененных как опасные, предполагает неточность клинической процедуры. Более спорными являются результаты, полученные в Патук-
![]()
сентском центре (штат Мэриленд), который до 1977 г. был тюремным госпиталем для «дефективных делинквентов». Ходжес (Hodges, 1971) сообщает, что уровень повторных арестов (по любым преступлениям) в течение последующих трех лет составил 37 0/0 для тех, кто получил лечение, и 71 % для тех, кто получил частичное лечение и был освобожден вопреки рекомендациям. Однако первая цифра исключает тех, кто был отозван раньше окончания срока условно-досрочного освобождения без дальнейшего совершения (зарегистрированных) преступлений. Более позднее исследование, проведенное Стедманом (Steadman, 1977), показало, что 31 % пациентов, получивших лечение, и 33 0/0 получивших частичное лечение, но все же освобожденных впоследствии были арестованы за насильственное преступление, тогда как для «дефективных делинквентов», не получавших лечения, эта цифра составила 41 0/0. Подобные результаты говорят о не слишком высокой достоверности клинических предсказаний.
К обсуждаемому вопросу также имеют отношение исследования досудебных решений. Кокоцца и Стедман (Сосоиа, Steadman, 1978) описывают трехлетнее катамнестическое исследование 257 пациентов, неспособных отвечать перед судом штата Нью-Йорк, из которых 154 были признаны психиатрами опасными, а 103 — неопасными. Хотя эти две группы различались по полученному лечению, они были госпитализированы на одинаковый срок, и впоследствии 14 0/0 из первой группы и 16 0/0 из второй были арестованы за совершение насильственного преступления. Низкая точность предсказаний была также установлена в канадском исследовании, которое провели Сепеяк, Вебстер и Менцис (Sepqak, Webster & Мепzies, 1984). Средние корреляции досудебных оценок предсказанной опасности с оценками опасного поведения в течение последующих двух лет составили 0,20 для психиатров, 0,17 для психологов и 0,12 для сотрудников исправительных учреждений, причем все из них были значимыми, незначимые корреляции, равные 0,08 и 0,03, была получены для младшего медперсонала и социальных работников соответственно. Однако индивидуальные корреляции варьировали от —0,48 до +0,47, указывая на значительный разброс в точности между индивидуумами и в зависимости от их профессии.
Монахан (Monahan, 1981) указывает на постоянно получаемые
данные о завышении опасности психиатрами и психологами и заключает, что они
точны не 60лее чем в одном предсказании из трех, однако эти выводы нельзя
считать окончательными по многим причинам (Gordon, 1977; Blackburn, 1984;
Lltwack, Schleslnger, 1987). Во-первых, некоторые из выборок не были репрезентативными
для содержащихся в заключении преступников с психическими расстройствами.
«Бакстромские пациенты», например, имели средний возраст 47 лет, а те, кто
совершил повторное преступление, были существенно моложе. Также должно быть
изучено, являются ли пациенты, признанные опасными, но освобожденные по решению
суда (kozol et al., 1972), типичным случаем, поскольку суды обычно соглашаются
с заключением психиатра, как считают Кокоцца и Стедман (Сосоиа, Steadman,
1978). Во-вторых, надежность предикторов остается неясной. В исследованиях типа
бакстромского не было очевидно, что все пациенты были признаны на момент их
освобождения опасными. Например, пациентов из больниц со строгим режимом часто
задерживают после того, как персонал объявит их «безопасными», при попытке
найти другое жилье и из-за испытываемых в связи с этим проблем. ![]()
![]()
Третья проблема — надежность критериев. Опора на официальную статистику арестов и осуждений может привести к недооценке действительного уровня преступности, и многие из «ложных тревог» могут на самом деле быть не выявленными точными прогнозами опасности («попаданиями»). Например, Халл (Hall, 1987) отмечает, что уровень арестов за насильственное преступление отражает только одно преступление из пяти, и, изучив данные самоотчетов, он пришел к выводу, что только 2 из 94 случаев применения насилия группой солдат, в связи с которыми может быть произведен арест, были известны полиции. Более того, представляется спорным рассмотрение в качестве валидного критерия клинического предсказания опасности совершенное впоследствии насильственное преступление. Как отмечает Гордон (Gordon, 1977), некоторые исследования предполагают, что клиницисты не могут отделить «невиновных» людей от действительно опасных. Однако если клиницисты просто определяют опасную предрасположенность, а не предсказывают специфический результат, ошибочно признанные опасными (случаи «ложной тревоги») могут быть корректно идентифицированы как опасные. То, что эта предрасположенность не была реализована в насильственном действии, может отражать действие случайных факторов. Монахан (Моnahan, 1981), однако, возражает, считая, что «это делает невозможной проверку точности предсказания». Впрочем, его мнение отражает позитивистское предположение, что все события являются предсказуемыми. С точки зрения критического реализма, условия, позволяющие реализоваться тенденциям индивидуума, не могут быть надежно предсказаны в открытой системе. Если же клиницисты предсказывают силу предрасположенности, подходящим критерием будет сводный критерий множественного действия (Wiggins, 1981), а не единичный акт насилия. Даже тогда нереалистично ожидать показателей валидности выше 0,3—0,5 (Gordon, 1977).
Следующая проблема связана с распространимостью этих данных на другие ситуации, в которых делаются предсказания опасности То, что проверяется в этих исследованиях, это предсказание, делаемое в одной специфической среде в отношении будущего поведения в условиях гражданского общества, так или иначе связанное с большими временнБши и ситуационными расхождениями. Монахан (Monahan, 1981, 1984) предполагает, что предсказание может оказаться более точным в краткосрочной перспективе или в кризисных ситуациях. Этот подход, реализуемый в исследованиях «второго поколения», характеризуется большей осторожностью, отражающейся в заявлениях, что мы мало знаем о предсказаниях опасности и что они могут быть улучшены (Най, 1987; Litwack, Schlesinger, 1987). Поэтому более поздние исследования были посвящены предсказанию в специфических обстоятельствах и в течение кратких временнйх периодов.
Вернер и коллеги (Werner, Rose & Yasevage, 1983) познакомили 15 психиатров и 15 психологов со сделанными персоналом медучреждения оценками 40 пациентов по Краткой оценочной психиатрической шкале (BPRS), а также с информацией о насильственных преступлениях до госпитализации и изучили связь этих источников информации с предсказанным и фактическим насилием в течение первых семи дней после поступления на отделение острых психотических расстройств. Была обнаружена недостаточно высокая надежность для каждой группы, хотя объединенные•оценки для всей группы имели надежность 0,88. Тем не менее точность предсказания была одинаково низкой для индивидуумов и для
![]()
результирующего предиктора. Средняя валидность в единицах корреляции предсказанного и актуального насилия составила 0, 12, и только два эксперта дали прогноз выше уровня случайных корреляций. Купер и Вернер (Cooper, Werner, 1990) установили, что при предсказании насилия в тюрьме на срок более шести месяцев на основе криминальных и демографических сведений о периоде до заключения только один из 21 специалиста (психологов и управляющих делом (case тапаgers)) дал прогнозы выше уровня случайности. Краткосрочные исследования экстренного препровождения в режимное учреждение в неуголовном порядке также показывают, что предсказания имеют низкую точность и дают высокий процент «ложных тревог» (Wettstein, 1984). В противоположность этому, МакНейл и Биндер (McNail, Binder, 1987) заявляют о прогностической валидности клинических оценок опасности при краткосрочном заключении под стражу. Они установили, что 72 0/0 пациентов, принудительно заключенных как опасные для окружающих, демонстрировали как минимум один вид поведения, расцениваемого как нападение (физическое насилие, изолирование, связывание, угрозы или оскорбления), в течение первых 72 часов после госпитализации по сравнению с 30 0/0 пациентов, подвергаемых принудительному лечению по другим причинам. Однако это различие в основном обязано вербальной агрессии. Опять-таки, в исследованиях такого рода тормозящие вџияния среды на поведение пациентов создавали сложности для определения точности предсказания.
Таким образом, можно все же сделать вывод, что точность предсказаний еще предстоит доказать, даже в случае коротких сроков, однако проведенные на данный момент исследования не могут расцениваться как окончательные из-за методологических недостатков. Монахан (Monahan, 1988) утверждает, что на эти исследования по-прежнему бросают Тень скудные прогнозирующие переменные, слабые критерии, ограниченные выборки валидизации и разобщенные усилия исследователей. Также вероятно, что этические ограничения могут препятствовать проведению решающих исследований, поскольку те, кто по прогнозу попадает в группу риска совершения насилия, обычно подвергаются вмешательствам, что не позволяет провести проверку предсказания. Таким образом, остается возможность того, что предсказания являются валидными только при некоторых условиях (Litwack, Schlesinger, 1987).
При вынесении суждения об опасности преступника клиницист должен учитывать широкий комплекс факторов, имеющих отношение к индивидууму, ситуации и их вёаимодействию (Megargee, 1976; Mulvey, Lidz, 1984), и находить информацию, основываясь на своем предшествующем опыте относительно похожих случаев, клинических практических и книжных знаниях. Очевидно, что составление прогноза будет избирательным процессом. В то время как исследования результатов предсказания адресуются вопросам валидности прогноза, другие исследования посвящены изучению факторов в процессе предсказания, которые могут ослаблять валидность, таких как низкая надежность или внимание к неадекватным сигналам.
Подтверждение надежности получили Квинзи и Абтман (Quinsey, Abtman, 1979), которые представили краткое описание преступников четырем судебным психиатрам и девяти школьным учителям и получили оценки по нескольким
![]()
прогнозирующим шкалам. «Межэкспертное» согласие относительно вероятности агрессивного поведения было относительно низким, хотя и более высоким у учителей (от 0,24 до 0,57), чем у психиатров (от О, 19 до 0,48). Множественный регрессионный анализ показал, что обе группы комбинировали данные одинаковыми способами, что свидетельствует об отсутствии отличий в суждении психиатров. Мотандон и Хардинг (Motandon, Harding, 1984) также установили, что психологи не достигали более высокой степени согласия относительно оценки опасности, чем другие профессионалы или непрофессионалы.
В некоторых исследованиях были предприняты попытки определить, какая информация принимается во внимание при предсказании опасности, и, кажется, представляется возможным выделить общие факторы (Mulvey, Lidz, 1984). Так, Менцис, Вебстер и Батлер (Menzis, Webster & Butler, 1981) установили, что судебные психиатры сообщали, что они учитывают текущее преступление, сигналы во время интервью, досье преступника, детскую патологию, а также социальные и семейные обстоятельства. Исследования принятия решения об опасности, в основном, подтверждают, что связанное с преступлением поведение, особенно предыдущее проявление насилия, имеет большое значение при предсказании опасности (Quinsey, Abtman, 1979; Werner, Rose & Yesavage, 1983; Cooper, Werner, 1990). Однако предшествовавшее проявление насилия не является устойчивым предиктором совершения новых насильственных преступлений (Wenk et al., 1972; Нор land et al., 1982).
Спорным представляется и вопрос о том, следует ли уделять внимание дистальным факторам, таким как детская патология. Особенно учитываются энурез, поджоги и жестокое обращение с животными, поскольку Хеллманн и Блекберн (Hellman, Blackburn, 1966) установили, что 7496 делинквентов с судимостью за насильственное преступление демонстрировали именно эту «триаду» по сравнению с 2896 делинквентов, совершивших другие преступления. Однако некоторые последующие исследования не смогли установить, что этот тройной набор отличает преступников, применяющих насилие (Justice, Justice & kraft, 1974), хотя жестокое обращение с животными в детском возрасте само по себе может иметь прогностическую значимость (Felthous, kellert, 1987). Угрозы насилия также, похоже, являются ненадежным признаком. В шестилетнем катамнестическом исследовании 77 пациентов, угрожавших убийством, Мак-Дональд (McDonald, 1967) установил, что трое из них совершили убийство, а четверо — самоубийство. Вернер с коллегами (Werner at al., 1983) также нашли, что хотя большинство стационарных пациентов с острой формой расстройства, которые были агрессивными, тоже произносили угрозы, однако в действительности не применяли насилия.
Некоторые исследования применили предложенную Брунсвиком модель утилизации признаков (cue-utilisation), или, по-другому, модель линзы, сравнивая то, каким образом люди используют воспринимаемые признаки в предсказании, и то, как эти признаки соотносятся с реальным исходом. Согласно их общему выводу, клиницисты придают особое значение признакам, которые эмпирически не связаны с совершением насильственных действий (Werner, Rose & Yesvage, 1983; Quinsey, Maguire, 1986; Cooper, Werner, 1990). Например, Квинзи и Магуайр (Quinsey, Maguire, 1986) установили, что на оценки опасности, произведенные психологами и психиатрами, сильно влияло агрессивное поведение во время пребывания в учреждении, однако оно не было связано с совершением новых серьезных престу,
![]()
плениЙ выпущенными на свободу пациентами Клиницисты также особо отмечали ранее совершенное убийство, но оно как раз коррелировало с безопасным исходом. Последнее установили также Блэк и Спинкс (Black, Spmks, 1985).
Проблема при предсказании состоит не столько в том, как взвесить переменные, сколько в том, какие из переменных следует принимать к рассмотрению (Faust, 1986). Есть некоторые свидетельства того, что предубеждение при выборе признаков со стороны клинических специалистов может быть обусловлено личными характеристиками, такими как культурное происхождение и ценности (Епms, L1twack, 1974) или практическая подготовка и образование (W111iams, Mlller, 1977). Точность оценки опасности также, вероятно, ослабляется когнитивными искажениями, присущими процессам принятия решения, такими как упрощающие эвристики, игнорирующие основные законы вероятности (Tversky, kahneтап, 1974). К настоящему времени выявлено более дюжины смещающих оценку феноменов, включая игнорирование базисных уровней, опору на иллюзорные корреляции и разыскивание подтверждающих, а не противоречащих доказательств (Faust, 1986). Халл (Нан, 1987) указывает на двенадцать общих ошибок, которые делают специалисты в области судебной психиатрии и судебной психологии при предсказании опасности. Это:
1) непонимание значимости предсказания опасности как специфического фокуса судебной экспертизы,
2) недостаточная осведомленность в отношении судебной базы данных;
З) непринятие в расчет ретроспективного и текущего искажения фактов со стороны оцениваемого;
4) предсказание опасности при отсутствии предшествовавшей опасности,
5) попадание в сети иллюзорных корреляций; 6) предсказание на основе клинического диагноза;
7) неспособность учесть пусковые стимулы;
8) неспособность учесть переменные благоприятной возможности;
9) неспособность принять во внимание сдерживающие переменные, такие как возраст или образование;
10) игнорирование релевантных базисных уровней;
11) применение ограниченных мер исхода;
12) неспособность предложить ограничивающее свободу заключение.
Халл предлагает древо решений для обеспечения должного внимания к этим факторам.
Может ли быть улучшено предсказание опасности?
Хотя понимание процесса принятия клинических решений остается неполным, нам известно достаточно для того, чтобы можно было сделать вывод о его ненадежности и о возможности его улучшения. Например, надежность может быть повышена путем усреднения оценочных суждений экспертов (Werner, Rose, Yesavage, 1983). Это эквивалентно повышению тестовой надежности за счет увеличения количества пунктов и свидетельствует в пользу совместного принятия решений. Проблема базисных уровней может быть решена, если фокус сместить
![]()
на однородные группы, демонстрирующие конкретные виды опасного поведения при относительно высоких базисных уровнях (Quinsey, Maguire, 1986), и если использовать более широкие критерии, чем официальные криминальные досье Когнитивные искажения могут быть также снижены путем тренинга (Faust, 1986; klemmuntz, 1990).
Фауст (Faust, 1986) считает, что психологи должны научиться не полагаться на интуитивные суждения. Превосходство актуарного предсказания над клиническим постоянно демонстрировалось и продолжает обнаруживаться в исследованиях рецидивизма (Нан, 1988). Однако если исследования, использующие парадигму модели линзы, предполагают, что могут быть найдены эмпирические предикторы, превосходящие клиницистов в предсказании, актуарное прогнозирование совершения новых насильственных преступлений не заходит столь далеко в своих притязаниях. Впрочем, клиницисты воспротивились близкому знакомству со статистическими предикторами, и сдвиг в сторону более широкого применения актуарных методов маловероятен по различным причинам, не последней из которых является то, что во многих условиях они недоступны (Wiggins, 1981; klelnmuntz, 1990). Тем не менее использование вспомогательных средств при принятии решений, делающих его «лее эксплицитным, является шагом в этом направлении (kroll, МсКеппе, 1983; Най, 1987). Как продемонстрировал Сойер (Sawyer, 1966), наиболее эффективной комбинацией актуарных и клинических методов будет не включение статистических данных в клинические заключения, но, скорее, объективное сообщение клинических заключений, которые могут быть использованы статистически.
Эти предположения направлены на улучшение надежности клинических предсказаний, но спорным является то, приведут ли они к более чем умеренному увеличению прогностической валидности Монахан (Monahan, 1981) предположил, что одной из ошибок клиницистов является акцент на диспозиционных переменных и что внимание к ситуативным переменным повысило бы достоверность прогноза. Однако, хотя ситуации необходимо учитывать при объяснении насилия, их нельзя предсказать. Это не значит, что общие средовые характеристики, такие как влияние группы сверстников или стрессоры, не имеют значения для агрессивного поведения, но стечение обстоятельств, которое имеет результатом совершение насилия, может быть совершенно случайным.
Проблемы при предсказании опасности, возможно, лежат не столько в трудноуловимости концепта опасности, сколько в нереалистичной вере позитивизма в способность науки предсказывать специфические события в нашем мире, представляющем собой открытую систему. Поллок, Мак-Бейн и Вебстер (Pollock, МсВат & Webster, 1989) предполагают, что чем продолжать искать эмпирические предикторы насилия, лучше сконцентрироваться на теоретически обоснованных процедурах принятия решения, которые позволят принимать защитимые клинические решения об опасности. Это согласуется с выводом, который сделали Малви и Лидс (Mulvey, Lldz, 1984), что лучшее, на что можно надеяться, это информированное суждение.
![]()
ГЛАВА 13
Психологические вмешательства при работе с преступниками
Введение
Не требует доказательства тот факт, что преступность — явление нежелательное и что общество должно предпринимать активные меры по ее сдерживанию и предупреждению, но то, как этого можно достичь, зависит от предположений о причинах преступности. Многие криминологи считают, что только изменения в социальных структурах могут оказать существенное влияние на преступность, поскольку ее корни лежат в социальной несправедливости и непропорционально большой власти правящих групп определять то, что считать преступлением. С этих позиций вмешательства, нацеленные на отдельных людей или семьи, пытаются хоть как-то, на скорую руку, поправить эту проблему, и к тому же, вольно или невольно, перекладывают вину на жертву. Однако, как это было показано в предыдущих главах, у преступности нет одной-единственной причины, и преступники не представляют собой однородной группы. Личные проблемы и дефициты многих из них поддаются психологическому лечению, даже если отдаленные причины их проблем и дефицитов часто лежат в неблагоприятных социально-экономических условиях. Преодоление этих проблем может быть лучшей стратегией реабилитации индивидуума и предотвращения повторного совершения преступления.
Тем не менее предотвращение рецидивизма среди арестованных преступников не предотвратит совершения людьми первого преступления, как и не предотвратит рецидивизм среди тех, кто не был пойман. Поэтому психологический интерес к конкретному преступнику может критиковаться как местнический и игнорирующий более широкие проблемы сдерживания преступности. Впрочем, проблема профилактики (превенции) преступности имеет соответствия в понятиях первичной, вторичной и третичной профилактики, которые стали руководящими принципами охраны психического здоровья граждан. Первичная профилактика нацелена на предотвращение возникновения расстройства посредством создания прямых барьеров на пути его развития, тогда как вторичная профилактика представляет собой вмешательство на ранней стадии и имеет целью предотвращение развития расстройства в тяжелое или хроническое. Третичная профилактика занимается восстановлением трудоспособности и предупреждением рецидива расстройства и традиционно фокусируется на лечении и реабилитации. Хотя в случае преступности эта аналогия имеет свои ограничения, психологические вмешатель-
Введение
![]()
ства предписывались на каждом из этих уровней. Первичная и вторичная профилактика обсуждаются в главе 15, а в этой главе рассматривается третичный уровень индивидуального вмешательства, на которое всегда были направлены силы психологов.
Реабилитация в пенитенциарной системе на протяжении двух последних десятилетиЙ критикуется на том основании, что «ничто не работает» в предупреждении преступлений. Об этом аргументе речь пойдет в главе 15. Также, с экономической точки зрения предполагается, что реабилитация не может снизить уровень преступности, поскольку не направлена на непойманных преступников и рыночные силы быстро приведут к заполнению «вакантных» мест тех, кто отошел от преступной жизни, новыми преступниками (Ehrlich, 1981; Van der Haag, 1982; Wilkins, 1985). Этой точке зрения недостает эмпирической основы, и поскольку небольшое число преступников ответственно за большинство преступлений, вполне вероятно, что реабилитация преступников из группы высокого риска может существенно повлиять на общий уровень преступности (Andrews, 1983). Однако аргументация в пользу реабилитации отдельных преступников основана не просто на решении проблемы совершения преступления как таковой. Преподносится ли это как спасение конкретного человека или как «фундаменталистская криминология» (Wilkins, 1985), обоснование необходимости реабилитации преступников может быть дано как с гуманистических, так и с утилитаристских позиций. В этом отношении цель реабилитации состоит в том, чтобы дать человеку возможность избежать совершения преступления, повысив личную эффективность. Ван дер Хааг (Van der Haag, 1982) не признает такую нравственную цель реабилитации, считая ее иррелевантной тому, что он рассматривает в качестве главных целей вынесения приговора, которыми являются восстановление справедливости и удерживание от совершения преступлений устрашением, но он не приводит никаких доводов в пользу морального превосходства «получивших по заслугам» перед «спасающими души».
Психологическое «лечение» — это нечетко
определенный термин, так как формы психологической терапии шире лечения в
медицинском смысле этого слова, ибо они не только устраняют симптомы, но и
нацелены на личностный рост индивидуума и выработку у него навыков совладания с
проблемами. Реабилитация ![]() еще более неопределенное понятие, и
дискуссия относительно ее полезнасти затруднена отсутствием единого
определения. В клиническом контексте реабилитация означает восстановление или
компенсацию нарушенных функций в целях облегчения социальной реинтеграции
индивидуума. Большинство специалистов в сфере охраны психического здоровья,
возможно, рассматривают реабилитацию преступников схожим образом, с той лишь
разницей, что реинтеграция должна включать воздержание от совершения преступлений.
Таким образом, услуги направлены на удовлетворение потребностей конкретного
человека, и поставщики услуг во многом являются как доверенными лицами
преступника, так и доверенными лицами общества.
еще более неопределенное понятие, и
дискуссия относительно ее полезнасти затруднена отсутствием единого
определения. В клиническом контексте реабилитация означает восстановление или
компенсацию нарушенных функций в целях облегчения социальной реинтеграции
индивидуума. Большинство специалистов в сфере охраны психического здоровья,
возможно, рассматривают реабилитацию преступников схожим образом, с той лишь
разницей, что реинтеграция должна включать воздержание от совершения преступлений.
Таким образом, услуги направлены на удовлетворение потребностей конкретного
человека, и поставщики услуг во многом являются как доверенными лицами
преступника, так и доверенными лицами общества.
В случае более узкой интерпретации этого понятия осКовная цель реабилитации состоит в предупрежде$ии повторного совершения преступления. Например, Палмер (Palmer, 1983) предполагает, что «конечной» целью является защита об-
![]()
щества, а сосредоточение на целях преступника — всего лишь средство для достижения этой цели. Однако целью специалБного предупреждения путем устрашения также является предупреждение совершения новых преступлений. Как отмечает Халлек (Halleck, 1987), эта цель может быть достигнута множеством способов, включая психохирургию, фармакотерапию, электронные маячки (electronic «tagmg») или отрезание кистей рук преступника. Хотя Палмер (Palmer, 1983) проводит различие между «позитивными» и «радикальными» методами реабилитации, он признает, что оно произвольно. Комиссия по исследованию методов реабилитации (Sechrest, Whlte & Brown, 1979; Martin, Sechrest & Redner, 1981) также столкнулась с этой проблемой. Входящие в нее эксперты определили реабилитацию как «результат некоторого спланированного вмешательства, которое снижает дальнейшую криминальную активность преступника, независимо от того, будет ли это снижение опосредовано изменениями личности, поведения, способностей, аттитюдов, ценностей или действием других факторов». Поскольку «спланированное вмешательство» шире оказания индивидуальных услуг, исключение из содержания реабилитации специального предупреждения (посредством устрашения) трудно подтвердить.
Уилсон (Wilson, 1980) доказывает, что дифференциация реабилитации и специального предупреждения недоказуема с научной точки зрения и проводиться не должна. Это предполагает свободную от оценочных суждений науку, но только все, что делается с преступниками, не свободно от нравственных критериев гуманности. «Идеальная» реабилитация не основывается на том, что «хорошо», как это предполагал Уилсон, но скорее на обязательствах относительно благополучия конкретного человека, чем на простой общественной пользе. В то время как некоторые виды вмешательства могут служить обеим целям и возникают неизбежные конфликты при попытках быть и на стороне общества, и на стороне преступника, все же имеет смысл проводить разграничение между «предоставляющими возможность>> и «ограничивающими» вмешательствами. Безработного, социально изолированного, больного алкоголизмом бывшего преступника, воздерживающегося от совершения новых преступлений, можно назвать «удержанным от преступления», но его вряд ли можно считать реабилитированным. Разграничение подразумевает, что рецидивизм является необходимым, но недостаточным критерием эффективности реабилитационной программы. Это также подразумевает, что результат многих вмешательств в системе уголовного правосудия, таких как предупреждение или условное осуждение, не имеет прямого отношения к вопросу об эффективности реабилитационных услуг.
Это не означает, что интерес поведенческих наук ограничивается реабилитационными видами вмешательства, поскольку в основе вмешательств с целью устрашения также лежат психологические посылки, хотя здесь нередко задействованы политические мотивы. Примером может служить введение в Великобритании в 1979 г. режима в центрах для содержания под стражей задержанных правонарушителей, направленного на поддержание дисциплины, муштру и строевую подготовку, с целью вызвать «краткий острый шок» у молодых преступников (Thornton et al , 1984). В США программы повышения осведомленности малолетних правонарушителей о последствиях преступлений преследовали аналогичную цель. Они коротко знакомили делинквентов с негативными аспектами заключения, устраивая для них посещение тюрем и конфронтационные встречи с заклю-
Психологические услуги для преступников
![]()
ченными. При организации всего этого предполагалось, что подобный опыт «верно отпугнет» делинквентов (Lewis, 1983). Теоретическое обоснование подобных мероприятий является крайне слабым, поскольку они делают упор в первую очередь на суровость наказания, а не на его обязательность, и их оценки довольно низки (Gendreau, Ross, 1987). Режимы краткого острого шока не воспринимались заключенными как аверсивные и не оказывали никакого влияния на рецидивизм (Thornton et al , 1984), а Льюис (Lews, 1983) установил, что делинквенты из группы высокого риска в одной программе «прямого отпугивания» показали тенденцик) к ухудшению.
Другие вмешательства, которые на первый взгляд не являются психологическими, также строятся на психологических допущениях. В качестве примера можно привести работы на охраняемой территории за пределами пенитенциарного учреждения или программы «освоения пустыни» (wzldemess programmes), популярные в Северной Америке, которые помещают молодых правонарушителей в тяжелые условия жизни и работы в удаленных от цивилизации местах сроком до трех месяцев. Эти программы могут рассматриваться в аспекте устрашения, но они могут также способствовать развитию у делинквентов чувства контроля над окружающей средой (Garrett, 1985). Другим примером может служить реституция по схемам возмещения ущерба пострадавшим или символического возмещения посредством приказов о направлении на общественные работы. Последнее практикуется в Англии с 1972 г., хотя и не широко Реституция является компонентом «гиперкоррекции» в модификации поведения, но в уголовной юстиции она обосновывается с позиций экономии, расплаты и устрашения. Она также может быть рассмотрена в аспекте исгфавления. Хотя результаты таких превентивных методов представляют интерес для психологии, эта глава посвящена терапевтическим методам, нацеленным на предотвращение совершения новых преступлениЙ, которые используют ту или иную форму процедуры психологического изменения.
Психологические услуги для преступников
Психологи предоставляют целый ряд услуг системе уголовного правосудия, среди которых консультирование судов и правоохранительных органов (глава 12), но их основной функцией всегда была помощь пенитенциарной системе в работе с осужденными преступниками. В США психологи работают в диагностических центрах и центрах приема поступивших заключенных, созданных после Первой мировой войны, и коррекционная (исправительная) психология является теперь отдельной специальностью с собственными профессиональными стандартами (American Associatlon of Correctional Psychologsts, 1980). Англия и Уэльс (но не Шотландия и Северная Ирландия) также имеют с 1946 г. свою собственную тюремную психологическую службу. Тем не менее меньшинство преступников попадают в тюрьмы, и виды услуг, которые психологи предоставляют правонарушителям, широко варьируют в зависимости от места работы психолога и судебных процедур, благодаря которым он получает клиентов. Некоторые преступники, находящиеся на пробации, могут получать клинические психологические услуги в общине, такие услуги доступны также психически больным преступникам, находящимся в ведении органов здравоохранения. Несовершеннолетние преступни-
![]()
ки, находящиеся на попечении социальных служб, также могут быть направлены к педагогическим или клиническими детским психологам.
На практике предоставление психологических услуг тем, кому еще предстоит суд, всегда было ограниченным, и, учитывая огромное количество проходящих через систему уголовного правосудия лиц, можно сказать, что те, кому было уделено внимание, обязаны случаю. Обычно услуги оказываются в учреждениях, таких как тюрьмы, заведения для молодых преступников и психиатрические больницы строгого режима. Роли и функции варьируют в зависимости от типа учреждения, но традиционно акцент делается на психиатрических услугах, и в США от психологов, проводящих психотерапию с преступниками, обычно требуется лицензия клинического психолога. Тем не менее не все психологи, работающие с преступниками, клиницисты. В Великобритании в 1991 г. было около 200 психологов, регулярно имеющих дело с преступниками, причем около половины составляли клинические психологи, работающие в больницах с максимальћо строгим режимом и в региональных судебно-психиатрических службах, а остальные работали по найму в Английской тюремной психологической службе (English prison psychological service). Хотя вклад последних в реабилитацию преступников значителен, их численность по сравнению с тюремной популяцией очень мала, и их совокупные функции являются в равной мере организационными и клиническими.
Традиционные функции психологов в пенитенциарной системе — оценка, лечение, реабилитация и исследование (Nietzel, Moss, 1972; Brodsky, 1980; Milan, Evans, 1987). Их можно уподобить функциям клинических психологов, и психологи в больницах со строгим режимом имеют схожие функции. Общая задача психологов в тюрьмах — предоставить услуги по оцениванию, предотвращению и лечению проблем заключенного, а также способствовать созданию безопасной и Еуманной тюремной среды (Milan, Evans, 1987). Однако проблемы психического здоровья в этом контексте необходимо рассматривать в более широком аспекте, чем проблемы психиатрической инвалидности, и они должны включать дефициты навыков познания, общения и совладания с трудностями, влияющие не только на преступное поведение, но и на приспособление заключенного к тюремным условиям.
Оценка — это процесс сбора информации, необходимой для принятия информированного решения о клиенте, связанный с проверкой гипотез, приводящей постепенно к построению модели проблем клиента. Психологическую оценку обычно отличает опора на объективные методы сбора данных и проверку гипотез в форме применения тестов, оценочных шкал или структурированных наблюдений. В пенитенциарной системе оценивание проводится главным образом в целях классификации, планирования лечения или оценки для условно-досрочного освобождения. В настоящее время существует широкий спектр процедур, разработанных специально для преступников (Brodsky, Srmtherman, 1983; см. также главу З). Особенность оценки в этом контексте — фокусирование на частных проблемах, например антисоциальных убеждениях, половой девиации или уровне риска, но в целом процедуры оценки преступников заимствованы из сферы охраны психического здоровья.
Психологические услуги для преступников
![]()
Изначальной функцией тюремных психологов было участие в классификации и распределении новых заключенных путем проведения обычной психометрической оценки со стандартизированными тестами интеллекта, достижений, личности и психопатологии. Эта роль теперь не признается на том основании, что такие оценки практически никак не влияют на процесс распределения. Тем не менее ограниченная полезность оценки часто обусловлена выбором неправильных тестов, сделанным на основе их доступности, а не важности для проблем заключенных; к тому же есть тенденция рассматривать тестирование как самоцель, а не как средство для достижения понимания или как функциональный анализ. Психометрические принципы надежности и валидности остаются основами прикладной психологии, и без высокой квалификации в области проведения оценки, процедур идентификации проблем и интерпретации результатов вмешательства психологи рискуют потерять свои притязания на профессиональную исключительность.
Компетентная оценка — неотъемлемая часть психологического лечения, и она продолжает использоваться в двух целях. Во-первых, в целях выявления заключенных, нуждающихся в услугах. Американская ассоциация коррекционных психологов (American Association of Correctional Psychologists, 1980) рекомендует краткое обследование всех заключенных, приговоренных более чем на год, с выяснением предыстории и эмоциональных и интеллектуальных отклонений от нормы. За ним, в случае необходимости, должна последовать более интенсивная психологическая оценка, при условии что она служит выполнению полезной терапевтической или диспозиционной [30] функции.
Вторая цель оценки — классификация, имеющая значение для реабилитации путем индивидуально подобранного или дифференцированного лечения (глава 15). Секрист (Sechrest, 1987) критикует существующие классификации на том основании, что ни одна из них еще не доказала свою полезность для принятия решений о лечении. Другие тем не менее относятся к ним более благосклонно (Andrews, 1983; Andrews, Вопи & Hoge, 1990). Эндрюс отмечает, что измерения аттитюдов, ценностей и убеждений, поддерживающих преступления, являются адекватными промежуточными целями и должны быть отслежены при оценивании исходов лечения. Он также аргументированно доказывает, что при планировании лечения необходима оценка индивидуальных характеристик, обусловливающих реакцию на лечение, таких как уровень межличностной зрелости (глава З), когнитивные навыки, психопатия и мотивация к изменению (Andrews et al., 1990).
Лечение является давней функцией коррекционных психологов (Corsini, Miller, 1954), хотя проведение вмешательства в тюрьмах по-прежнему редко встречается из-за нехватки специалистов. Терапевтические услуги желательны постольку, поскольку они облегчают психологический дистресс у преступников вне зависимости от того, имеет ли он причинную связь с их преступлениями или нет, однако такие услуги чаще всего создавались с реабилитационными целями. Поэтому
![]()
важно отличать клинические мишени, второстепенные по отношению к преступной деятельности, от факторов, опосредующих криминальное поведение. Именно последним здесь уделяется особое внимание. Методы вмешательства варьируют в зависимости от теоретического взгляда психолога, который может быть поведенческим, психодинамическим или когнитивным; в последнее время доминируют когнитивно-поведенческие подходы, которые и рассмотрены ниже.
Психологическое лечение преступников больше напоминает коррекционное обучение, чем медицинское лечение, при этом наиболее реалистичная цель состоит в том, чтобы дать преступнику возможность справиться со своей проблемой, не совершив нового преступления. Следовательно, адекватными мишенями для вмешательства являются ценности, которые обеспечивают «связь с преступностью» (Andrews, 1983), эмоциональные проблемы, недостаток навыков и неадекватное социальное поведение, функционально связанное с преступной деятельностью. Хотя психологические клиники для специфических категорий преступников — тех, кто управлял автомобилем в состоянии опьянения, совершил малозначительное половое преступление или магазинную кражу, — теперь распространены в Северной Америке, преступное поведение является только косвенной мишенью психологического лечения. Такое поведение имеет низкую частоту и обычно недоступно прямому наблюдению, поэтому в качестве мишени для изменения выбирается склонность к повторению криминальных действий. Например, вмешательство, проводимое с убийцей, меньше касается предыдущего убийства, чем личных и социальных факторов, которые могут способствовать совершению насилия в будущем. Именно эти опосредующие переменные необходимо выявить и попытаться изменить.
Развитие психологического лечения преступников происходит параллельно с развитием психотерапии в целом: первоначально преобладавшие психодинамические походы с 1960-х гг. постепенно были вытеснены многообразием методов. Можно навскидку назвать около 400 терапевтических методик (kazdln, 1986), многие из которых базируются на доморощенных теориях нарушений, не имеющих отношения к науке (что позволило Парлоффу (Parloff, 1984) переименовать Калифорнию из «Кремниевой долины» (Silicon Valley) в «Долину слабоумных жуликов» (Slly Соп Valley)!). Проблема усугубляется в реабилитации преступников, где психотерапевтические методы традиционно переносились из клинической практики без учета их теоретической связи с проблемами преступников или их отношения к теориям криминального поведения.
Независимо от того, признается ли реабилитация основной целью психологических услуг или нет, это не единственная их цель. Тюрьмы, будучи социальными организациями, предъявляют особые требования к тем, кто находится и работает в них, и многие тюремные психологи видят свое предназначение скорее в применении социальной и организационной психологии для улучшения жизненных условий, чем в предоставлении прямых услуг заключенным. Кроме того, нехватка квалифицированных специалистов неизбежно ограничивает проведение вмешательств на индивидуальном уровне, и Милан и Эванс (M11an, Evans, 1987) считают, что роль психологов в сфере психиатрических услуг излишне акцентируется как менеджерами, так и психологами. Опираясь на общественную модель охраны
Психодинамические и гуманистические вмешательства
![]()
психического здоровья, они приводят доводы в пользу большего значения вторичной и первичной профилактики. Это влечет за собой смещение фокуса на консультирование, тренинг, разработку и оценку программ. Эти роли позволяют психологу расширить сферу своей деятельности в организации, что принесет пользу ей самой, штату ее сотрудников и заключенным.
Мак-Марран и Шэпленд (McMurran, Shapland, 1989) описывают развитие этих ролей в английской тюремной системе. Консультирование администрации включает информирование об особенностях тюремной популяции, о проблемах заключенных в целом и стратегиях работы с конкретными проблемными группами, например группами заключенных с высоким риском суицида или отверженных. Сюда может также относиться руководство действиями в кризисных ситуациях, например переговорами в случае захвата заложников. Программы подготовки персонала варьируются от обучения основным процессам взаимодействия с заключенными до формирования навыков консультирования клиентов, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, и навыков проведения поведенческих тренингов. Обеспечивается и такая поддержка персоналу, как групповое обучение управлению стрессом. Разработка программ включает не только новые психологические вмешательства, но и различные виды активности в рамках учреждения, связанные с отдыхом, получением специальности и образования. Наконец, оценка программы придает особое значение роли научного исследования и может иметь целью индивидуальные и групповые программы в рамках организации, равно как и исследования долговременных эффектов с привлечением полицейских служб (см., напр.: Thornton et al., 1984).
Психодинамические и гуманистические вмешательства
Психоаналитические теории рассматривают антисоциальное поведение либо как проявление невротических конфликтов, либо как следствие недостаточной сформированности Суперэго (глава 5), но классический психоанализ как метод лечения фокусируется на первом варианте, а его ключевыми компонентами являются зондирование прошлого, перенос, интерпретация со стороны терапевта и проработка конфликтов для достижения инсайта или самопознания. Классический психоанализ редко встречается в исправительных учреждениях, но психодинамические методы используются в индивидуальном и групповом формате при работе с преступниками, часто под неопределенным названием «консультирование». Это может означать более поверхностное обсуждение личных проблем под супервизией сравнительно неподготовленного персонала. Патронирование, осуществляемое сотрудниками службы пробации и социальными работниками, часто является мягкой формой психодинамической терапии, включающей рефлективную дискуссию и эмоциональную поддержку. Впрочем, психологическое консультирование развилось в отдельную специальность, часто направляемую гуманистическими, а не психодинамическими принципами и фокусирующуюся на проблемах сравнительно «нормальных» людей, вопросах учебы и работы. Учитывая это разнообразие значений и тот факт, что в публикациях обычно не определяются
![]()
четкие цели и содержание «групповой терапии», отказ преступникам в психодинамической терапии на основе безрезультатного «консультирования» (см., напр.: Feldman, 1977; Rutter, Giller, 1983) кажется преждевременным.
Тем не менее свидетельств ее полезности в работе с преступниками немного. Литература изобилует исследованиями конкретных случаев и основанными на отдельных наблюдениях предписаниями на случай сопротивления клиента или реакций контрпереноса, но оценок результатов проводилось мало. В обзоре сообщений о групповой психотерапии и консультировании за 25-летний период Слайкой (Slaikeu, 1973) пишет, что выявил только 23 попытки оценки, из которых лишь две сообщали о послетюремной адаптации, причем только малое количество исследований удовлетворяло достаточным критериям методологической адекватности, которые позволили бы сделать конкретные выводы. В качестве доказательства неэффективности консультирования преступников часто приводится исследование Кассебаума, Уорда и Вилнера (kassebaum, Ward & Wilner, 1971), в котором заключенные в калифорнийской тюрьме были случайным образом распределены по трем группам: обязательного группового консультирования, факультативного группового консультирования и контрольную. Наблюдение велось в течение трех лет. Никаких значимых различий в результатах условно-досрочного освобождения обнаружено не было. Тем не менее Квей (Фау, 1977с) утверждает, что в дополнение к адекватности разработки и результативности должна рассматриваться еще и полнота (integrity) реализации программы. Он считает, что программа, описанная Кассебаумом с коллегами (kassebaum et al., 1971), базировалась на неопределенной концепции консультирования и неудовлетворительно осуществлялась по большей части неподготовленным и немотивированным к этому персоналом.
Было несколько публикаций и об успешности таких программ. Персонс (Ретsons, 1967) сопоставил мальчиков из реформатория по демографическим переМеННЫМ и переменным истории криминального поведения, составил из них пары и эти пары случайным образом распределил в интенсивную программу групповой и индивидуальной терапии (80 часов за 20 недель) или в контрольную группу, не подвергавшуюся терапии. Групповая терапия была «эклектичной», фокусирующейся на формировании теплых, но строгих отношений с терапевтом, интерпретации, ролевых играх, положительном подкреплении адекватного поведения и индукции тревоги в связи с антисоциальным поведением. Из 41 пары 30 мальчиков из терапевтической и 12 из контрольной группы показали уменьшение патологии согласно психологическим тестам, а по результатам годичного последующего наблюдения 13 прошедших лечение мальчиков и 25 мальчиков из контрольной группы были снова помещены в исправительное учреждение. Мальчики из терапевтической группы также имели значительно меньше нарушений режима условно-досрочного освобождения и большее их число устроилось на работу. Об определенном успехе более специфической психоаналитической групповой терапии сообщали также Джут, Клэнон и Мэттокс 0ew, Clanon & Mattocks, 1972). Пациентов из тюремной больницы, которые как минимум год подвергались терапии, фокусирующейся на инсайте в их антисоциальное поведение, сопоставили с нелечедной контрольной группой по таблице ожидаемого базисного уровня, расовым характеристикам и характеристикам преступления и затем наблюдали в течение четырех лет. Существенно большее количество членов лечеб-
Психодинамические и гуманистические вмешательства 41 1
![]()
ной группы находилось на условно-досрочном освобождении после первого года, но впоследствии различия сгладились. Это общий, часто встречающийся вывод в долговременных катамнестических исследованиях. Тем не менее проблема этой оценки в том, что преступники из контрольной группы не рассматривались как нуждающиеся в лечении.
Данные о влиянии патронирования на преступников в целом неблагоприятны, но исследование в двух английских тюрьмах показывает, что оно может воздействовать на рецидивизм (Sinclair, Shaw & Troop, 1974). Заключенные, которым предстоял скорый выход на свободу, случайным образом были распределены по двум экспериментальным условиям: в группу, члены которой регулярно (ежемесячно) встречались с сотрудником тюрьмы из службы социального обеспечения, и в контрольную группу с редкими традиционными встречами. После двух лет последующего наблюдения за ними большая часть контрольной группы была осуждена повторно (69 0/0 против 48). Существуют некоторые основания считать, что этот эффект был опосредован более близкими взаимоотношениями с сотрудником службы социального обеспечения, хотя заключенные-интроверты показали наилучшие результаты.
![]() Консультирование или
патронирование в условиях общины, по-видимому, не оказывает долговременного
воздействия на делинквентность. Этот вопрос детально изучался в связи с
исследованиями профилактики, включая Кембриджско-соммервильское исследование,
обсуждаемое в главе 15. Однако успешное вмешательство в условиях общины
описывают Шор и Массимо (Shore, Massimo, 1979). Двадцать мальчиков с
антисоциальным поведением, бросивших школу или исключенных из нее, были
случайным образом распределены по лечебной и контрольной группам. Лечение было
описано как комплексный психотерапевтический подход, соединяющий исправительное
обучение и интенсивную индивидуальную терапию, строящиеся вокруг подыскания
подходящей работы в течение 9-месячного периода. Экспериментальная группа
показала существенный прирост учебных достижений, улучшения Я-образа и контроля
агрессии согласно психологическим тестам, а также более стабильную занятость;
за 15-летний срок последующего наблюдения только трое из них, по сравнению с
девятью из контрольной группы, задерживались полицией. Обязан ли
успех «глубинной» психотерапии или улучшению навыков — неясно.
Консультирование или
патронирование в условиях общины, по-видимому, не оказывает долговременного
воздействия на делинквентность. Этот вопрос детально изучался в связи с
исследованиями профилактики, включая Кембриджско-соммервильское исследование,
обсуждаемое в главе 15. Однако успешное вмешательство в условиях общины
описывают Шор и Массимо (Shore, Massimo, 1979). Двадцать мальчиков с
антисоциальным поведением, бросивших школу или исключенных из нее, были
случайным образом распределены по лечебной и контрольной группам. Лечение было
описано как комплексный психотерапевтический подход, соединяющий исправительное
обучение и интенсивную индивидуальную терапию, строящиеся вокруг подыскания
подходящей работы в течение 9-месячного периода. Экспериментальная группа
показала существенный прирост учебных достижений, улучшения Я-образа и контроля
агрессии согласно психологическим тестам, а также более стабильную занятость;
за 15-летний срок последующего наблюдения только трое из них, по сравнению с
девятью из контрольной группы, задерживались полицией. Обязан ли
успех «глубинной» психотерапии или улучшению навыков — неясно.
Некоторые психотерапевты полагают, что групповая терапия наиболее предпочтительна для преступников с психическими нарушениями, и она является обычным компонентом терапевтических общин, обсуждаемых в следующей главе.
Хотя это не всегда очевидно, некоторые «консультационные» программы для преступников опираются на гуманистические принципы. Они тоже делают упор на самоосознании (self-awareness) через посредство терапевтического отношения, но делают акцент на настоящем и на личностном росте путем осуществления права выбора и принятия личной ответственности. Хотя такой подход обычно иллюстрируется клиент-центрированной терапией Роджерса, схожий метод применяется в некоторых «современных» видах терапии, например терапии реальностью и трансактном анализе, которые достигли некоторой популярности в американских исправительных учреждениях.
![]()
Терапия реальностью нацелена на развитие реалистичных и ответственных способов удовлетворения потребностей под руководством дружелюбного, директивного терапевта, который побуждает и воодушевляет на изменение поведения (Glasser, 1975). Глассер описывает ее применение по отношению к делинквентным девочкам; подход также использовался при планировании занятости и трудоустройстве преступников, выходящих на свободу (Benmght, 1975). Однако ни одно из этих сообщений не включало описание долговременных эффектов.
Более межличностно-ориентированный подход, используемый в различных американских тюрьмах, это трансактный анализ (ТА) (Nlcholson, 1970). Он обычно опирается на групповой контекст, в котором девиантные трансакции исследуются с целью продвижения к более,здоровым интеракциям, основанным на позиции «Я — Окей, ты — Окей». Предполагается, что делинквенты функционируют на незрелых уровнях развития, избегая реальных проблем за счет включения в социальные «игры». Ожидается, что рассмотрение и анализ этих «игр» в группе будет способствовать личностному росту и независимости. Хотя немногие исследованйя оценивали эффективность ТА, Джеснесс (Jesness, 1975) провел сравнительный анализ его эффектов у преступников-подростков из двух экспериментальных исправительных учреждений Калифорнии, Клоуза (Close) и Холтона (Holton). В Клоузе проводился ТА в формате регулярных групповых встреч и заключения индивидуальных контрактов, касающихся достижения социально желательных целей, в то время как терапия в Холтоне делала упор на жетонную систему, в которой начислялись баллы за подобающее поведение (т. е. отвечающее требованиям учреждения), учебную успеваемость и исправление важных поведенческих дефицитов. Терапия в Клоузе вызывала ббльшие изменения в аттитюдах и аффективной сфере, а терапия в Холтоне — более выраженные изменения открытого поведения, и по результатам годичного последующего наблюдения процент нарушений режима условно-досрочного освобождения юношами из обеих терапевтических программ оказался одинаковым (33 0/0). Он был значимо ниже, примерно на 10 0/0, соответствующего показателя для двух традиционных учреждений. Положительное отношение заключенных к консультантам объясняло значительную часть вариативности результатов в обеих программах.
Характеристики терапевта считаются решающими переменными в модели развития человеческих ресурсов Каркхаффа (Carkhuff's Нитап Resources Development — НО) (Holder, 1978). Предполагается, что часть дисперсии терапевтических результатов объясняется такими качествами, как эмпатия, положительное отношение, искренность, и что те, кто имеют такие качества, будут более эффективно обучать жизненным, учебным и трудовым навыкам, которых, по всей вероятности, не хватает делинквентам. Модель HRD предполагает отбор консультантов, работающих на высоком уровне, обученных формированию отношений, подходам к решению проблем, разработке программ, планированию карьеры и преподавательским умениям. Они обеспечивают базу для систематических программ обучения преступников путем моделирования, подкрепления и практики. Эта модель использовалась в учреждениях нескольких американских штатов и в федеральных учреждениях, а также в программах замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия. Холдер (Holder, 1978) обобщил данные последующих наблюдений, показывающих, что средний уровень рецидивизма через два года после выхода на свободу составил 10 0/0, по
![]()
сравнению с двухлетним 5096-ным базисным уровнем для освобожденных из заключения преступников. Акцент на тренинге навыков связывает этот подход с поведенческими и когнитивными вмешательствами, используемыми в работе с преступниками.
Несмотря на важное место, которое в теориях криминальности отводится классическому обусловливанию или двухпроцессной модели, они больше применялись к асоциальному, чем антисоциальному поведению, и соответственно применялись в лечении проблем лиц, совершивших половые преступления, что будет обсуждаться позже. Еще десятилетие тому назад прикладной анализ поведения был доминирующим поведенческим подходом в работе с преступниками (Burchard, Lane, 1982). Хотя его часто называли «социальным научением» из-за включенктя в свой состав моделирования и когнитивных «событий» (см.: Stumphauzer, 1986), этот подход предполагает, что поведение контролируется его средовыми антецедентами (предпосылками и предусловиями) и консеквентами (последствиями), и анализ поведения не следует смешивать с социально-когнитивной теорией Бандуры, которая делает упор на реципрокный детерминизм (глава 4). Методы анализа поведения имеют целью реорганизацию средовых условий подкрепления (environmental contmgenczes), релевантных для определенных реакций или классов реакций. Аверсивные последствия в форме отрицательного подкрепления, наказания, тайм-аута и штрафа за реакцию (response cost) часто встроены в СПЛаНИрованные вмешательства, но отдельно применялись редко. Чаще они являются дополнением к положительным подкрепителям, таким как одобрение, деньги или дозволение сделать желаемое, или к жетонам-подкрепителям, обеспечивающим доступ к этому. Также широко применялось обучение навыкам посредством моделирования, разыгрывания ролей и обратной связи. Основной акцент делается на повышении частоты социально желательных актов поведения, таких как успешная учеба, приобретение трудовых навыков или надлежащая социальная интеракция, исходя из предположения, что эти акты несовместимы с антисоциальными актами поведения. Хотя на практике вмешательство может быть индивидуальным, большинство сообщений касается динамики поведения всех индивидуумов в классе, на рабочем месте или в жилом блоке, например в случае жетонной системы, или реципрокной динамики вследствие заключения соглашения (контракта) об условиях подкрепления между делинквентным ребенком и родителем или лицом, отбывающим пробацию, и сотрудником службы пробации.
Методы управления условиями подкрепления в исправительных учреждениях обычно имеют форму жетонной системы. Было доказано, что эти методы оказывают прямое кратковременное воздействие на целевое поведение, обычно самообслуживание, поддержание порядка в учреждении, соблюдение правил и поведение, связанное с учебой и работой (Johnson, 1977; Nietzel, 1979; Burchard, Lane, 1982; Milan, 1987). Например, в исследовании молодых делинквентов Хоббс и Холт (Hobbs, Holt, 1976) регистрировали эффекты применения жетонной системы в трех корпусах учреждения, четвертый выступал в качестве контрольного
![]()
Жетоны выдавались за подчинение правилам распорядка, выполнение подсобных работ, нормативное общение и хорошее поведение; их можно было обменять на такие подкрепители, как безалкогольные напитки, сласти, сигареты (Мс), развлечения, отпуск домой и окончательное освобождение. Благодаря экспериментальному плану с множественным базисом, анализ данных позволил установить, что введение жетонной системы в каждом корпусе с большой вероятностью сопровождалось повышением среднего процента целевых видов поведения. Другие исследования демонстрируют эффективность жетонного подкрепления при управлении поведением взрослых заключенных (Boren, Colman, 1970). Однако Росс и Маккей (Ross, МасКау, 1976) сообщают об ухудшении поведения делинквентных девушек вследствие введения жетонной системы. Такие сообщения редки, хотя существуют некоторые проблемы при введении жетонной системы в исправительных учреждениях, вызванные отсутствием поддержки со стороны администрации или неумением руководителя программы контролировать действия персонала и другие ресурсы (Laws, 1974).
В 1960-х и 1970-х гг. жетонная система применялась во многих исправительных учреждениях, но в Великобритании ее использование при работе с преступНИКаМИ было ограниченным (Yule, Brown, 1987). Рейд (Raid, 1982) описывает развитие Молодежного лечебного центра Гленторна (Glenthome Youth Treatment Септе), учреждения закрытого типа для лиц подросткового и юношеского возраста, признанных опасными для общества. Вначале молодые люди ставились в условия жетонной системы, но по мере их перевода на менее строгие режимы заключения и роста контактов с внешним миром все большее внимание уделялось индивидуализованным заданиям, развитию социальных навыков и навыков самоуправления. Схожая программа для делинквентов с различными нарушениями была описана Хогхуги (Hoghughi, 1979).
Однако только несколько программ были оценены с точки зрения поддержания и генерализации позитивных изменений после выхода на свободу. Доказательства долговременных положительных воздействий жетонной системы на рецидивизм довольно слабы, а некоторые аналитйки пришли к выводу о ее отрицательном воздействии. Однако, согласно имеющимся данным, преступники, прошедшие такие программы, менее быстро возвращаются к преступной деятельности. Сравнение мальчиков из программы CASE II (Contingencies Applicable to Special Education) с мальчиками из традиционной программы исправительного учреждения выявило у первых более низкий уровень рецидивизма в течение двух лет после выхода на свободу, но не на третий год (Cohen, Filipcjak, 1971). Аналогичные результаты были получены Джеснессом (Jesness, 1975), и оценка жетонной системы в английской частной больнице для молодых мужчин и женщин с нарушениями поведения и криминальным прошлым также продемонстрировала частичный успех (Moyes, Tennent & Bedford, 1985). В сравнении с группой, которой были предложены места в программе и которая их отвергла, пациенты, участвовавшие в программе по меньшей мере шесть месяцев, имели меньше контактов с полицией после года жизни на свободе, но не после двух лет. Однако только одна из этих оценок включала рандомизированное распределение испытуемых по группам, и связь компонентов программы с исходом остается неустановленной. В одном долговременном последующем наблюдении эффектов применения жетонной системы в больнице с максимально строгим режимом не удалось обнаружить
![]()
какой-либо связи между деятельностью в рамках программы и дальнейшим криминальным поведением (Rice, Quinsey & Houghton, 1990)
Итак, по-видимому, жетонная система может помочь в управлении заключенными, но ее использование в качестве средства реабилитации не имеет под собой достаточных оснований. Можно подвергнуть серьезной критике и другие ее моменты. Во-первых, не было продемонстрировано, что целевые виды поведения в исправительном учреждении имеют значение для последующей преступной деятельности, и Эмери и Марголин (Emery, Marholin, 1977) доказывают, что управление условиями подкрепления в исправительных учреждениях не основывается на функциональном анализе криминального поведения ни на общем, ни на индивидуальном уровне. Во-вторых, общие задачи добиться от заключенных подчинения правилам и общественно-полезного поведения в большей мере служат целям администрации, чем интересам самих заключенных. Оптон (0pton, 1975) предполаг<ает, что такие программы не только поддерживают значительный перевес власти в пользу администрации, но и часто являются карательными. Например, программа жетонной системы START (Social Treatment Rehabilitation Training Progшт) для тяжелых в управлении преступников в федеральной тюрьме основывается преимущественно на отрицательном подкреплении в целях формирования уступчивости и не уделяет никакого особого внимания выработке новых навыков (Nletzel, 1979), и общественная обеспокоенность нарушением гражданских прав привела к ее закрытию в 1974 г. Также существуют этические и правовые возражения против использования вспомогательных подкрепляющих стимулов в виде удовольствий, которые не должны быть связаны с поведением, а даваться по праву. И наконец, Росс й Прайс (Ross, Price, 1976) ставят под вопрос теоретическую адекватность оперантной модели, опирающейся скорее на внешнюю, а не на внутреннюю мотивацию, и доказывают, что преступники должны чувствовать свою ответственность за лечение, а не ощущать, что оно им навязано. Милан (Milan, 1987) защищает использование жетонной системы в режимных учреждениях, доказывая, что она делает тюремные условия более гуманными и формирует навыки выживания, но отмечает острый спад интереса к этому методу с 1980 г.
Модификация поведения средствами общины ( Community-based behaviour modification) считается более многообещающей, поскольку приобретаемые навыки лучше переносятся на новые ситуации, когда жизненная и учебная среда схожи между собой. Она может также выиграть за счет влияния недевиантных моделей и посредников изменений, которые контролируют условия подкрепления в естественном окружении правонарушителя. Однако реализация таких программ обычно требует сотрудничества с другими службами и поднимает множество практических проблем. Остаток (0stapiuk, 1982) иллюстрирует это, описывая разработку Shape, бирмингемской программы совместного ведения хозяйства и проживания в коммунах, основной целью которой является выработка у бывших преступников навыков «выживания» в обществе. Помимо обучения штата сотрудников, организаторам программы пришлось решать такие задачи, как сбор средств, поиск территории, налаживание ко\нтактов с полицией и местными университетами, а также одобрение местных жителей.
![]()
В раннем демонстрационном исследовании возможности управления условиями подкрепления у преступников Швицгебель (Schwitzgebel, 1967) контактировал с делинквентами непосредственно в их естественном окружении, «на углу улицы», и приглашал их принять участие в записываемом на пленку интервью, во время которого они получали дифференцированное подкрепление за просоциальные высказывания. Однако в основном работа велась с несовершеннолетними преступниками по направлениям органов социального обеспечения или уголовной юстиции и концентрировалась на учебных или коммуникационных навыках, которые, как полагалось, противодействуют делинквентному поведению. Такие видж антисоциального поведения, как плохая дисциплина дома или в школе, также часто были мишенями в работе с делинквентами, однако попытки изменить непосредственно противозаконное поведение предпринимались редко. Вмешательство обычно включало работу через посредников, например родителей или сотрудников службы пробации, часто оно осуществлялось в условиях учреждения, с семьями делинквентов, в школах и подразделениях пробации
В США проживание в «групповых домах» (group home) обеспечивает наблюдение за более чем десятком молодых людей, которые при этом могут посещать нормальную школу или быть занятыми на общественных работах и навещать свои семьи по выходным. Эти коммуны построены по моДели обучающей семьи, впервые представленной в Доме достижений (Achzevement Place) в Канзасе в конце 1960-х (Braukmann, Wolf, 1987). Модель предлагает сфуктурированное окружение семейного типа, в котором квалифицированные супервизоры, обычно супружеская пара, проводят дифференцированное обучение и поддерживают просоциальные навыки, необходимые в социальной и семейной жизни. Программа начинается с введения жетонной системы, при которой привилегии предоставляются в зависимости от заработанных баллов, затем переходит в « конкурсную» систему и затем в стадию «направления домой». В большом количестве исследований, проведенных в Доме достижений, в которых был использован внутрисубъектный план прикладного анализа поведения, доказан контроль посредством управления условиями подкрепления различных видов целевого поведения, например уборки комнаты, адекватного поведения во время приема пищи, неагрессивной речи (Philhps, 1968), группового принятия решений (Flxsen, Philhps & Wolf, 1973), ведения переговоров (k1fer et al., 1974), поведения при разговоре с полицейскими (Werner et al., 1975) и взаимодействия с взрослыми (Btaukmann, klrrgm & Wolf, 1980). Предпринимались также попытки повлиять на поведение дома и в школе путем использования отдаленных последствий; большое внимание уделялось тренировке сотрудников, с тем чтобы они могли обучать навыкам социального взаимодействия (Braukmann, Wolf, 1987).
К началу 1980-х модель обучающей семьи применялась в 200 «групповых домах» в 20 штатах (Braukmann, Wolf, 1987) и получила некоторое распространение в Великобритании. Например, Браун (Brown, 1985b) описывает отделение в Орчард Лодж (0rchard Lodge) в Лондоне, в котором использовались некоторые положения модели. Однако оценочные исследования показали неутешительные результаты. Киригин с коллегами (klrwn et al., 1982) сравнили Дом достижений и двенадцать аналогичных «групповых домов» с девятью традиционными «общинами». Программы обучающей семьи значимо снижали количество контактов с полицией и судами во время проживания в таком заведении, но не по выходе
![]()
из него. Последующая оценка, учитывавшая данные самоотчетов, показала схоэкие результаты (Braukmann, Wolf, 1987). Брукман и Вольф предполагают, что необходимы дополнительные программы, которые позволят удостовериться, что подростки, прошедшие лечение, возвращаются в окружение, поддерживающее просоциальные навыки.
Более прямое семейное лечение основывается на накопленных данных, свидетельствующих о том, что родители и сиблинги моделируют, подкрепляют и формируют девиантное поведение и что семейные взаимодействия нередко являются дисфункциональными. Реструктурирование отношений в семье, таким образом, может служить как реабилитационным, так и профилактическим целям. Основной стратегией при поведенческом семейном вмешательстве является обучение решению проблем. Например, Кифер и коллеги (klfer et al., 1974) обучали навыкам ведения переговоров в конфликтных ситуациях три пары родитель—ребенок, используя репетиции и социальное подкрепление. Соответствующие навыки были сформированы и обобщены на конфликты в доме. Серна и коллеги (Serna et al., 1986) также продемонстрировали, что у молодых преступников, находящихся на условно-досрочном освобождении, лучше сохранялись коммуникационные навыки по окончании тренинга, если их родители были обучены реципрокным навыкам (т. е. навыкам получать и предоставлять положительную и отрицательную обратную связь). Взаимодействие также улучшалось, если родители принимали участие в тренинге, хотя долговременные эффекты не изучались.
Повсеместно используемой техникой является заключение соглашений или контрактов, которые регулирует обмен подкрепляющими стимулами между двумя и более сторонами и устанавливает четкие нормы взаимодействия (Stuart, 1971). Одна группа исследователей нашла (Stuart, Jayaratne & Tnpodl, 1976), что контракты между родителем и ребенком и учителем и ребенком оказывали лишь ограниченное влияние на поведение в школе и на отношения с матерью у предделинквентных детей и что заключение контрактов наиболее эффективно в многокомпонентной программе. Стамфаузеру (Stumphauser, 1976), например, удалось излечить от воровства 12-летнюю девочку благодаря сочетанию контрактов, усиливающих внимание родителей к ребенку за несовершение воровства, и приемов самоконтроля (самоконтролирования, самоподкрепления и самооценивания). Эффективность заключения контрактов нередко зависит от компетентности терапевта (Stuart et al., 1976) и степени семейной дисфункции. Витерс и Либерман (Weathers, L1berman, 1975), например, предприняли попытку обучить 28 семей делинквентов заключению контрактов и коммуникационным навыкам, но 22 семьи прервали тренинг, и обучение оказало незначительное влияние на тех, кто остался. Они предположили, что заключение контрактов неэффективно в случае семей, потерявших контроль над подкрепляющими стимулами для подростков.
Основные стратегии — это тренинг роДительской тактики (ТРТ) и повеДенческая терапия семейных систем. В настоящее время существует обширная литература по ТРТ, нацеленному на совершенствование приемов воспитания детей в семье (Gordon, Arbuthnot, 1987; kazdm, 1987), но самым разработанным является подход Паттерсона. Отталкиваясь от того, что принуждающие интеракции формируют антисоциальное поведение у детей с проблемами поведения (глава 7), Паттерсон делает упор на практическом обучении родителей различать девиантное поведение и дифференцированно вознаграждать недевиантное поведение.
14 Зак 364
![]()
Он добивается этого, теоретически обучая родителей принципам социального научения, практически обучая их (посредством моделирования и ролевых игр) быть модификаторами поведения и тренируя их использовать такие приемы, как тайм-аут и заключение контрактов (Patterson, 1974, 1982, Patterson, Chamberlian & Reid, 1982). Исследования результатов Т РТ показали, что уровни девиантного поведения детей снижались до попадания в диапазон нормы и сохранялись, по данным последующего наблюдения, в течение года. Кроме того, было продемонстрировано, что программа ТНТ оказывала положительное воздействие на поведение сиблингов и на материнскую психопатологию. Бернал, Клиннерт и Шульц (Bernal, klinnert & Schulz, 1980) не смогли продемонстрировать преимущество ТНТ над клиент-центрированной терапией, но Каздин (kazdin, 1987) считает полезность этого подхода улучшения поведения детей доказанной. Однако влияние программы ТНТ на последующую делинквентность остается неизвестным. Подход Паттерсона нацелен на снижение принуждающего поведения и может оказывать меньшее воздействие на другие виды антисоциальной активности. Так, Мур, Чемберлен и Микей (Moore, Chamberlen & Mikai, 1979) обнаружили, что среди детей, участвовавших в программе Паттерсона, большинство «ловцов внимания» (глава 7) впоследствии совершили преступления, тогда как «социальные агрессоры» ничем не отличались от нормально ведущих себя подростков. Более поздние работы с подростками, уже совершившими преступление, показали уменьшение делинквентного поведения на время лечения, но не после него (Gordon, Arbuthnot, 1987). Возможно, этот подход наиболее эффективен с маленькими детьми.
Поведенческая терапия семейных систем Александера (Alexander's behavioural systems family therapy), или функциональная семейная терапия (Alexander, Parsons, 1973; Barton, Alexander, 1981; klein, Alexander & Parsons, 1977), основана на теории семейных систем, в которой проблемное поведение подростков- рассматривается скорее как результат, а не как причина дисфункциональной коммуникации в семье. Главное внимание уделяется стилям общения в семье, а цель заключается в том, чтобы научить семьи делинквентов более эффективно решать проблемы, приблизив их паттерны коммуникации к таким, которые, как эмпирически установлено, отличают неделинквентные семьи от делинквентных. Терапевты изменяют защитные и двусмысленные интеракции путем моделирования, подсказок и подкрепления ясных и логичных коммуникаций. Взаимоотношения также структурируются на основе контрактов, и в настоящее время подход использует когнитивные методики «рефрейминга» или «рекатегоризации» (relabelling) проблем (Alexander, Waldron & Barton, 1989). В одном из ранних оценочных исследований Александер и Парсонс (Alexander, Parsons, 1973) сравнили функциональную семейную терапию с клиент-центрированной терапией, эклектически-динамической терапией и отсутствием терапии. В последующем наблюдении, продолжавшемся от 6 до 18 месяцев, 260/0 делинквентов, прошедших курс поведенческой терапии, оказались рецидивистами (привлечены к суду за статусные преступления), по сравнению с 47 и 730/0 тех, кто проходил лечение другими методами, хотя Показатели рецидивизма в отношении уголовных преступлений существенно не различались. Программа также оказала значимое воздействие на делинквентность сиблингов (klein et al., 1977). Работая с более серьезными делинквентами в спецшколе, Бартон с коллегами (Barton et al., 1985) установили, что за
-
![]()
15 месяцев последующего наблюдения 600/0 делинквентов, прошедших лечение, были обвинены в совершении преступления, по сравнению с 9396 тех, к которым были применены другие методы. Гордон с коллегами (Gordon et al., 1988) также описывают независимое повторение этой программы с более интенсивным домашним лечением. Только 11 0/0 делинквентов из 27 семей, прошедших функциональную семейную терапию, были в последующем осуждены (наблюдение велось от 2 до 2,5 лет), по сравнению 670/0 делинквентов, с которыми работала только служба пробации.
Модель обучающей семьи и семейная терапия иллюстрируют общую стратегию вмешательства средствами общины, и должным образом обученные парапррфессионалы могут быть не менее эффективны, чем профессионалы (Gordon, Arbuthnot, 1988). Эта стратегия отражает влияние «триадической модели» (Throпе, Tharp & Wetzel, 1967), в которой психолог функционирует как консультант, обучающий посредника, который в свою очередь манипулирует условиями подкрепления, контролирующими поведение целевого индивидуума. Например, Фо и О'Доннел (Fo, 0'Donnell, 1975) привлекли взрослых добровольцев для роли «приятелей» и обучили их подкреплять просоциальное поведение. Делинквенты случайным образом были приписаны либо к такому «приятелю» (п = 264), либо к контрольной группе (п = 178); уровень арестов оценивался в течение года. Результат зависел от характера зарегистрированных до этого преступлений. Из тех, кто ранее совершил серьезное преступление, меньше арестованных за аналогичное преступление было в экспериментальной группе, чем в контрольной (380/0 против 64), но из тех, кто ранее совершил малозначительное преступление, больше совершивших впоследствии серьезное преступление было в экспериментальной группе (160/0 против 7). Было сделано предположение, что программа увеличила возможность контактов последних с другими делинквентами.
Триадическая модель релевантна, в частности, для пробации. Ницель и Химелайн (N1etzel, Himelein, 1987) замечают, что эффективность традиционной пробации остается спорной и ее используют скорее по экономическим, чем по реабилитационным мотивам, и что объединенные требования помощи и надзора обусловливают фокус на аверсивном контроле. Обучение сотрудников службы пробации правильной постановке целей и методам положительного подкрепления конкретных видов поведения может повысить их эффективность (Throne et al., 1967; Nietzel, Hlmelein, 1987; Remington, Remington, 1987).
Хотя есть несколько публикаций о тренинге сотрудников службы пробации, этот подход еще не слишком распространен, и Ремингтон и Ремингтон в своем обзоре (Remington, Remington, 1987) заключают, что исследовательские данные являются «скорее индикативными, чем дефинитивными». Некоторые исследования показывают, что умения сотрудников проводить анализ поведения и управлять условиями подкрепления могут быть существенно улучшены на краткосрочных курсах. Однако тренинг по-прежнему редко применяется на практике. В то время как последние разработки включают обучение сотрудников службы пробации функциональной семейной терапии (Gordon, Arbuthnot, 1988) и когнитивно-поведенческим методам (Ross, Fabiano & Ewles, 1988), имеющиеся оценки ограничиваются в основном использованием контрактов с несовершеннолетними условно-досрочно освобожденными.
![]()
Важным является исследование, которое провели Джеснесс с
коллегами 0esness et al., 1975). Они обучали 90 сотрудников службы пробации
методам прикладного анализа поведения и заключению контрактов. Последние затем
работали с 412 молодыми условно-досрочно освобожденными. Заключение контрактов
было спорадическим, отчасти из-за недостаточного поощрения руководством, и
только треть сотрудников правильно заключила контракты. Из всех обусловленных
договором целевых проблем 59 0/0 были временно сняты, по сравнению с
43 0/0 сопоставимых проблем, снятых в контрольной группе, хотя
значимые эффекты были достигнуты, в основном, в отношении некриминальных
проблем, таких как прогулы и плохое поведение в школе, и не были найдены для
преступной деятельцости, агрессии и употребления алкоголя. В течение
последующего шестимесяч![]() ного наблюдения не было выявлено
существенных различий в повторном осуждении между условно-досрочно
освобожденными, с которыми заключались контракты, и контрольной группой (14 0/0
против 20). Однако более позитивные результаты отмечались в случае, когда
контракты были адекватными, и при сочетании с «безусловно положительным
отношением» сотрудника службы пробации это давало самый низкий уровень
рецидивизма. Таким образом, этот проект показал некоторые положительные
результаты, зависящие, однако, от поддержки и адекватности оказываемой услуги,
а также от постоянной супервизии со стороны первоначальных тренеров. Эти
вопросы получили повышенное внимание в программах, использующих для
предоставления услуг парапрофессионалов (Gordon, Arbuthnot, 1988).
ного наблюдения не было выявлено
существенных различий в повторном осуждении между условно-досрочно
освобожденными, с которыми заключались контракты, и контрольной группой (14 0/0
против 20). Однако более позитивные результаты отмечались в случае, когда
контракты были адекватными, и при сочетании с «безусловно положительным
отношением» сотрудника службы пробации это давало самый низкий уровень
рецидивизма. Таким образом, этот проект показал некоторые положительные
результаты, зависящие, однако, от поддержки и адекватности оказываемой услуги,
а также от постоянной супервизии со стороны первоначальных тренеров. Эти
вопросы получили повышенное внимание в программах, использующих для
предоставления услуг парапрофессионалов (Gordon, Arbuthnot, 1988).
Учебные и профессиональные навыки представляют собой важную цель поведенческих программ при работе с делинквентами, причем как в условиях исправительного учреждения, так и в общине. Вмешательство на базе школы обычно имеет дело с «предделинквентами», т. е. с теми, кто подвержен риску развития делинквентности вследствие школьной неуспеваемости и социальных проблем, таких как плохое поведение в школе или учет в полиции, и поскольку эти программы нацелены на предотвращение делинквентности и третичное вмешательство, они обсуждаются в главе 15.
Навыки прохождения собеседования при приеме на работу часто включаются в поведенческие программы, и сообщается о нескольких программах занятости, адресованных несовершеннолетним преступникам, совершившим серьезное преступление. Твентимен, Дженсен и Клосс (Twentyman, Jensen & kloss, 1978) установили, что поведение во время интервью лиц, находящихся на пробации, у которых были психические нарушения и периоды длительной безработицы, оценивалось и профконсультантами, и ими самими как неумелое по сравнению с безработными из контрольной группы. Была сформирована подгруппа для обучения поиску работы и устройству на нее, а также поведению во время собеседования, включая моменты обхождения «сложных» вопросов. При обучении использовались дискуссии, фильмы, ролевые игры и обратная связь с видеозаписью. Обучение улучшило, относительно контрольной группы, оцениваемые в интервью виды поведения, такие как контакт глаз, внимательность и общая компетентность (overall skill), а также правильность заполнения формы заявления о приеме на работу. В течение двух недель после обучения четверо из пяти человек, входящих в экспериментальную группу, получили работу, тогда как из контрольной группы никто не нашел работы. Более долгосрочная генерализация изучалась Миллсом и Уолте-
![]()
ром (Mills, Walter, 1979) в исследовании обучения профессии 53 молодых людей на пробации, в котором также принимали участие работодатели. По данным годичного последующего наблюдения, все члены экспериментальной группы рань' ше или позже нашли работу, по сравнению с 39 0/0 из контрольной группы (п — 23), и большее их число сохранило работу (3496 против 0). Более того, 91 0/0 экспериментальной группы по сравнению с 30 0/0 контрольной избежали новых арестов.
Несмотря на верность принципам средового детерминизма, модификация поведения средствами общины, в целом, уделяла и уделяет больше внимания изменению отдельных делинквентов, и, за исключением функциональной семейной терапии, лишь несколько подходов пытаются изменить более широкие системы. Как отмечают Гольдштейн с коллегами (Goldstein et al., 1989), вмешательство, осуществляемое средствами общины, должно быть в большей степени вмешательством в общину, и нужно изменять поведение не только тех, кто контролирует условия подкрепления в окружении делинквентов, но также и тех, кто контролирует ресурсы в общем. Штамфаузер, Велоз и Айкен (Stumphauser, Velos & Aiken, 1981 ) описывают, как следует применять функциональный анализ в общине, например в случае проживания в криминальном микрорайоне, но об эффектах такого подхода не сообщается.
Поведенческие вмешательства показали кратковременное улучшение просоциального поведения молодых преступников в различных ситуациях. Однако обобщение достигнутых успехов на внелечебные ситуации не является типичным, и только некоторые программы демонстрируют долговременное воздействие на рецидивизм. Более того, несмотря на свой потенциал в отношении большей гибкости манипулирования средовыми условиями подкрепления, вмешательства, осуществляемые средствами общины, до сих пор не были заметно более успешными, чем вмешательства в условиях исправительного учреждения. Таким образом, обещание изменения поведения преступников так и остается обещанием (Blakely, Davidson, 1984).
Готтшалк с коллегами (Gottschalk et al., 1987) провел метаанализ 30 поведенческих исследований лечения молодых преступников, публикации о которых появились в период с 1967 по 1983 г. По качественным оценкам большинство из них привело к положительному результату, но по критерию величины эффекта нулевая гипотеза об отсутствии эффектов не могла быть отвергнута. Авторы заключают, что нет доказательств эффективности поведенческих техник в изменении антисоциального поведения. Одной из причин этого может быть качество исследований результатов вмешательства. Готтшалк с коллегами (Gottschalk et al., 1987) нашли некоторую связь величины эффекта с интенсивностью (продолжительностью) лечения и адекватностью плана исследований, а Бласта и Дэвидсон (Blasta, Davidson, 1988) установили, что плохая методология не позволяет сделать окончательные выводы. Каздин (kazdin, 1987) приходит к такому же заключению относительно лечения антисоциальных детей. Поведенческое вмешательство, проводимое с преступниками, часто не интенсивно, сос*оит в краткосрочном применении ограниченного набора методик к поведению, связь которого с преступностью не изучена. Кроме того, согласно некоторым публикациям, исход вмешательства зависит не столько от применяемых методик, сколько от целевого
![]()
поведения, условий, характеристик терапевта и пациента, при этом практически не уделялось внимания тому, какие сочетания этих факторов приводят к оптимальному результату (Burchard, Lane, 1982; Blasta, Davidson, 1988). Например, влияние семейного вмешательства зависит и от навыков тренера, и от степени семеЙноЙ дисфункции. Вмешательство будет наиболее эффективным в отношении молодых, совершивших меньше правонарушений делинквентов из здоровых семей.
Основное беспокойство вызывает видимое отсутствие сохранения и генерализации исхода вмешательства. Как отмечают Готтшалк с коллегами (Gottschalk et al., 1987), генерализация не является обязательным критерием успеха прикладного анализа поведения, поскольку допущение о средовом контроле предполагает перенос поведения на другие ситуации, только если они представляют собой общие стимульные элементы. Тем не менее репутация модификации поведения зависит от демонстрации воздействия на рецидивизм. На одном уровне это техническая проблема, поскольку генерализация может быть достигнута при соответствующем программировании (Stokes, Baer, 1977). Однако то, что достигается, — это генерализация стимула, а не генерализация одной реакции на другую (Hollin, Henderson, 1984). Предполагается, что изменения в поведении делинквентов изменят реакции их социального окружения и это приведет к уменьшению вероятности дальнейшего преступного поведения. Но, возможно, из-за догмы «поведение — это только поведение» мало внимания было уделено криминологическим теориям, и целями поведенческих программ в основном были учебные и социальные навыки, функциональная взаимосвязь которых с делинквентностью не установлена (Emery, Marholin, 1977).
Также предполагается, что недавно отработанные навыки будут поддерживаться естественными условиями подкрепления, раз уж они были созданы посредством соответствующего вмешательства. Однако это неявно повторяет модель острого расстройства, в которой «излечение» навсегда достигается «лечением» (kazdin, 1987; kendall, 1989). Учитывая то, что антисоциальное поведение представляет собой постоянное состояние, оно может потребовать постоянного осуществления вмешательства.
Когнитивная модификация поведения включает в себя разнообразные подходы, которые разделяют представление о том, что когниции влияют на поведение, и которые используют и поведенческие, и лингвистические процедуры для изменения когнитивных процессов (Mahoney, 1974; Mahoney, Arkoff, 1978; Brewin, 1989). Однако ей недостает единой теоретической концепции, и это отражает непростой союз в корне отличных философий. Выделяют три типа медиаторной модели (Mahoney, 1974). В мод6ли скрытого обусловливания когниции рассматриваются как скрытые формы открытых феноменов, которые подчиняются установленным «законам научения». Метафору комиций как «видов поведения» можно найти в ранних необихевиористских теориях научения (Davison, 1980) и в анализе личных событий с позиций радикального бихевиоризма (Skinner, 1953), и именно она служила теоретическим обоснованием применения таких процедур, как самоконтроль и скрытая сенсибилизация. Скиннер рассматривал личные события как слабое звено в причинно-следственной цепочке, и мнения бихевиори-
стов относительно полезности этой модели разделились. Однако некоторые приписывают скрытому вербальному поведению важную контролирующую функцию (Lowe, Higson, 1980).
В модели обработки информации когниции более определенно признаются центральными медиаторами поведения и являются процессами и структурами, посредством которым приобретается, хранится и извлекается из памяти информация из внешней среды (Turk, Salovey, 1985). Эта точка зрения предполагает реципрокный детерминизм, при котором люди являются активными искателями и создателями информации, отвечающей их собственному опосредованному представлению о мире. Хотя терапевтические методы не возникли непосредственно из этого подхода, он влиятелен в теоретических объяснениях социальной компетентности (McCall, 1982) и терапевтического изменения (Brewin, 1989).
Теоретическое и эмпирическое обоснование многих когнитивно-поведенческих процедур в настоящее время является незначительным, и критики-позитивисты доказывают, что такие методы по сути просто поведенческая терапия, направленная на «подкласс видов поведения» (Beidel, Turner, 1986). Однако если учесть отсутствие единой теории, такая критика нападает на призрака. Хотя доказывалось, что нет различий в результатах между когнитивно-поведенческими и традиционными поведенческими методами (Latimer, Sweet, 1984), такие сравнения проводились только для некоторых клинических проблем и не могут свидетельствовать о ненужности когнитивного аспекта терапии. В той же мере они дают основание для заявления, что вся успешная терапия была таковой за счет когнитивных изменений (Mahoney, 1974).
Интерес к решению проблем преступников когнитивно-поведенческими методами в последнее десятилетие существенно возрос, хотя доказательств их долговременных эффектов до сих пор немного (Hollin, 1990). Наиболее всестороннюю разработку модели когнитивного научения провели Росс и Фабиано (Ross, Fabiaпо, 1985), которые проанализировали имеющиеся данные о том, что многие делинквенты страдают от недостатка социальных комиций, связанных с эгоцентрическим уровнем когнитивного развития (глава 8). На основе анализа программ реабилитации преступников они заключили, что максимально эффективными были те, которые включали когнитивный компонент (хотя иногда он содержался в поведенческих процедурах, таких как моделирование и ролевые игры, которые, как полагают некоторые специалисты по прикладному анализу поведения, не требуют когнитивной интерпретации). Это нашло подтверждение при последующем метаанализе, выявившем значимую связь между величиной эффекта и включением когнитивного компонента (Izzo, Ross, 1990). Поэтому Росс и Фабиано (Ross, Fabiano, 1985) полагают, что и мыслительная способность, и содержание мышления должны являться основными целями воздействия в реабилитационных программах и что более частными целями должны быть соответственно социальные навыки, решение межличностных проблем, когнитивный стиль, принятие социальной перспективы, критическое мышление, ценности, метакогниция, самоконтроль. При решении этих задач может быть использован широкий диапазон приемов и методик, но здесь кратко описываются только основные стратегии, применяемые в работе с преступниками.
Не существует унифицированного определения ни самих социальных нацыков, ни основных компонентов тренинга. Некоторые программы сосредоточиваются на специфических навыках, таких как коммуникация с определенной категорией людей (см., напр.: Golden et al., 1980; Serna et al., 1986), в то время как другие имеют общий характер и подразумевают постепенный прогресс от развития невербальных микронавыков, таких как контакт глаз и жестикуляция, до 60лее молярных навыков начала и поддержания разговора и, наконец, специфических навыков убеждения, ведения переговоров или гетеросоциальных взаимодействий (011endick, Hersen, 1979; Spence, 1982; Hollin et al., 1986). Точные цели ТСН, используемого в работе с преступниками, не всегда четко определены, но обычно предполагается, что выработка общих или специфических навыков поможет преступнику в дальнейшем избежать совершения нового преступления.
В большинстве сообщений в центре внимания находится эффективность обучения конкретным навыкам, и, проведя обзор 30 исследований делинкЬентных и агрессивных подростков, Голдштейн (Goldstein, 1986) пришел к выводу, что по окончании программы практически во всех случаях были неоспоримые свидетельства того, что навык был приобретен. Например, в исследованиях молодых преступников, препровожденных в места лишения свободы, Оллендик и Херсен (011endick, Hersen, 1979) и Спенс и Марциллер (Spence, Marzillier, 1981) обнаружили улучшение, которое следовало за применением ТСН, в том, что касается микронавыков, таких как контакт глаз и движения головой, хотя некоторые навыки, например обратная связь о внимании (attentzonfeedback), были менее подвержены изменению. Голден с коллегами (Golden et al., 1980) также успешно обучал преступников, находящихся на пробации, навыкам оправдания действий и обращения с просьбой к авторитетному лицу (сотруднику службы пробации), а Серна и коллеги (Serna et al., 1986) продемонстрировали, что у находившихся на пробации улучшился каждый из семи специфических коммуникационных навыков после ТСН. Однако сохранение этих навыков после специального обучения демонстрировалось менее регулярно. Спенс и Марциллер (Spence, Marzillier, 1981) установили, что общие навыки сохранялись в течение трех месяцев после тренинга, но не дольше шести. Данные о генерализации также неоднозначны. ГолдштеЙн с коллегами (Goldstem et al., 1989) отмечают, что в среднем только 15—20 0/0 людей, принимающих участие в такого рода обучении, переносят свои навыки из ситуации тренинга в жизненные ситуации. В их тренинге структурированного научения они смогли увеличить эту цифру до 50 0/0 за счет использования основных принципов научения, интенсивной отработки новых навыков, варьирования тренировочных стимулов и программирования естественного подкрепления.
Некоторые исследования ТСН в исправительных учреждениях показали, что он приводит, по оценкам персонала, к большему подчинению правилам (Sarason, 1968; 011endick, Hersen, 1979), но другие исследования это не подтверждают (Spenсе, Mamlher, 1981; Hollin et al., 1986). Холлин и коллеги (Hollin et al., 1986) установили, что количество дисциплинарных взысканий в результате уменьшается, хотя этот эффект наблюдался как у ТСН-группы, так и у контрольной группы в условиях плацебо-внимания.
Данные о долговременном влиянии ТСН на совершение преступлений так же неоднозначны, хотя оно оценивалось только в нескольких исследованиях. Спенс и Марциллер (Spence, Marzilher, 1981) в шестимесячном последующем наблюдении не выявили никакого существенного влияния ТСН на делинквентность по официальным данным, а по данным самоотчетов участники ТСН показали более высокий уровень совершения преступлений. Некоторые другие исследования сообщают о положительных эффектах, доказательства которых, однако, неубедительны. В раннем исследовании ТСН, включавшем обсуждение делинквентных действий и разыгрывание ролей, Остром с коллегами (0strom et al., 19-71) установили, что находившиеся на пробации преступники, которые приняли участие в эксперименте, реже арестовывались в дальнейшем в течение первых пяти месяцев, чего нельзя сказать о следующих пяти месяцах. Однако Сарасон (Sarason, 1978) описывает пятилетнее последующее наблюдение за участниками краткосрочной институционной программы, включавшей моделирование и разыгрывание проблемных ситуаций, с которыми обычно сталкиваются преступники после выхода на свободу, таких как сопротивление давлению со стороны криминальных друзей или создание проблемы для сотрудника службы пробации. В последующий после ТСН период рецидивизм у участников оказался вполовину ниже, чем у контрольной группы (15 и 3196), хотя ТСН не был успешнее простого обсуждения в группе подобных проблем. Хотя это указывает на «внимание», или неспецифический эффект, групповое обсуждение в данном контексте рассматривалось как символическое моделирование. Однако Холлин (Hollin, Henderson, 1984; Hollin, 1990) полагает, что рецидивизм нельзя брать в качестве критерия результата ТСН, поскольку это предполагает генерализацию реакции, которая не может быть объяснена с позиций поведенческой или криминологической теории. Он отмечает, что если оставить в стороне вопрос о том, имеет ли вообще недостаток социальных навыков какое-либо отношение к совершению преступления, в некоторых программах не удалось доказать, что у их участников действительно был дефицит навыков, выбранных для тренинга.
Процедуры, посредством которых клиентов обучают управлять своим поведением, разработаны на основе различных теорий. При поведенческом самоконтроле клиенты манипулируют антецедентами и последствиями реакции, используя для управления слежение за собой, изменение контролирующих стимулов и назначение себе подкрепления или наказания. Антецеденты и последствия включают скрытые события, и комиции также могут быть целев•ыми реакциями, подлежащими контролю. Несмотря на частое использование этих методов в целях контроля нежелательной деятельности, такой как переедание или курение, существует лишь несколько сообщений об их применении к индивидуальным случаям антисоциального поведения. Например, как мы уже говорили, Штамфаузер (Stumphauser, 1976) сочетал методы самоконтроля и заключения контрактов для решения проблемы воровства у 12-летней девочки. Остановка мысли, при которой самоинструкция «стоп» используется для прерывания когнитивно-поведенческой последовательности, также сочеталась с другими методами, такими как техника самоконтроля, для того чтобы уменьшить вспышки агрессии у школьника (McCullough, Huntsinger & Nay, 1977). Ни одно из этих исследований конкретных случаев не касалось осужденных преступников.
Модификация «Я-утверждений» как способ контролирования аффективных реакций является основным компонентом в метоДе прививки против стресса, который использует отслеживание негативных мыслей, повторение позитивных утверждений и самопОдкрепление при работе над навыками совладания. Этот метод применялся к управлению гневом и будет обсуждаться в следующей главе.
ТСИ имеет много общих моментов с рационально-эмотивной терапией (РЭТ: Ellis, 1977) и с когнитивной терапией Бека (КТ: ВесК, 1976). Все они предполагают, что неадаптивные чувства и неадаптивное поведение часто являются следствием дисфункциональных паттернов мышления, которые необходимо заменить более адаптивным мышлением, что достигается посредством инструкций, дискутирования и выполнения заданий. Однако между этими подходами существуют теоретические и процедурные различия. РЭТ наиболее дидактическая из этих методик. Определенные ядерные иррациональные представления, как предполагается, создают нереалистичные требования, которые, в случае их неудовлетворения, порождают негативные эмоциональные состояния. Когнитивное реструктурирование достигается, во-первых, путем выявления этих представлений на основе опросов, обмена мнениями и дискуссий, а затем оспариванием их посредством отделения желаний от потребностей и переопределения чрезмерных обобщений средствами конфронтации и «домашних заданий».
РЭТ использовалась в работе с преступниками, обнаруживающими затруднения в контроле импульсов. Эти затруднения рассматриваются как результат иррациональных представлений, которые уравнивают желания и потребности и делают их невыполнение невозможным. Терапия ставит целью заменить их на более комйетентные, рациональные когниции. Уоткинс (Watkins, 1977) описывает такое применение РЭТ в отношении группы людей с плохим контролем импульсов, куда входили импульсивный покупатель, педофил, угонщик автомобилей, телефонный хулиган и вуайерист, однако об эффектах РЭТ в отношении антисоциального поведения не сообщается. Соломон и Рэй (Solomon, Ray, 1984) концептуализировали магазинные кражи с тех же позиций и показали, что для 94 магазинных воров были характерны специфические иррациональные представления относительно краж в магазинах (например: «Все делают это», «Торгаши того заслуживают»). Эти представления оспаривалйсь в группах РЭТ, и по данным годичного последующего наблюдения только один из этой выборки совершил новое преступление.
Еще один близкий подход предложили Йохельсон и Саменов (Yochelson, Samenow, 1976), которые разработали процедуры изменения процесса мышления «криминальной личности». Их подход является интенсивным и включает ежедневные индивидуальные сеансы с переходом на сеансы с малыми группами в течение заключения и, по меньшей мере, в течение года после выхода на свободу. Преступник ежедневно заносит свои мысли в дневник, который является основой для конфронтации в терапевтическом процессе, в котором исследуются искажения и ошибки мБпдления и указываются альтернативные образцы. Основная цель — не только развить самопонимание, но и вызвать отвращение к себе (self-disgust), что, как считают Росс и Фабиано (Ross, Fabiano, 1985), представляет собой цель, неуместную в обучающем процессе. Йохельсон и Саменов сообщают, что 13 из 30 преступников, подвергнутых этому подходу, впоследствии действовали ответственно, но они предоставили только ограниченные данные в поддержку этого заявления. Однако некоторые программы для молодых преступников приняли этот подход (Agee, 1986).
Тренинг решения проблем используется в нескольких тренинговых программах саморегуляции, которые сосредоточены на безличных проблемах (например kendall, 1984), и нет твердых оснований ожидать их распространимости на межличностные проблемы (Ross, Fabiano, 1985). Тренинг когнитивного решения межличностных проблем (ТРМП) включает такие методики тренировки навыков, как инструктирование, моделирование, дискуссия и обратная связь, которые используются для обучения когнитивным компонентам решения социальных проблем в целях формирования генерализуемых навыков. Сообщается о нескольких вариантах тренинга (Tisdelle, Lawrence, 1986), но наиболее разработанным считается комплекс методов, созданный Спиваком с коллегами (Spivack, Platt & Shure, 1976; Platt, Prout, 1987). Он начинается с обучения предварительным навыкам, таким как подражание, групповая дискуссия и «размышление вслух». Собственно тренинг решения проблем фокусируется на:
1) распознавании проблемы;
2) придумывании альтернативных вариантов решения;
З) анализе целей и средств;
4) принятии перспективы;
5) причинном анализе;
6) рассмотрении последствий.
Этот метод редко применялся в работе с преступниками. Хайнс и Хайнс (Hains, Hains, 1987) провели тренинг с пятью помещенными в исправительное учреждение делинквентами с диагнозом «расстройство поведения». Они обучали их когнитивным стратегиям разрешения гипотетических социальных дилемм, применяя инструкции, моделирование и репетиции. Все показали улучшенные результаты при выполнении тренинговых заданий, а у трех делинквентов отмечено обобщение на ситуации вне тренинга, которое сохранялось через три недели после завершения тренинга. Эти же делинквенты сообщили об улучшении решения личных проблем. С двумя другими делинквентами тренинг был менее эффективен,_хотя неконтролируемые наблюдения показали, что все молодые люди стали более позитивно реагировать на поведенческую программу учреждения. Долговременные эффекты не изучались. Платт и Проут (Platt, Prout, 1987) также продемонстрировали, что вследствие ТРМП героиновые наркоманы, находящиеся в режимном учреждении, приобрели навыки решения проблем, которые сохранялись после окончания тренинга. И хотя они сообщают об уменьшении преступности среди таких пациентов, ТРМП была лишь компонентом широкой комплексной программы.
Тренинг навыков решения проблем, по-видимому, небесполезен, поскольку такие навыки связаны с когнитивной зрелостью и имеют отношение к другим переменным, связанным с антисоциальным поведением, таким как стили воспитания детей (kazdin, 1987). Однако эффективность этих программ в предотвращении или уменьшении делинквентности еще не доказана. Если абстрагироваться от ряда теоретических и процедурных моментов (Tisdelle, Lawrence, 1986), то по-прежнему остается неясным, есть ли, и если да, то в какой степени они выражены, дефициты навыков решения проблем у преступников (глава 8). Впрочем, возможно, ТРМП наиболее релевантен вмешательствам, проводимым по отношению к агрессивным преступникам (глава 14).
Продемонстрировав наличие у делинквентов с устоявшимся криминальным поведением большей эгоцентричности, Чандлер (Chandler, 1973) затем обучал их принятию перспективы, привлекая к съемке видеофильмов, в которых все участники исполняли роли согласно сценарию. Члены таких ролевых групп впоследствии демонстрировали значимое уменьшение эгоцентричности по сравнению с делинквентами из контрольной плацебо-группы, которая просто делала фильмы, и с делинквентами из необучаемой контрольной группой. По данным 18-месячного последующего наблюдения, уровень преступности в экспериментальной группе снизился примерно вполовину по сравнению с предыдущим периодом, тогда как у двух контрольных групп этот уровень остался неизменным. Несмотря на общую практику разыгрывания ролей в тренинговых поведенческих программах, нет никаких других публикаций о таком его применении.
Навыки принятия перспективы считаются необходимым, но не достаточным условием для продвижения вперед в моральном рассуждении, происходящего в результате когнитивного диссонанса, испытываемого вследствие адаптации и ассимиляции новых данных. Переход с предконвенционального уровня, который, как полагают, характерен для многих делинквентов, на другой, более высокий уровень требует, чтобы они принимали участие в дискуссиях на моральные темы, участники которых приводят аргументы на конвенциональном уровне рассуждения. Дженнингс, Килкени и Колберг (Jennings, kilkenny & kohlberg, 1983) определяют оптимальные условия для когнитивного роста как дискуссии на моральные темы, сосредоточенные на обсуждении таких вопросов, как благо (добро), зло и справедливость; наличие возможностей принятия роли (role-takmg); рассуждение на смежной стадии развития (правило +1) и совместное принятие решений.
Такие условия лучше всего создавать в соответствующим образом структурированном окружении, которое является основным моментом в модели «Справедливое сообщество», принятой в некоторых тюрьмах и образовательных учреждениях. Эта модель предписывает демократические условия жизни, направленные на создание нравственной атмосферы, которая стимулирует идеи социальной справедливости. Она во многом схожа с терапевтическим сообществом; здесь минимизировано неравенство между штатом сотрудников и проживающими, решения принимаются сообща и моральные аспекты социальных ситуаций оцениваются на регулярных общественных собраниях. Данные результатов ограничены, но Шарф и Хикей (Scharf, Н1сКеу, 1976) оценивали эффекты программы «Справедливое сообщество» в женской тюрьме. Заключенные показали значимое улучшение, в среднем на треть стадии, согласно Интервью моральных суждений Колберга, в отличие от контрольной группы за пределами программы и заключенных мужского пола, участвовавших исключительно в дискуссиях на моральные темы Предварительные данные двухлетнего последующего наблюдения показали уровень рецидивизма в 15 0/0, по сравнению с 35 0/0 у остальной части заключенных (Jenmngs et al., 1983).
Более распространенный подход основывается на управляемых
групповых обсуждениях гипотетических моральных дилемм. Гордон и Арбатнот
(Gordon, Arbuthnot, 1987) утверждают, что еженедельные сеансы по 45 минут,
числом от 10 до 20, обычно приводят к продвижению вверх от четверти до половины
стадии для 25—5096 участников. Дискуссионные группы в исправительных
учреждениях могут потерпеть неудачу из-за царящей там атмосферы, которая,
по-видимому, отражает предконвенциональный уровень мышления (Duguid, 1981).
Например, Хикей (Н1сКеу, 1972) установил, что программа из 36 сеансов,
проведенная в тюрьме, вызывала значимые изменения в моральном рассуждении у
половины ![]() частников, а Коупленд и Париш (Copeland,
Pansh, 1979) не смогли повлиять на развитие морального рассуждения в военной
тюрьме. Однако Гиббс с коллегами (Glbbs et al., 1984) описывают успешное
вмешательство в работе с делинквентами, помещенными в исправительное
учреждение. После восьми 40-минутных сеансов обсуждения дилемм 88 0/0
участников, находившихся на стадии 2, перешли на стадию З по сравнению с 14 0/0
из контрольной группы, не получавшей лечения Оказывают ли дискуссионные группы
существенное влияние на рецидивизм или нет, еще предстоит выяснить, хотя
Арбатнот и Гордон (Arbuthnot, Gordon, 1986) нашли, что от 16 до 20 еженедельных
сеансов дискуссий на моральные темы, содержащих принятие перспективы, решение
проблем и навыки слушания, улучшают поведение подростков из группы высокого
риска. У участников дискуссионной группы отмечен прирост почти на полстадии
моральной зрелости, и хотя по оценкам учителей не было различий в числе
прогулов, у группы было меньше дисциплинарных взысканий и опозданий, улучшилась
успеваемость и уменьшилось количество контактов с полицией и судами. Эти
изменения сохранялись и через год после прохождения лечения.
частников, а Коупленд и Париш (Copeland,
Pansh, 1979) не смогли повлиять на развитие морального рассуждения в военной
тюрьме. Однако Гиббс с коллегами (Glbbs et al., 1984) описывают успешное
вмешательство в работе с делинквентами, помещенными в исправительное
учреждение. После восьми 40-минутных сеансов обсуждения дилемм 88 0/0
участников, находившихся на стадии 2, перешли на стадию З по сравнению с 14 0/0
из контрольной группы, не получавшей лечения Оказывают ли дискуссионные группы
существенное влияние на рецидивизм или нет, еще предстоит выяснить, хотя
Арбатнот и Гордон (Arbuthnot, Gordon, 1986) нашли, что от 16 до 20 еженедельных
сеансов дискуссий на моральные темы, содержащих принятие перспективы, решение
проблем и навыки слушания, улучшают поведение подростков из группы высокого
риска. У участников дискуссионной группы отмечен прирост почти на полстадии
моральной зрелости, и хотя по оценкам учителей не было различий в числе
прогулов, у группы было меньше дисциплинарных взысканий и опозданий, улучшилась
успеваемость и уменьшилось количество контактов с полицией и судами. Эти
изменения сохранялись и через год после прохождения лечения.
Популярность когнитивно-поведенческих
методов у практикующих специалистов частично зависит от их теоретической и
философской позиции. Уходя корнями в эмпирическую поведенческую науку, они
иллюстрируют отход от однонаправленного детерминизма и пассивных организмов
бихевиоризма, а также возвращение к интеллектуальным традициям в психологии,
оккупированной эмпиризмом. Впрочем, исследования результатов вмешательств дают
и эмпирическое обоснование применения этих процедур для реабилитации
преступников (Ross, Fabiano, 1985; Izzo, Ross, 1990). Таким образом,
когнитивно-поведенческие вмешательства в работе с преступниками, безусловно,
имеют право на существование. ![]()
Тем не менее их применение поднимает вопросы, аналогичные тем, которые порождались более ранними поведенческими вмешательствами. Например, почти не уделяется внимания взаимодействиям методики с характеристиками клиента, терапевтической средой и агентом изменения (change agent), а функциональные взаимосвязи когнитивных дефицитов с криминальным поведением остаются неясными. Выбор конкретных мишеней, таких как решение межличностных проблем или моральное рассуждение, и ожидание, что их исправление окажет генерализованный антикриминальный эффект, таким образом, основаны на неубедительных предпосылках. Вклад специфических приемов и методик также неоднозначен. Вкогнитивно-поведенческом вмешательстве обычно сочетаются такие методики,
15 Зак 364
как моделирование, разыгрывание роли, репетиция и вербальные инструкции. Хотя предполагается, что поведенческие процедуры являются наиболее действенными в изменении когнитивных процессов (Mahoney, Arnkoff, 1978), было сделано только несколько попыток определить, какие из них являются необходимыми и достаточными. Например, Кендалл (kendall, 1984) сообщает, что комбинированная когнитивно-поведенческая программа давала лучшие результаты при выработке самоконтроля, чем изолированный поведенческий тренинг, а Холлин с коллегами (Hollin et al., 1986) установили, что добавление ТСИ к тренингу социальных навыков не оказало воздействия на результат. Опять же, Сарасон (Sarason, 1978) установил, что моделирование и разыгрывание ролей в социальных проблемных ситуациях оказывают такое же влияние на рецидивизм, как простое обсуждение этих проблем.
Многофакторное лечение, возможно, является идеальным для клинической практики вследствие неоднородности преступников. Однако Каздин (kazdin, 1987) напоминает, что имеющие под собой широкую основу подходы к лечению часто сочетают конкретные методики, выбранные бессиетемно и интуитивно, и что та степень, в какой мультимодальные программы превосходят по эффективности их отдельные компоненты,• еще должна быть установлена. До тех пор пока не определены необходимые компоненты для изменения, такие подходы будут критиковаться за вынужденный эмпиризм.
![]()
ГЛАВА 14
Лечение опасных преступников
У людей, совершивших серьезные преступления против личности, вероятно, имеются множественные психические дисфункции. Эта глава посвящена психологическим вмешательствам в трех пересекающихся областях половых девиаций (сексуальных отклонений), насильственных действий и расстройств личности. Меньшая часть преступников из числа признанных опасными проходит лечение в специальных учреждениях, некоторым оказывается помощь со стороны психиатрических служб в рамках пенитенциарной системы, но психологическое лечение опасных преступников чаще всего проводится в отделениях судебной психиатрии. Поэтому некоторые проблемы, поднимаемые предоставлением услуг преступникам с психическими расстройствами, рассматриваются в первую очередь.
Преступники с психическими расстройствами представляют собой разнородную группу, состав которой зависит от предусмотренных законом определений (statutory definitions), а не только от психиатрического диагноза (глава 10). Например, в некоторых американских штатах они включают «сексуальных психопатов», однако Закон о психическом здоровье в Великобритании не признает совершение преступления на сексуальной почве как такового за психическое расстройство. Опять же, психопа+ическое расстройство определяется как психическое расстройство Законом о психическом здоровье в Англии и Уэльсе, но это не распространяется на Шотландию. Эти расхождения отражают долгие споры о том, какие именно преступники являются кандидатами на психиатрическое лечение, и далеко не все опасные преступники воспринимаются как страдающие психическим расстройством. И наоборот, не все преступники с психическими расстройствами опасны; многие из них не нуждаются в стационарном лечении и поддерживаются средствами общины. Кук (СооКе, 1991b), например, описывает амбулаторное лечение мелких преступников с проблемами депрессии, тревоги и злоупотребления алкоголем, направленных на него шотландским судом согласно программе выведения из системы уголовного правосудия преступников с психическими расстройствами. Однако большинство проблем касаются лечения преступников в судебно-психиатрических стационарах.
Проблемы лечения судебно-психиатрических популяций 437
![]()
Оправданием для выведения из системы уголовного правосудия преступников с психическими нарушениями является наличие психического расстройства, и клиницисты по этическим нормам обязаны обеспечить лечение их страдания или неспособности вне зависимости от того, были ли они причиной совершения преступления или нет. Клинические услуги для этой группы пациентов пересекаются с услугами психиатрической службы в целом. В то время как фармакологическое лечение зачастую наилучший способ лечения острых психотических расстройств, психологические вмешательства представляют собой наиболее надежную альтернативу в случае эмоциональных проблем, таких как депрессия или тревога, и являются решающими при реабилитации. Психически больные и умственно отсталые преступники, например, обнаруживают проблемы мотивационных и социальных дефицитов, типичные для пациентов, долго находящихся на стационарном лечении, и демонстрируют социально неприемлемое поведение, которое препятствует их переводу в места с более слабым режимом. Таким образом, цели реабилитации заключаются в выработке у преступников необходимых навыков совладания и межличностного общения, которые помогли бы им оптимально приспособиться к окружающим условиям, будь то больница, временные общежития для бывших заключенных или их собственный дом.
Тем не менее режимные психиатрические учреждения постоянно критикуются за качество услуг, и, как отмечает Квинси (Qumsey, 1988), лечебные программы чаще всего упоминались в литературе в связи с их отсутствием, плохой реализацией, неподтвержденным статусом, бедным теоретическим обоснованием и неполным описанием. Было проведено несколько последующих наблюдений освобожденных преступников с психическими расстройствами, на основе которых установлено, что около половины совершили преступление снова, хотя только 20 0/0 совершили насильственные преступления (Murray, 1989). Однако эти исследования в первую очередь были посвящены предсказанию опасности преступников и куда меньше внимания уделяли взаимосвязи лечебной программы и результата.
Вопрос об эффективности лечения, тем не менее, является фундаментальным при любой попытке предсказания опасности, а решения об излечимости имеют принципиальное значение для практики (He11brun et al., 1988; Qumsey, 1988). В Великобритании для распоряжения о принудительном помещении преступника в больницу не требуется наличия причинной связи между психическим заболеванием и преступным поведением, но такая связь предполагается для психопатического расстройства и психической ущербности: с 1983 г. для распоряжения о принудительном помещении преступников, подпадающих под эти категории, в больницу требуется заключение об излечимости На основании имеющихся данных, однако, можно предположить, что согласие в клинической среде относительно излечимости даже ниже, чем относительно опасности (Quinsey, 1988), причем две проблемы особенно сильно ограничивают точность решения относительно излечимости. Во-первых, есть некоторая неопределенность, касающаяся целей лечения и критериев исхода. Несмотря на то что клиницисты делают главный акцент на облегчении страдания или смягчении неспособности, участие системы уголовной юстиции в принятии решений об освобождении отражает тот факт, что ожидается, будто лечение преступников с психическими расстройствами поможет также снизить вероятность повторного совершения ими преступления. Эти две цели не обязательно взаимосвязаны. Например, в судебно-психиат-
Лечение
![]()
рических учреждениях превалирует лечение психотических расстройств нейролептиками, в то время как причины антисоциального поведения преступников-психотиков могут быть такими же, что и у преступников-непсихотиков. Хейлбрун с коллегами (Heilbrun et al., 1988) считают, что клинические цели «психологического * улучшения» и криминальные цели должны рассматриваться по отдельности. С другой стороны, Робертсон (Robertsori, 1989) возражает против того, чтобы рассматривать рецидивизм как критерий исхода лечения, предполагая, что лечение в форме госпитализации вносит незначительный вклад в вариацию показателей рецидивизма. Однако такая позиция чересчур поспешно решает эмпирический вопрос об эффектах лечения и, по всей видимости, базируется на медицинской концепции лечения как устранения симптомов, а не на психологической концепции вмешательства как обеспечения навыками, необходимыми для избежания преступных действий в дальнейшем.
Во-вторых, принятие решения об излечимости сходно с оцениванием опасности в плане размытых границ между оценкой и предсказанием (Heilbrun et al., 1988). Оценка излечимости требует наличия четкой грани между предсказанием исхода лечения и оценкой восприимчивости к лечению как констелляции личных и ситуационных характеристик. Первое требует эмпирических данных, касающихся эффективности лечения. Вторая требует надежной меры, учитывающей (1) сопряженность целей лечения и дефицитов пациента, (2) историю реакции пациента на лечение, (З) мотивацию, (4) противопоказания. Она должна также учитывать доступность лечения и ресурсы окружающей среды. Хейлбрун с коллегами (Hellbrun et al., 1988) описывают свои (предварительные) попытки сконструировать такую меру, которые, однако, потерпели неудачу из-за качества доступной информации.
Психологические вмешательства, осуществляемые при работе с преступниками, имеющими психическое расстройство, в принципе не отличаются от методов, применяемых к преступникам в целом. Снижение рецидивизма — необходимый, но не достаточный критерий результата; насущной потребностью является выявление факторов, опосредующих антисоциальное поведение, постановка их в качестве мишеней лечения и выяснение того, какие виды лечения воздействуют на эти факторы. Возможности проведения лечения часто ограничены действием организационных и бюрократических факторов. Например, противоречия между терапией и лишением свободы свойственны абсолютному большинству медучреждений со строгим режимом, что заставляет некоторых авторов называть их антитерапевтическими по сути (Pilgrim, Eisenberg, 1984).
Многие из тех, кто совершил половое преступление, либо отрицают свою вину, либо не признаются в наличии у них сексуальных проблем, и потому не легко включаются в терапевтический процесс. Следовательно, их лечение связано с решением ряда практических и этических проблем. Грот (Groth, 1983) предполагает, что в условиях режимного учреждения необходимо стимулирование в форме привилегий. Лоуз и Осборн (Laws, 0sborn, 1983) наряду с Перкинсом (Perkms, 1987), наоборот, убеждены в важности информированного согласия, хотя, как отмечает Перкинс, по мере прохождения лечебной программы и врачи, и преступ-
Лечение лиц, совершивших половое преступление
![]()
ники становятся объектом давления со стороны судов и других органов. Однако один из исследователей сообщает, что клиенты, направленные на лечение судом, и добровольцы в клиниках для амбулаторных больных не различались между собой ни в отношении исхода лечения, ни в отношении даваемого согласия (Maletzky, 1991). Тем не менее сильная усталость является распространенным явлением даже для добровольцев, и треть или более клиентов прекращают лечение до его завершения (Freeman-Longo, Wall, 1986; Perkins, 1987). Далее, исправительные учреждения исключительно для мужчин не являются оптимальными условиями для развития гетеросоциальных навыков или устранения сексистских установок, поэтому программам, реализуемым на базе режимных учреждениях, необходим доступ к ресурсам общества в целях поддержки заключенного по выходе из тюрьмы или в качестве альтернативной основы.
Несмотря на исчезновение законов о сексуальных психопатах, в настоящее время в Северной Америке существует свыше 300 программ для лиц, совершивших половые преступления (Blader, MarshallJ 1989), а клинические и тюремные психологи в Великобритании все больше и больше привлекаются к работе в этой области. С учетом многомерной природы полового преступления (глава 11), спектр целей лечения задается широким и многие программы используют не один терапевтический подход. Терапия является в основном директивной, что подразумевает признание преступниками ответственности за совершение преступления и за изменения, и поскольку программы часто являются многопрофильными и проводятся на базе многих организаций, обычно открыто заявляется об отсутствии традиционных гарантий сохранения абсолютной конфиденциальности (Salter, 1988). Хотя некоторые психологи работают с жертвами и семьями, основное внимание здесь уделяется работе с преступниками.
Лица, совершившие половое преступление, обычно имеют как сексуальные, так и несексуальные проблемы (Crawford, 1979; Howells, 1981; Marshall, Barbaree, 1990а), и при проведении всесторонней оценки следует учесть социальные, когнитивные, аффективные и физиологические уровни функционирования. Первые интервью отводятся для анализа событий, происходивших до, во время и после преступления, таких как роль настроения, планирования и алкоголя, характер нападения, чувства преступника по отношению к жертве и эмоции по поводу собственного поведения. Интервью также охватывают сексуальное и социальное развитие, включая семейные отношения в раннем детстве, частоту девиантных и недевиантных сексуальных действий и фантазий и сексуальное поведение преступника с согласными партнерами. Должны также быть изучены факторы жизненного стиля, способные привести к девиантным действиям, такие как стиль межличностного общения, виды отдыха и развлечения, злоупотребление психоактивными веществами. Многие специалисты советуют с осторожностью принимать на веру информацию преступника относительно его девиантного поведения (Laws, 0sborn, 1983; Salter, 1988; Maletzky, 1991), равно как и информацию из независимых источников, таких как члены семьи, жертвы и судебные материалы; для проведения адекватного функционального анализа и определения релевантных мишеней нужна более объективная оценка.
![]()
Поведенческие терапевты необходимой считают оценку паттернов сексуального возбуждения; хотя и не все совершившие половые преступления имеют девиантные предпочтения, фаллоплетизмография (ФПГ, см. главу 11) остается наиболее надежным способом их выявления. Согласно рекомендациям Маршалла и Барбари (Marshall, Barbaree, 1990b), ФПГ-реакции на девиантные стимулы, составляющие более 20 0/0 от полной эрекции, указывают на потребность снижения возбуждения, тогда как реакции на соответствующие стимулы, которые составляют менее 30 0/0 от полной эрекции, указывают на повышение эрекции как терапевтическую мишень. В нашем распоряжении имеется также ряд самооценочных мер половои девиации, например Опросник сексуальной истории Кларка (Clarke Sex Hzstory Questzonnaire) (Langevm, 1985), который оценивает частоту широкого спектра сексуальных отклонений от нормы. Сэлтер (Salter, 1988) и Малецкий (Maletzky, 1991) подробно описали другие вербальные методы, такие как сортировка карточек. Оценка субъективного смысла девиантных интересов также поддерживалась Хоуэллсом (Howells, 1979, 1981), который применял в этом контексте репертуарные решетки.
Личностные тесты, наподобие MMPI, как оказалось, имеют ограниченную ценность в том, что касается дифференциации половых девиантов или лиц, совершивших половое преступление, и других преступников (глава 11 но, как отмечает Холл (Hall, 1990), они и не разрабатывались для этой цели. Их полезность заключается в определении предрасполагающих факторов, таких как социализация, враждебность, эмпатия, самооценка или социальная тревожность, которые релевантны для виктимизирующего поведения.
Области социальной компетентности, вероятно, тоже важны и включают дефициты не только заметных социальных навыков, но и решения социальных проблем, контроля гнева, навыков межличностного общения и управления жизнью. Хотя некоторая информация может быть взята из интервью, ее легче выявить при помощи самооценочных шкал и мер стандартизованного самоотчета, а также через посредство самоконтроля и разыгрывания ролей в ходе индивидуальной и групповой терапии. Поскольку искаженные представления играют существенную роль при совершении сексуальных преступлений, они нуждаются в оценке, и в настоящее время в распоряжении специалистов имеются различные шкалы для оценки принятия мифов об изнасиловании или когнитивных искажений, касающихся секса между взрослым и ребенком (см.: Salter, 1988). Повышенное внимание к когнитивному функционированию как к мишени для изменения также требует выявления оценочных суждений, атрибуций и убеждений в самоэффективности у совершивших половые преступления лиц в их социальных взаимодействиях (Segal, Stermqc, 1990).
Органические методы лечения включают нейрохирургию, хирургическую кастрацию и антиандрогенную лекарственную терапию (Freund, 1980; Bradford, 1985). Использование этих методов связано с предположением сторонников редукционизма, что сексуальное отклонение является функцией полового «влечения», которое Фройнд (Freund, 1980) рассматривает как внутреннюю мотивацию сексуального поведения или внутренние образы, возникающие под действием половых
![]()
гормонов. Интерес здесь сосредоточен на снижении уровня концентрации тестостерона в плазме крови. Однако, хотя тестостерон влияет на сексуальную возбудимость и активность, его связь с девиантным сексуальным возбуждением остается недоказанной (Hucker, Bain, 1990)
О хирургическом разрушении гипоталамических ядер, которое предположительно контролирует половое влечение, сообщалось в нескольких исследованиях конкретных случаев, но проведенных исследований пока не достаточно для оправдания клинического использования этого метода (Freund, 1980). Как вариант, в некоторых европейских странах к лицам, совершившим половые преступления, применяется узаконенная кастрация; Хейм и Харш (Heim, Hursch, 1979) проанализировали четыре широкомасштабных катамнестических исследования, согласно которым уровень рецидивизма в этих случаях колеблется от 1 до 7 0/0. Тем не менее они полагают, что эти исследования не лишены методологических недостатков, таких как пристрастность при составлении выборки и неадекватная контрольная группа. Они также отмечают дифференцированное влияние кастрации на сексуальное поведение и приходят к заключению, что она является по существу наказанием с идеологическим подтекстом, которому недостает научного обоснования. Фройнд (Freund, 1980) и Брэдфорд (Bradford, 1985) расходятся во мнениях. Однако аргументация здесь не может быть сведена к эмпирическим данным, учитывая этические протесты в большинстве западных стран против рассмотрения кастрации как «лечения».
Обратимые изменения уровня тестостерона могут быть достигнуты назначением синтетического антиандрогена — ципротерона ацетата (СРА: Androcur) и синтетического прогестогена — медроксипрогестерона ацетата (МРА: Provera) СРА применяется в Европе и Канаде, а МРА — в США. У них разные способы действия, но оба препарата снижают эрекционную реакцию, а также частоту сексуальных фантазий и действий. Однако демонстрация их эффектов во многом ограничивается исследованиями конкретных случаев и катамнестическими исследованиями с отсутствием контрольных групп. МРА снижает сексуальную активность, пока пациент принимает этот препарат, тогда как СРА, по утверждению Брэдфорда (Bradford, 1985), имеет долговременные эффекты и может влиять на девиантное возбуждение. Другие меньше убеждены в их полезности, хотя некоторые авторы допускают периодическое использование этих препаратов в комбинации с методами развития просоциального сексуального поведения.
Классический индивидуальный психоанализ редко используется в работе с лицами, лишенными свободы за половое преступление, а современные психодинамические подходы чаще всего фокусируются на «настоящем, обремененном прошлым» в контексте малой группы (Сох, 1980). Кокс рассматривает проблемы задержанных за половые преступления и помещенных в спецбольницу лиц с точки зрения примитивных защит против доверяющих отношений, поэтому терапия, по его мнению, должна быть нацелена на повышение самооценки и ослабление защит путем раскрытия тревог, идущих от травматического опыта взаимоотношений в раннем детстве. Групповая динамика способствует их раскрытию. Однако главная цель — создать условия для инсайта, чтобы помочь пациенту справиться
![]()
с «неоконченным делом» ранней травмы, и Кокс признает малую вероятность того, что это остановит преступное поведение пациента.
Грот (Groth, 1983) описывает более широкую групповую программу в тюрьме с максимально строгим режимом в Коннектикуте. В качестве основной посылки опять же принимается, что совершение половых преступлений является результатом плохого обращения с пациентом в раннем детстве и что основные проблемы сводятся к дефицитам самооценки, доверия и управления агрессией. Цели программы заключаются в том, чтобы преступник осознал наличие у него проблемы, признал ответственность за свои действия, переоценил свои аттитюды к сексу и агрессии, а также четко понял, что сексуальное нападение представляет собой компульсивный акт, над которым он должен получить контроль. Группа выступает средством взаимной помощи и самопомощи, и программа имеет дело с девятью специфическими сферами, объединенными под тремя рубриками. Во-первых, переобучение, обеспечивающее половое просвещение, понимание сексуального преступления и его влияния на жертву. Во-вторых, ресоциализация, в которой делается упор на межличностные отношения, умение справляться с агрессией и родительские навыки. И наконец, групповое консультирование по таким вопросам, как признаки, предупреждающие о близящемся преступлении, личный опыт виктимизации и способы противодействия сексуальному нападению.
Грот делает предварительную оценку первых четырех лет работы с программой. Из тех, кто принимал в ней участие и впоследствии был освобожден, 19 0/0 были снова арестованы за совершение преступления и 8 0/0 — за совершение сексуального преступления, тогда как соответствующие показатели среди преступников, не участвовавших в программе, составили 36 и 1696. Сопоставимость двух групп не безусловна, но данные свидетельствуют о рентабельности данной программы.
В отличие от психодинамического взгляда на половые преступления как симптом интрапсихических проблем, ранние поведенческие методы лечения половых девиаций обращаются к изменению сексуальных предпочтений и выработке гетеросоциальных навыков. Хотя некоторые до сих пор придерживаются подобных целей лечения (Lanyon, 1986а), многие поведенческие программы теперь включают когнитивные методы и мишени и имеют много общего с программами, предлагаемыми психотерапевтами. Главной целью является достижение самоконтроля, а мишенями — виды сексуального поведения, социальная компетентность и когнитивные искажения.
Изменение девиантных сексуальных предпочтений остается основной мишенью многих программ. Методики снижения Девиантного возбуждения представляют собой по большей части аверсивные процедуры. Ранние виды аверсивной терапии, использующие короткий электрошок конечности или вызывающие тошноту химические препараты, исходили из модели классического обусловливания, согласно которой аверсивный стимул (безусловный раздражитель) систематически сочетается с девиантной фантазией или визуальным стимулом (условный раздражитель), вызывающим девиантное возбуждение (условная реакция). В качестве альтернативной модели принимается оперантная парадигма (парадигма наказания), когда аверсивный стимул подается в зависимости от девиантной реакции (эрекция). Была доказана успешность электрошоковой аверсии в подавле-
![]()
нии девиантного возбуждения от педофилических и насильственных сексуальных стимулов (Quinsey, Earls, 1990), но теперь ее применение поднимает этические проблемы. Возражения носят скорее эстетический характер, поскольку переживание дискомфорта или дистресса присуще многим видам психологической помощи.
Тем не менее применение электрошоковой аверсивной терапии в последние годы снизилось. Более распространенным методом стала скрытая сенсибилизация, при которой клиент представляет себе последовательно девиантные действия до наступления кульминации — аверсивного переживания, включающего физический или психологический дистресс. Это концептуализируется как процедура скрытого наказания, а скрытое подкрепление может быть достигнуто, если побудить клиента представить себе вознаграждение за контролирование девиантных импульсов. Воображаемый материал может либо предлагаться клиенту на аудиокассете, либо быть создан самим клиентом. Хейз, Броунел и Барлоу (Hayes, Brownell & Barlow, 1978) описали успешное применение последнего варианта. Анамнез их пациента включал эксгибиционизм и садистические фантазии. При «ассистируемой» (asszsted) скрытой сенсибилизации девиантное возбуждение, вызванное мысленными образами и контролируемое с помощью ФПГ, сочеталось и с воображаемым аверсивным событием, и с аверсивным запахом, таким как за-. пах газа валериановой кислоты или гниющего мяса (Maletzky, 1991). Малецкий (Maletzky, 1980) применял такую процедуру к 38 гомосексуальным педофилам и 62 эксгибиционистам, которые воображали по три девиантные сцены во время каждого еженедельного сеанса в течение 24 недель, а затем участвовали в периодических закрепляющих (booster) сеансах в течение трех лет. Девиантные фантазии и девиантное возбуждение были существенно снижены, только восемь клиентов впоследствии вновь совершили преступления. Хотя скрытая сенсибилизация зарекомендовала себя как успешная при лечении ряда парафилий, в частности эксгибиционизма (Bliar, Lanyon, 1981), этому методу недостает прочного теоретического обоснования и его эффективность зависит от наличия у клиента яркого воображения. Лоуз, Майер и Холмен (Laws, Meyer & Holmen, 1978) сообщают об успешном лечении сексуальных садистов путем более простой аверсивной процедуры, включающей только сочетание слайдов с обонятельной аверсией.
При аверсивной терапии стыдом клиент выполняет определенный вид девиантного поведения перед зрителями и одновременно озвучивает свои мысли; это может быть записано на видеокассету и подвергнуто общему разбору. Сербер (Serber, 1971) пишет, что пять из восьми педофилов, к которым был применен этот вид терапии, не совершали девиантных действий и через полгода после окончания терапии, но сообщения об этом методе появляются нерегулярно. Чаще применяется метод пресыщения (Marshall, 1979), при котором клиент мастурбирует до оргазма, используя недевиантную фантазию, и затем продолжает мастурбировать, одновременно вербализуя девиантные образы, что также может быть зафиксировано. Вербальное пресыщение само по себе, как было установлено, дает сопоставимые эффекты (Laws, 0sborn, 1983), и методы пресыщения в настоящее время включены во многие программы под общим названием «скучные пленки».
Наиболее популярная методика усиления неДевиантного возбуждения — это мастурбаторное или оргастическое переобусловливание (ORC). Она является одним из наиболее ранних методов поведенческой терапии и включает мастурба-
![]()
цию клиента при фантазировании о предпочитаемой девиации с переходом в момент неизбежности оргазма на недевиантную фантазию Постепенно клиент переходит на недевиантную фантазию все раньше, вплоть до начала мастурбации. Метод 0RC основывается на посылках классического обусловливания, но содержит в себе обратное обусловливание, которое неэффективно (keller, Goldstein, 1978). Конрад и Винсу (Conrad, Wincze, 1976) не смогли продемонстрировать изменения от 0RC в параметрах ФПГ или поведенческих мерах у четырех добровольно обратившихся за помощью гомосексуалистов, несмотря на сообщения самих клиентов об изменении их фантазий и интересов. Лоуз и Осборн (Laws, 0sborn, 1983), однако, сообщают, что еженедельно чередующиеся блоки мастурбаций на девиантные и недевиантные фантазии эффективно снижали педофилическое возбуждение. Использование только мастурбации на недевиантные фантазии, как было установлено, тоже эффективно повышает возбуждение педофилов в ответ на изображения взрослых женщин, с одновременным снижением девиантного возбуждения (kremsdorf, Holmen & Laws, 1980). Было предположено, что механизм изменения является когнитивным: клиент переопределяет свою сексуальную идентичность в результате воспринимаемого изменения источника возбуждения.
Два следующих метода, описанных в ранней литературе, это метод формирования (или последовательного приближения к образцу) и метод фединга (fc dmg) [33] . Метод формирования использует оперантные принципы для постепенного приближения к адекватному возбуждению путем подкрепления эрекционных реакций на изображения (Qumn, Harbmson & McAllister, 1970). Метод фединга (Barlow, Agras, 1973) представляет собой попытки перевести возбуждение с девиантного визуального стимула посредством наложения на него недевиантного стимула. Четкость изображения последнего постепенно увеличивается, а четкость изображения первого постепенно уменьшается в зависимости от состояния эрекции. Эффективность этих методов в работе с лицами, совершившими половое преступление, по всей видимости, не изучалась, хотя биологическая обратная связь относительно реакции эрекции использовалась с умеренным успехом (Qumsey, Earls, 1990)
Эти лабораторные методы, предназначенные для устранения или возникновения возбуждения, считаются эффективными для лечения самых разных отклонений, но существующих эмпирических исследований недостаточно, чтобы можно было сделать выбор между ними. Остаются несколько нерешенных вопросов касательно их использования. Например, предполагается, что подавление девиантного возбуждения и усиление недевиантного возбуждения функционально отличны друг от друга и не являются просто реципрокными, однако Кремсдорф, Холмен и Лоуз (kremsdorf, Holman & Laws, 1980) установили, что подавление девиантных интересов следует уже просто за усилением недевиантного возбуждения. Предположение, что девиантное предпочтение предсказывает рецидивизм, также остается во многом непроверенным (Над, 1990). Тем не менее существует согласие относительно того, что внимание следует уделять и другим аспектам сексуального поведения. Тревога, связанная с гетеросексуальными отношениями, обычно преодолевается систематической десенсибилизацией, а половое просве-
![]()
щение, фокусирующееся на сексуальных нормах и отношениях, может избавить клиента от сексуальных мифов и снизить стыдливость. Хотя некоторые авторы полагают, что не следует уделять внимание обучению общей анатомии и физиологии, Кроуфорд и Хоуэлс (Crawford, Howells, 1982) установили, что краткий курс полового просвещения несовершеннолетних преступников в специализированных больницах эффективно снижает страх перед половым актом.
Попытки улучшить социальную компетентность основываются на
методах тренинга навыков, использующих моделирование и инструктирование,
разыгрывание ролей, обратную связь и репетиции. В ранних программах
предполагалось, что лица, совершившие половые преступления, отличаются
дефицитом разговорных ![]() навыков назначения и проведения свиданий и
ассертивных навыков, поэтому эти программы были нацелены на микронавыки
жестикуляции, контакта глаз и беглости речи (Abel, Blanchard &Becker, 1978;
Crawford, Allen, 1979). Хотя все это неотъемлемая часть программ для данной
категории преступников (Sapp, Vaughn, 1990), в этих тренингах игнорируются
когнитивные компоненты общения и более тонкие навыки формирования и поддержания
интимных отношений. Несексуальные дисфункции также являются частыми
предвестниками сексуальных нападений, и, таким образом, в настоящее время
многие программы фокусируются не только на улучшении гетеросоциальных навыков,
но и на решении социальных проблем, умении справляться с гневом, сочувствии к
жертве, организации свободного времени и на повышении самооценки Обычно эти
навыки отрабатываются в условиях группы, с акцентом приобретении личного опыта
посредством моделирования и репетиций (Marshall, Barbaree, 1990b).
навыков назначения и проведения свиданий и
ассертивных навыков, поэтому эти программы были нацелены на микронавыки
жестикуляции, контакта глаз и беглости речи (Abel, Blanchard &Becker, 1978;
Crawford, Allen, 1979). Хотя все это неотъемлемая часть программ для данной
категории преступников (Sapp, Vaughn, 1990), в этих тренингах игнорируются
когнитивные компоненты общения и более тонкие навыки формирования и поддержания
интимных отношений. Несексуальные дисфункции также являются частыми
предвестниками сексуальных нападений, и, таким образом, в настоящее время
многие программы фокусируются не только на улучшении гетеросоциальных навыков,
но и на решении социальных проблем, умении справляться с гневом, сочувствии к
жертве, организации свободного времени и на повышении самооценки Обычно эти
навыки отрабатываются в условиях группы, с акцентом приобретении личного опыта
посредством моделирования и репетиций (Marshall, Barbaree, 1990b).
Таким образом, тренинг в области социальной компетентности привлекает внимание к социально-когнитивным процессам, и когнитивные искажения также становятся мишенями воздействия во многих программах. Эти искажения включают представления о половых ролях, мифы об изнасиловании, убеждение в допустимости половых отношений между взрослым и ребенком и преуменьшение пагубных последствий сексуального нападения. Методики когнитивной терапии, которые изменяют эти представления и убеждения, применяются в индивидуальном и групповом формате. Например, Мерфи (Murphy, 1990) описывает процедуры когнитивного реструктурирования для борьбы с искажениями, включающие информирование о последствиях нападения (и сопротивления жертвы); изменение допущений, имлицитно присущих искаженным представлениям; смену ролей, в ходе которой преступник оспаривает эти представления, и проработку вербализованных фантазий, взятых из «скучных пленок».
В большинстве поведенческих программ для работы с лицами, совершившими половое преступление, эти процедуры скомбинированы тем или иным образом (Perkms, 1987). Фриман-Лонго и Уолл (Freeman-Longo, Wall, 1986) описали программу для стационарного лечения в Орегоне, которая содержала помимо вышеперечисленных процедур информирование о действии алкоголя и наркотиков, групповую психотерапию и органическое лечение. На данный момент практически не предпринимается попыток «разгрузить» эти комплексные программы, чтобы определить, какие процессы более эффективны.
Непросто сравнивать и результаты программ, поскольку варьируется не только содержание, но и степень риска клиентов, место проведения (закрытое учреждение или община), продолжительность, которая может составлять от нескольких
Многие практические работники рассматривают девиантное сексуальное поведение как сходное с аддикциеЙ, и потому заимствовали процедуры для предотвращения рецидива из области борьбы с аддикциями (Laws, 1989). Согласно этому подходу, первоначальное изменение и поддержание изменения управляются различными процессами (Brownell et al., 1986). Приведет ли срыв (lapse) (единичное событие, включающее возобновление ушедшей привычки) к рециДиву (relapse) (возвращению в прежнее состояние) или нет, зависит от некоторых индивидуальных и ситуационных факторов. Согласно когнитивно-поведенческой модели Марлапа (Brownell et al., 1986), ситуация высокого риска, для совладания с которой у индивидуума нет соответствующих навыков, порождает ослабление убеждения в самоэффективности, срыв («грехопадение») и эффект нарушения возДержания, когнитивный феномен, связанный с измененным ощущением самоконтроля, увеличивающий вероятность рецидива. Таким образом, программы лечения ставят своей целью развитие навыков самоуправления, дающих возможность избежать срывов или предупредить их развитие до рецидива.
Питерс (Pithers, 1990) описывает программу предупреждения рецидива у насильников и растлителей малолетних. Срыв, например возвращение девиантной фантазии, может последовать за ситуацией высокого риска, такой как вождение автомобиля в состоянии гнева в случае насильника или просьба присмотреть за ребенком в случае педофила. Эффект нарушения воздержания может повлечь атрибуцию срыва неудачно проведенному лечению и породить ожидания неизбежности рецидива. Однако, если срыв ожидается, это можно рассматривать как благоприятную возможность для совершенствования навыков самоуправления. Таким образом, первым этапом программы будет устранение нереалистичных ожиданий относительно необратимого «исцеления» и побуждение к активному решению проблемы.
Агрессивным преступникам клиницисты уделяли меньше внимания, чем арестованным за половые преступления. Хотя можно найти случаи нападения с применением насилия в досье «хронических» или «серьезных» делинквентов, преступники, специализирующиеся на насильственных преступлениях, относительно редки, и, вероятно, поэтому лишь немногие психологи избрали своей специальностью работу с агрессивными преступниками. К тому же, за исключением случаев, когда налицо психическое расстройство или когда агрессия заключенного нарушает тюремный режим, агрессивные преступники не рассматриваются как нуждающиеся в помощи, поскольку мужская агрессивность находит подкрепление в культурных нормах Несмотря на это, благодаря вниманию, уделявшемуся в последнее время агрессии в подростковой среде и проблемам насилия в семьях, были разработаны специализированные программы, в которых главную роль играют психологические виды вмешательства, хотя оценок их эффективности пока проведено недостаточно.
Как и лица, совершившие половое преступление, агрессивные индивидуумы редко приходят на лечение добровольно и характеризуются отрицанием виновности, обвинением жертвы и отказом взять ответственность на себя. Первоочередной клинической задачей, тем не менее, является работа не с прошлым актом насилия, а с возможностью совершения преступником подобных действий в будущем. Понимаемая ли как реактивная тенденция или как личностная черта, агрессия — это склонность, зависящая от других атрибутов личности, и как таковая она должна рассматриваться в контексте жизненного стиля индивидуума. Следовательно, внимание только к одной проблемной области редко бывает достаточным для достижения долговременных изменений.
Хотя у нас нет достаточных доказательств наличия у человеческой агрессии специфического физиологического субстрата, фармакологические препараты, воздействующие на настроение, эмоциональную возбудимость или на передачу информации в головном мозге, могут влиять на совершение насильственных действий. Назначение лекарств в немедицинских целях тем не менее вызывает у общественности беспокойство, и Тупин (Тирт, 1986) отмечает, что проведение клиницистами фармакологического вмешательства оправданно только в случае, если насилие имеет медико-психиатрическую основу. Следовательно, лекарственные препараты для подавления насилия используются преимущественно в психиатрических заведениях, хотя известно их применение по отношению к заключенным.
Большие и малые транквилизаторы часто назначаются в кризисных ситуациях, и PRN (рт те nata [34] ) медикаментозное лечение — это обычный способ при вспышках насилия в психиатрических больницах (Drinkwater, Gudjonsson, 1989). Логическое обоснование — успокоение и усыпление пациента, поведение которого угрожает безопасности других больных. Тем не менее использование «химической смирительной рубашки» поднимает этические вопросы из-за ее возможного применения в карательных целях, пренебрежения средовыми причинами насилия и, иногда, пагубных побочных эффектов. В некоторых случаях нейролептики и малые транквилизаторы даже усиливают, а не сдерживают насилие (Drinkwater, Gudjonsson, 1989).
Аргументы для использования лекарств в целях контроля насилия остаются в основном прагматическими: считается, что они иногда позволяют пациентам функционировать более эффективно, но теоретическое и эмпирическое обоснование этого остается слабым. Медицинского диагноза редко бывает достаточно для объяснения насилия, и хотя продолжают предлагаться психофизиологические и биохимические модели агрессии (глава 6), воздействие лекарств на агрессивное поведение кажется в целом неспецифичным. Кроме того, добровольному приему психотропных препаратов препятствуют их неприятные побочные эффекты. Шерд с коллегами (Sheard et al., 1976), например, обнаружили, что свыше 40 0/0 заклоченных, принимавших литий, прекратили прием примерно через два месяца, главным образом из-за побочных эффектов, таких как тремор, сухость во рту, полиурия и тошнота. Наконец, там, где был продемонстрирован контроль насильственных действий, он ограничивался только периодом приема препарата и не сопровождался обучением неагрессивным навыкам совладания. О'Каллаган (0'Callaghan, 1988), однако, предлагает сочетать фармакологические методы с поведенческими, поскольку воздействие препарата зависит от окружения, а научение альтернативным навыкам может облегчаться, когда симптомы не проявляют себя. Доказанное меньшее влияние когнитивного руководства агрессией при низкой и высокой степени возбуждения (Zlllmann, 1979) также оправдывает комбинированное применение методов.
Терапевты, придерживающиеся психодинамической ориентации, рассматривают проблемы насилия в аспекте личностного развития и часто.ставят агрессивным преступникам диагноз «психопатическая личность». Следовательно, элементы лечения схожи с описанными ниже для психопатов. Терапия может быть индивидуальной и групповой и, как и терапия лиц, совершивших половые преступления, нацелена.на развитие самоосознания, эмпатии, самоконтроля и социальной ответственности, что достигается в терапевтических отношениях.
В дискуссиях вокруг методов лечения этой группы постоянно циркулируют два вопроса. Первый касается мотивации пациента и его способности измениться. Пациенты, склонные к насилию, обычно приходят на терапию под давлением семьи или суда, и даже среди принудительно направленных пациентов посещаемость может быть нерегулярной и показатели досрочного прекращения терапии могут быть высокими. Групповая терапия считается менее опасной и, следовательно, более адекватной средой, и нерегулярная посещаемость может дозволяться до тех пор, пока пациент вовлечен в терапию хотя бы в некоторых аспектах. Тем не менее агрессивные преступники могут оказывать пассивное сопротивление вовлечению в терапевтический процесс или могут обмануть терапевта, демонстрируя внешние признаки самоосознания. Неспособность пациента к выражению сильной эмоции прогностически неблагоприятна, и Лайон (Lion, 1978) уверен, что изменение не может произойти без развития депрессивной реакции, сопутствующей зарождающемуся чувству вины. Тем не менее степень изменения ограничена силой эго пациента, и наиболее реалистичной целью лечения может быть «ориентация на устранение симптома» (Carney, 1977).
Второй вопрос связан с требованиями, предъявляемыми к терапевту. Лечение должно продолжаться год или более, сеансы должны проводиться регулярно, и в последующем может потребоваться поддержка терапевта в течение нескольких лет. В то время как для установления доверительных отношений терапевту необходимо искренне принять клиента, фокус на насильственных действиях клиента может породить сильнейший контрперенос, часто приобретающий форму страха перед пациентом. Следовательно, терапевты должны исследовать и вербализировать свои чувства, предпочтительно с другими терапевтами.
Как и в психотерапии правонарушителей в целом, оценок ее эффективности с агрессивными преступниками немного. Карней (Carney, 1977) описывает неконтролируемое катамнестическое исследование участников групповой терапии в клинике для амбулаторных больных. Посещение терапии осужденными было условием пробации, лечение длилось в среднем 13 месяцев, результаты были отслежены через 9 месяцев. Значимое улучшение было обнаружено в сфере приспособления к жизни в обществе, уровень рецидивизма составил 28 0/0. Однако психологическое тестирование изменений не выявило. Карней считает, что, несмотря на отсутствие личностных изменений у преступников, в результате терапии удалось достичь контроля над агрессивным поведением.
Борнштейн с коллегами (Bornstein et al., 1981) исследовали применение поведенческих подходов к агрессивным взрослым. В ранних сообщениях превалировали оперантные методики. Они представляли собой комбинации угашения, тайм-аута, дифференциального подкрепления неагрессивного поведения и гиперкоррекции, заключающейся либо в повторении несовместимых поведенческих актов, либо в возмещении причиненного ущерба. Результаты показывают, что агрессия может быть поставлена под средовый контроль такими методами, однако оперантные исследования преимущественно проводились с лингвистически обедненными лицами, такими как содержащиеся в стационаре умственно неполноценные или хронические больные с психиатрическими диагнозами, которые могут быть более поддающимися внещнему контролю. Кроме того, Борнштейн с коллегами (Bornstein et al., 1981) нашли только одно сообщение об исследовании сохранения эффектов терапии.
В ранней литературе есть также несколько сообщений об использовании систематической десенсибилизации, но они представляют собой в основном плохо оцененные исследования конкретных случаев, и потому ее полезность остается недоказанной. В более современных исследованиях приводятся аргументы в пользу релаксационных техник. Деффенбахер, Демм и Брэндон (Deffenbacher, Demm & Brandon, 1986), например, установили, что управление тревогой, включающее релаксацию и тренинг навыков совладания, оказывает значимое долговременное воздействие на гнев как состояние и на раздражительность как черту, а также, по данным самоотчетов, на реакции раздражительных студентов на фрустрацию. Тренинг социальных навыков также использовался для разрешения связанных с агрессией проблем у делинквентов и агрессивных подростков (Goldstein, 1986). Полезность тренинга подтверждается данными, согласно которым у агрессивных преступников недостаточно развиты неагрессивные ассертивные навыки (kirchпет, kennedy & Draguns, 1979). Тем не менее со всей очевидностью доказано, что агрессивные заключенные в разной степени владеют социальными навыками (Henderson, 1982), поэтому необходимым представляется проведение индивидуализированной оценки.
В одном из немногочисленных исследований лиц, объявленных в судебном порядке делинквентами, Гуерра и Слэби (Guerra, Slaby, 1990) включили решение проблем в программу когнитивного опосредующего тренинга, проводившегося в учреждении со строгим режимом изоляции для совершивших насильственное преступление. Тренинг состоял из 12 еженедельных сеансов тренинга решения социальных проблем в сочетании с процедурами изменения аттитюдов, разработанными для борьбы с убеждениями, оправдывающими применение агрессии. Результаты тренинга сравнивались с результатами двух контрольных групп: плацеф-внимание и отсутствие лечения. Когнитивный тренинг оказал значимое воздействие на навыки решения социальных проблем, убеждения относительно агрессии и институционные оценки агрессии, импульсивности и негибкого поведения. Однако хотя последующее наблюдение также показало более низкий уровень рецидивизма среди участников когнитивного тренинга в период от года„до двух, различия не были значимыми.
Гнев в наше время обычно рассматривается как важный медиатор антисоциальной агрессии и мишень для когнитивно-поведенческого вмешательства (Levey, Howells, 1990). Наиболее широко используемый подход — это предложенная Новако (Novaco, -1978) программа обучения справляться с гневом, которая включает когнитивное реструктурирование и тренинг навыков совладания и представляет собой адаптацию программы «прививка против стресса» Мейхенбаума. Программа состоит из трех стадий.
1. Когнитивная поДготовка: клиента знакомят с природой и функциями гнева, и он начинает вести дневник случаев переживания гнева, помогающий осознать связь между гневом и Я-утверждениями (self-statements) и следить за своими успехами; проводится критический анализ состояний, вызывающих гнев, а затем и обучение различать оправданный гнев от неоправданного.
2. Приобретение навыков: клиента обучают переоценивать вызывающие гнев события и применять самоинструкции а) как директивы при попытке совладать с гневом и б) как самоподкрепление; вырабатывается умение расслабляться, что является еще одним видом самоконтроля, а коммуникационным и ассертивным навыкам обучают, используя моделирование и ролевые игры.
З. Применение на практике: выработанные навыки применяются и тестируются в имитационных ситуациях с все возрастающей степенью гнева. Эта программа может проводиться индивидуально или в группах.
Тем не менее программа практически не использовалась в работе с преступниками. Шликтер и Хоран (Schlicter, Horan, 1981) сравнили схожую программу прививки против стресса, предназначенную для помещенных в исправительное учреждение делинквентов, с упрощенной программой, включавшей контакт с терапевтом, но только в рамках релаксации, и контрольной группой, не получавшей лечения. Оба вида лечения оказали значимые эффекты (по данным самоотчетов) на гнев и агрессию, а прививка против стресса, помимо того, повысила навыки совладания с провокацией, однако проведенная учреждением через две недели оценка не выявила изменений в поведении. Финдлер, Мариотт и Ивата (Fiendler, Marriott & Iwata, 1984) применили похожую программу контроля гнева, включавшую слежение за собой, тренинг самоинструктирования, оценивание себя, решение проблем и снижение возбуждения. Делинквентные школьники в школьной жетонной системе продемонстрировали улучшение в решении проблем и самоконтроле (оценивался учителями) и за пятинедельный срок наблюдения получили меньше штрафных баллов за плохое поведение, в том числе агрессивное. Программа обучения справляться с гневом в английском центре заключения для молодых преступников также привела к меньшему количеству дисциплинарных взысканий у ряда участников за трехмесячный срок наблюдения (McDougall et al., 1987).
Несмотря на недостаток надежных доказательств того, что психологическое лечение вызывает стойкие изменения в агрессивных наклонностях, ясно, что некоторые имеющиеся в распоряжении методы демонстрируют значительный потенциал, а многие возможности остаются еще неисследованными. Последние работы (см., напр.: Guerra, Slaby, 1990) начали заполнять тот теоретический вакуум, в котором осуществлялись ранние поведенческие вмешательства, но такие вопросы, как, например, неоднородность преступников, эффективные компоненты лечения и интенсивность лечения, еще должны стать предметом специального исследования. Примечательно; что в некоторых исследованиях сообщается о генерализованном изменении поведения после тренинга навыков в ограниченной области, длившегося всего несколько недель. На практике, однако, проведение вмешательств с хронически агрессивными преступниками все же требует более интенсивного лечения.
Психологические вмешательства продолжают быть центрированными на индивидууме. Этого, вероятно, недостаточно, когда агрессия поддерживается нормами субкультуры, которые могут появляться в среде исправительных учреждений или в районах с высоким уровнем преступности. Точ (Toch, 1975) приводит аргументы в пользу того, что попытки справиться с применением насилия и заклоченными, и работниками органов уголовной юстиции (например, чрезмерно усердствующими полицейскими или тюремщиками) должны быть направлены на нормы, принятые в соответствующих социальных или профессиональных группах. Он описывает работу в отделе полиции, в котором экспертная группа решала проблемы применения насилия, проводя-консультации, оказывая давление в слу-
чае необходимости и подкрепляя альтернативные нормы профессиональной группы. Эйджи (Agee, 1986) также отстаивает взгляд на позитивную культуру однородных групп как на важнейший проводник изменения среди делинквентов, помещенных в исправительное учреждение.
Лечение психопатии и расстройств личности
Расстройства личности нередко находятся на периферии области нормального, однако именно они наиболее часто диагностируются у преступников и обычно связываются с проблемами агрессии, сексуальными преступлениями и злоупотреблением психоактивными веществами. Эти расстройства особенно распространены в судебно-психиатрических популяциях, часто сопутствуя более серьезным психиатрическим болезням. Например, исследования выборок из специализированных больниц в Англии показывают, что, хотя большинство пациентов идентифицируются как психически больные, более двух третей отвечают критериям- одного или сразу нескольких расстройств личности (Tyrer, 1988; Blackburn et al., 1990). Они не ограничиваются категорией антисоциального расстройства личности и включают шизоидное, избегающее и пассивно-агрессивное расстройства.
Расстройства личности не относят к болезням, поскольку они представляют собой выученные дисфункциональные поведенческие паттерны. Поэтому подходящеЙ целью будет скорее личностное изменение, нежели «исцеление», хотя наиболее достижимой целью может стать выработка специфических навыков совладания. Однако систематические исследования результатов лечения различных форм расстройства личности еще предстоит провести, что отражает недостаток клинического интереса к расстройствам личности, за исключением психопатии, до появления DSM-III (Widiger, Frances, 1985b; ВесК, Freeman 1990). Наше обсуждение будет вынужденно фокусироваться на клинической литературе, посвященной «антисоциальным личностям», но необходимо особо подчеркнуть, что выводы об излечимости «классических» психопатов основаны на исследованиях со слабой методологией и нечетко определенными выборками.
Уже стало общепринятым считать, что диагноз психопатической личности или расстройства личности у преступников, заключенных в тюрьму, связан с большим риском рецидивизма в общем и повторного совершения насильственных преступлений в частности, хотя это может нередко отражать влияние укоренившейся криминальности на данный диагноз (глава 10). Доказательства воздействия лечебных вмешательств крайне скудны. Из 295 исследований антисоциальной личности Левин и Борнштейн (Levine, Bornstein, 1972) смогли отобрать только 10, которые отвечали методологическим требованиям (однородные выборки, нелеченная контрольная группа, проведение последующего наблюдения и специфические критерии исхода лечения). Большинство этих исследований проводилось на несовершеннолетних преступниках, лечение которых проходило в условиях пенитенциарных учреждений. В восьми описывались значимые эффекты лечения в отношении антисоциального поведения, и авторы обзора отмечают, что эти ограниченные доказательства идут вразрез с распространенной точкой зрения, согласно которой антисоциальные личности не поддаются изменению. Однако ни в одном из этих исследований не был использован воспроизводимый критерий антисоциальной личности и непонятно, были ли хотя бы в одном однородные выборки. Например, практически у 60 0/0 преступников с «расстройствами поведения и характера» в одном из исследований (Colman, Baker, 1969) первоначальный диагноз был «шизофрения» или «невроз».
Эта проблема была рассмотрена Сьюдфелдом и Лэндоном (Suedfeld, Landon, 1978), которые провели обзор литературы по индивидуальной и групповой терапии, терапии средой, соматическому лечению и модификации поведения «психопатов» до 1975 г. включительно. Большинство сообщений касалось лечения делинквентов и взрослых преступников. Повсеместное использование неадекватных критериев психопатии не позволили сделать никаких выводов, кроме следующих предварительных: терапия должна проводиться по строгим правилам, при оказании поддержки нельзя быть легковерным; возможно использование лекарственных средств для психопатов в целях достижения раппорта с терапевтом; терапевтическая община может оказаться полезной, и психопаты могут «выгорать» с возрастом. Со времени этих обзоров появилось крайне мало релевантйых исследований.
Состояния, при которых требуется фармакологическое лечение, такие как эпилепсия или расстройства настроения, иногда сочетаются с личностными расстройствами, и Видигер и Франсис (Widiger, Frances, 1985b) предполагают, что в таком случае возможно применение лекарственных препаратов в качестве дополнения к психологическому лечению, поскольку биологическое влияние на личность доказано. Однако если не учитывать проблемы контроля агрессии, у нас не имеется разумного обоснования применению лекарств при этих нарушениях, и они редко используются в клинической практике. Например, Делл и Робертсон (Dell, Robertson, 1988) обнаружили, что только 14 0/0 психопатов были прописаны
медикаменты.
Попытки улучшить послушание при личностных расстройствах с помощью фармакологических средств носят спорадический характер, и имеющиеся данные не позволяют прийти к окончательному выводу (Suedfeld, Landon, 1978; kellner, 1978). Келлнер нашел, что нейролептики и малые транквилизаторы низкоэффективны, но предположил, что некоторые лекарственные препараты могут оказывать положительное воздействие на социопатов, демонстрирующих неконтролируемую агрессию, импульсивность или резкие смены настроения. Он отмечает возможности лития в этом отношении.
Однако уже долгое время проявляется интерес к возможному использованию стимуляторов, чтобы улучшить подчинение правилам и облегчить научение, поскольку есть некоторые свидетельства того, что эти препараты снижают импульсивное антисоциальное поведение у гиперактивных детей. Саттерфилд (Satterfield, 1978) предполагает, что этот эффект достигается посредством увеличения кортикального возбуждения, которое снижает двигательное беспокойство и повышает концентрацию внимания. Он доказывает, что взрослые психопаты также характеризуются сниженным возбуждением и что фармакологические препараты, увеличивающие возбуждение, могут оказать существенную помощь при обучении психопатов или при проведении другой терапевтической работы с ними. Однако гипотеза возбуждения плохо подтверждается (глава 6), и влияние стимуляторов на антисоциальное поведение взрослых изучалось, в основном, исследованиях конкретных случаев. Хилл (Hill, 1947) наблюдал восемь пациентов, которые в течение недолгого времени получали амфетамин, и сделал вывод, что это не имело большой ценности для неадекватных, пассивных, истерических или неврастенических личностей, но хорошо подействовало на агрессивные характеры, способные к установлению теплых межличностных отношений. Это, однако, нехарактерно для «классических» психопатов. Стрингер и Джозеф (Stringer, Josef, 1983) сообщают о лечении метилфенидатом двух пациентов с диагнозом «антисоциальное расстройство личности», у которых в детской истории болезни было отмечен синдром дефицита внимания. Оба были более склонны к сотрудничеству и менее агрессивны в период приема препарата, но эффект продержался только до окончания лечения.
В преддверии когнитивной терапии Торн (Thorne, 1959) описывал «социопатические реакции» в адлерианских терминах как активно-оборонительный жизненный стиль, защищенный эгоцентрическими аттитюдами и избеганием ответственности. В индивидуальной терапии делался упор на установлении границ, принятии ответственности за негативные последствия, инсайте в отношении обреченного на провал поведения, проверке реальностью и открытии того, что «честность — лучшая политика». Данных о результатах не было представлено, но Торн заявлял, что лечение было успешным в случае всех семи пациентов, хотя для некоторых понадобилось 12 лет. Вэллен (Vaillant, 1975) также достаточно оптимистичен в отношении перспектив лечения. Он оспаривает мнение Клекли, согласно которому психопатам для изменения недостает тревоги и мотивации, рассматривая его как стереотип «терапии, уклоняющейся от пациента». Он предполагает, что поведение антисоциальных личностей отражает незрелые защиты против страхов зависимости и близости, и описывает четыре исследования конкретных случаев, в которых успешному достижению изменения личности, по-видимому, больше способствовали содержание в стационаре, жесткий поведенческий контроль и конфронтация, чем интерпретация и поддержка со стороны однородной группы. Вуди с коллегами (Woody et al., 1985) настроен более пессимистично. Среди амбулаторных больных, лечившихся от наркомании или алкоголизма методами когнитивной или поддерживающей экспрессивной психотерапии, пациенты с антисоциальным расстройством личности демонстрировали незначительные изменения по различным психиатрическим и психологическим показателям сравнительно с пациентами, имевшими тот же диагноз, но страдавшими еще и депрессией. Авторы предполагают, что сложности при формировании терапевтических отношений препятствуют успешному лечению при антисоЦИтлЬНОМ расстройстве личности. Тем не менее для этой группы были установлены некоторые умеренные улучшения в области занятости и противозаконного поведения.
Понятие терапевтической общины (ТО) появилось в Великобритании в 1940-х гг. и в Калифорнии в 1950-х, и в настоящее этот термин объединяет различные виды терапевтической организации (kennard, 1983). Для настоящих целей наиболее подходящими являются демократическо-аналитические и КОНЦеПтуально-обоснованные (concept-based) ТО. Первые наиболее распространены в Великобритании и обычно представляют собой небольшую общину подростков или молодых взрослых с невротическими проблемами или расстройствами личности, образованную с целью разрешения внутренних конфликтов и содействия ответственному социальному поведению вследствие сочетания таких условий, как демократическое распределение власти, пермиссивность, общинная организация жизни и конфронтация с реальностью. Наиболее известным примером является госпиталь Гендерсона (Henderson Hospital), в котором работал Максвелл Джонс (Jones, 1963), но эти принципы также были использованы в тюрьме Грентон Андервуд (Gunn et al., 1978) и в спецотделении Барлинни (Barlinnie Special Unit) шотландской тюрьмы (СооКе, 1989).
Концептуально-обоснованные ТО более распространены в США и представляют собой иерархически организованные сообщества, берущие свое начало в философии самопомощи. В основном они занимаются реабилитацией алкоголиков и наркоманов и базируются на модели Синацона и Финикс Хауза (Phoenix Ноше), а сотрудниками обычно являются бывшие наркоманы. ТО этого вида были основаны в некоторых тюрьмах (Wexler, Falkin & Lipton, 1990) и исправительных учреждениях для несовершеннолетних преступников (Agee, 1986). Согласно Кеннарду (kennard, 1983), независимо от разных моделей, ТО обладает следующими общими характеристиками: 1) неформальная атмосфера, 2) регулярные встречи, З) разделение обязанностей по поддержанию порядка в общине, 4) признание постоянных жителей как ассистентов терапевтов. Основная предпосылка состоит в том, что делегирование ответственности жителям общины, поставленным в условия «живи и учись», которые способствуют открытому выражению чувств и исследованию отношений, будет содействовать развитию самоконтроля.
Копас и коллеги (Copas et al., 1984) также нашли, что вторичные психопаты получают меньше всего пользы от ТО и что пациенты, достигшие наибольшего успеха, уже обладали адекватным репертуаром коммуникационных навыков и с самого начала были более социализированными. Такие же результаты получены в Канаде. Харрис, Райс и Кормьер (Harris, Rice & Cormier, 1989) провели десятилетнее последующее наблюдение за случаями рецидивизма насилия среди преступников, которые не менее двух лет были членами ТО, основанной в больнице с максимально строгим режимом, в которую они были направлены по решению суда. По их данным, 77 0/0 из тех, кто получил высокие показатели по Контрольному перечню психопатии Хэйра, совершили повторное преступление, по сравнению с 24 0/0 получивших низкие показатели. Оглофф, Вонг и Гринвуд (0gloff, Wong & Greenwood, 1990) также установили, что пациенты-преступники, бывшие в ТО и имевшие высокие показатели по Контрольному перечню психопатии Хэйра, находились на лечении более короткий срок, чем преступники со средними или низкими показателями, и оценивались как менее мотивированные и достигшие меньших улучшений.
Поведенческие подходы применялись для решения таких проблем, как агрессия, половая девиация или недостаточные навыки межличностного общения в девиантных популяциях, значительную часть которых, вероятно, составляют люди с расстройствами личности. К сожалению, лишь некоторые из этих программ идентифицируют своих клиентов как имеющих психопатическую личность или расстройства личности. Весьма вероятно, что поведенческие терапевты в основном имеют дело с расстройствами личности, но предпочитают называть их как-то иначе. То, что у них считается недостатком социальных навыков, включает, например, социальные избегание и тревогу, недостаток ассертивности и неадекватное выражение гнева, а эти характеристики входят в число критериев расстройства личности. К примеру, проблемы с выражением гнева входят в состав критериев, определяющих пассивно-агрессивное, пограничное и антисоциальное расстройство личности.
Несмотря на их антипатию к диспозиционным понятиям, некоторые поведенческие терапевты пытаются включить клинические концепции расстройства личности в поведенческую концептуальную систему, обычно переводя их в плоскость недостатка навыков. Маршалл и Барбари (Marshall, Barbaree, 1984), например, концептуализируют расстройства личности как неподходящий поведенческий репертуар взаимодействий с людьми, демонстрация которого индивидуумом не может вызвать вознаграждающие или неаверсивные реакции у других. Несколько поведенческих программ для недифференцированных расстройств личности были описаны как успешно снижающие социальную дисфункцию. Джонс и коллеги 00nes et al., 1977), например, описывают краткосрочную жетонную систему в отделении госпиталя для военнослужащих, которым был поставлен диагноз «расстройство личности». Сочетание индивидуализированного контракта об условиях подкрепления с системой подкрепления в форме начисления баллов за внешний вид, работу и учебные достижения привело к значимо большему проценту вернувшихся на действительную военную службу, чем в контрольной группе. Мойз, Теннет и Бедфорд (Moys, Tennet & Bedford, 1985) также нашли, что программа, комбинирующая жетонную систему, индивидуализированное управление условиями подкрепления и выработку социальных навыков, снижает уровень агрессивного и деструктивного поведения и число случаев членовредительства у лиц подросткового и юношеского возраста с расстройствами поведения и характера. В результате этого уменьшаются последующие контакты с полицией. Однако претенциозная программа жетонной системы, описанная Кавиором и Шмидтом (Cavior, Schmidt, 1978), в которой преступники распределяются по разным видам лечения в соответствии с системой классификации поведения Квея, не смогла продемонстрировать значимого снижения уровня рецидивизма или какие-нибудь другие эффекты в отношении психопатов.
Когнитивно-поведенческие подходы, заново описывающие расстройства личности в терминах дефицитов навыков, следуют перифералистской, молекулярной установке традиционной, основанной на теории научения, терапии и избегают любой более широкой концептуализации личности. Однако в литературе о методах лечения нередко допускается, что наличие расстройства личности снижает эффективность программ, фокусирующихся исключительно на выработке навыков (ВесК, Freeman, 1990). Бек и Фримен приводят доводы в пользу более молярного подхода, полагая, что черты личности являются открытым выражением скрытых или глубинных когнитивных схем, обусловливающих обобщенную поведенческую стратегию. Считается, что каждое расстройство личности характеризуется особым когнитивным профилем, отражающим композицию представлений, аттитюдов, аффектов и стратегий, организованных вокруг общей темь\ — человеческой натуры вообще и собственной натуры в частности. Например, согласно такому подходу, пассивно-агрессивные личности находятся во власти представлений, что другие препятствуют их свободе действий и что они должны все делать по-своему. В случае антисоциальных личностей когнитивное ядро образуют убеждения в том, что они ищут себя и имеют право нарушать правила, что находит отражение в стратегиях нападения на других или их эксплуатации. Бек и Фримен придают меньше значения отсутствию «супер-эго», чем эгоцентрическому уровню морального развития, на котором эгоистические представления минимизируют будущие последствия. Терапия имеет своей целью усилить когнитивное функционирование, используя мотивацию личной выгоды. Клиницисты пытаются побудить клиента пройти путь от стратегии абсолютного, ничем не ограниченного эгоизма к стратегии ограниченного эгоизма, принимающего в расчет потребности других, применяя направляемые (gided) дискуссии, структурированные когнитивные упражнения и экспериментирование с новыми образцами поведения.
В лечебной литературе практически нет новых данных, которые можно бы было добавить к предварительным наблюдениям Сьтфелда и Лэндона (Suedfeld, Landon, 1978). Число исследований с хорошей методологией, выделяющих из расстройств личности специфическую категорию психопатической личности, столь мало, что можно сделать только два следующих вывода. Во-первых, неизвестно, действительно ли «ничто не работает» в случае психопатии. Во-вторых, некоторых преступников с расстройствами личности можно изменить психологическим лечением. Не существует систематических доказательств, что какой-либо из подходов является приоритетным, но процедуры, структурирующие терапевтическую среду, такие как жетонная система и терапевтическая община, эклектйческая психотерапия, групповая терапия, тренинг социальных навыков и когнитивное реструктурирование, можно считать эффективными. Некоторые из когнитивно-поведенческих методик, разработанные для преступников в целом (решение межличностных проблем, тренинг морального рассуждения), по-видимому, особенно хорошо подходят для пациентов с расстройствами личности, но это еще нуждается в дальнейшем изучении.
16 Зак 364
![]()
ГЛАВА 15
Эффективность и этика вмешательства
Введение
В течение 1970-х исправление или перевоспитание преступников как цель пени: тенциарной системы подвергалось нападкам. Оценки исследований результатов реабилитации позволили предположить, что никакие реабилитационные программы не влияют на рецидивизм и что повторное совершение преступления больше связано с наличием благоприятной возможности, давлением криминальных элементов, недостатком поддержки со стороны семьи или с депривирующими окружающими условиями, чем с личными недостатками, с которыми как раз и работают реабилитационные программы. За эти выводы ухватились сторонники правого крыла политической философии, получившей распространение по обе стороны Атлантического океана, и реабилитация уступила место «жесткой» политике по отношению к нарушителям закона.
Однако, как было показано в главах 13 и 14, за последние два десятилетия методы психологического изменения, целью которых является снижение вероятности повторного совершения преступления, стали более разнообразными, и их количество существенно возросло. И хотя очевидно, что ни один из них не является панацеей и что впечатляющие успехи достаточно редки, также очевидно, что многие психологи, работающие с преступниками, продолжают верить в эффективность своих процедур. В свете общей разочарованности в реабилитационных подходах это может быть истолковано как профессиональная близорукость. Данная (последняя) глава покажет, какие доводы могут предоставить психологи в пользу своей веры в психологическое вмешательство. Однако поскольку многие виды вмешательств в первую очередь направлены на предупреждение совершения преступления, а не на перевоспитание осужденных, психологический вклад в профилактику преступности будет рассмотрен первым.
Первичная и вторичная профилактика
Профилактические подходы к психологическому расстройству изначально следовали модели общественного здравоохранения, согласно которой предотвращение наступления расстройства эффективнее вторичного или третичного вмешательства. Ограничения этой аналогии отмечались все чаще, и они особенно очевидны в контексте предотвращения делинквентности. Например, делинквент-
вторичная профилактика
![]()
ность — это не отдельное расстройство, и при отсутствии четких критериев начала разграничение первичной и вторичной профилактики часто становится затруднительным. Первичная профилактика обычно адресована популяции «благополучных» граждан или же группам риска, не являющимся дисфункциональными, в то время как вторичная профилактика представляет собой быстрое вмешательство при вовремя распознанной дезадаптации (Durlak, 1985). Однако наиболее последовательно идентифицируемые факторы риска в отношении делинквентности, такие как ранние нарушения поведения или проблемы в семье, являются сигналами дисфункции, требующими вмешательства для устранения самих этих проблем, даже если долгосрочной целью будет предотвращение криминального поведения. Таким образом, только некоторые профилактические программы в этой области могут рассматриваться как первичные в обычном понимании.
Дополнительная трудность заключается в том, что недостаточные знания о специфических причинных процессах в делинквентности препятствуют выявлению адекватных мишеней для профилактического вмешательства: Некоторые социологи доказывают, что более адекватными мишенями, чем индивидуумы, входящие в группы риска, являются социальные институты, но Фаррингтон (Farrington, 1985) возражает на это, что имеющиеся данные свидетельствуют против простого выбора между индивидуальными и социальными детерминантами. На самом деле и социологические, и психологические подходы к профилактике преимущественно пытаются повлиять на функционирование индивидуумов, и психологические подходы все больше основываются на трансактных или экологических моделях, которые отдают должное реципрокному взаимодействию многочисленных индивидуальных и социальных факторов (Rosenberg, Repucci, 1985; Zigler, Hall, 1987). Хотя вопрос о том, может ли известное нам быть преобразовано в эффективную профилактику, остается открытым, некоторые последние теоретические разработки предполагают, что мы знаем достаточно для того, чтобы выявить перспективные мишени. Наиболее многообещающим фокусом являются предотвращение делинквентного развития путем раннего вмешательства, минимизация рецидивизма путем замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия и ситуационная превенция криминальных актов.
Представляется достаточно очевидным, что антисоциальное поведение представляет собой относительно стабильную характеристику с устанавливаемыми антецедентами в детском возрасте, поэтому модификация индивидуальных и семейных факторов может предотвратить развитие в направлении последующей делинквентности. Так как эти антецеденты зачастую могут быть концептуализованы как дефицитарность навыков и умений, то психологические подходы делают упор на повышении компетентности детей и/или родителей, входящих в группы риска. Это достигается как путем прямого вмешательства, так и путем изменения социального окружения. Целью программ, направленных на повышение компетентности, является формирование или упрочение навыков и умений, личностных ресурсов, а также навыков совладания, представляющих собой «буфер» против стресса или дисфункции. Как отмечают Нитцель и Химеляйн
![]()
(Nietzel, Himelein, 1986), такое вмешательство должно быть ориентировано на те специфические недостатки, которые в большей мере коррелируют с делинквентностью в данной возрастной группе. Таким образом, вмешательство зависит от того, какая стадия развития является мишенью, и от того, фокусируется ли оно на обществе, школе или семье.
Классическая попытка предотвращения делинквентности — Кембриджско-соммервильское исследование молодежи (Cambridge-Somerville Youth Study), проведенное в 40-х гг. Свыше 500 мальчиков в возрасте от 5 до 13 лет, «трудные» или «нормальные» в плане социального поведения, были случайным образом распределены в контрольную и экспериментальную группы. Мальчики из контрольной группы просто обеспечивались информацией, в то время как мальчикам из экспериментальной группы предоставлялись консультации социальных работников по личным и социальным вопросам, оказывалась консультативная учебная и медицинская помощь, и к тому же они участвовали в молодежных программах, в среднем в течение пяти лет. В 30-летнем последующем наблюдении не было выявлено различий между этими двумя группами в отношении совершения преступлений во взрослом возрасте; многие из экспериментальной группы совершили по меньшей мере два уголовных преступления (McCord, 1978). Более того, получавшая дополнительные услуги (экспериментальная) группа обнаружила признаки негативных побочных эффектов в виде большего пристрастия к алкоголю, серьезных психических болезней, занятости на неквалифицированных видах труда и ранней смерти. Полнота вмешательства не была обеспечена в достаточной мере, поскольку встречи с консультантами проводились не столь часто, как было запланировано. Впрочем, аналогичный менее масштабный проект социального патронирования антисоциальных школьников также потерпел неудачу в предотвращении развития делинквентного поведения (Hodges, Tait, 1965).
Некоторые программы профилактики делинквентности на базе школ пытались улучшить школьную успеваемость и просоциальное поведение среди предделинквентных подростков. Например, ПЕР (Preparation through Responsive Educational Programmes) был хорошо разрекламированным поведенчески ориентированным проектом, который проводился в школах штата Мэриленд в начале 70-х гг. (Filipczak, Friedman & Reese, 1979). Проект включал контракты об условиях подкрепления, социальное и материальное подкрепление в классе, тренинг социальных навыков и тренинг родителей. Целью проекта было совершенствование учебных и социальных навыков подростков, испытывающих трудности в учебе и/или имеющих социальные проблемы. Комплексная оценка, включавшая и данные четырехлетнего наблюдения по завершении проекта, была проведена Берчардом и Лейном (Burchard, Lane, 1982) и показала, что программа оказала временное воздействие на успеваемость, но не имела никакого влияния на не связанные с учебой сферы, такие как оставление школы и делинквентность. Эти авторы сделали вывод о недостаточной доказанности эффективности поведенческих профилактических программ на базе школы и выразили сомнение в их рентабельности. Однако положительные результаты были получены Браем (Bry, 1982), который описал успешную профилактическую программу, направленную на улучшение школьной успеваемости у подростков. Подростки были случайным образом распределены в контрольную и экспериментальную группы. В течение двух лет мальчики из экспериментальной группы (и их родители) регулярно получали об-
вторичная профилактика
![]()
ратную связь о школьной успеваемости, подкрепление адекватного учебного поведения, тренинг самоэффективности, требующейся для совладания с трудными ситуациями. Последовавшее через 5 лет обследование показало, что мальчики из экспериментальной группы демонстрировали более низкий уровень хронической преступности по сравнению с контрольной группой (9 0/0 против 27). Однако группы практически не различались между собой в отношении злоупотребления психоактивными веществами.
Повышение компетентности также было целью вмешательств, проводившихся с семьями делинквентов (глава 13). Будучи эффективной в качестве третичной профилактики, функциональная семейная терапия также продемонстрировала определенные успехи как вторичная и как первичная профилактика. В трехлетнем катамнестическом исследовании по окончании оригинальной программы Кляйн, Александер и Парсонс (klein, Alexander & Parsons, 1977) установили, что уровень преступности у срблингов делинквентов в семьях, с которыми проводилась функциональная семейная терапия, составлял 20 0/0 по сравнению с 40—63 0/0 среди сибџингов делинквентов в семьях, к которым применялись иные подходы. Гордон и Арбутнот (Gordon, Arbuthnot, 1988) повторили данное исследование и также сообщили, что уровень рецидивизма у делинквентов, к которым был применен данный подход, был существенно ниже, чем у делинквентов, освобожденных условно без проведения каких-либо последующих процедур ( 11 % против 67); они с меньшей вероятностью становились преступниками во взрослом возрасте (1096 против 45).
Недостаточная успешность программ,
созданных на базе школы, может объясняться тем, что они производят
вмешательство на той стадии развития, когда делинквентные наклонности уже стали
слишком сильными. Первичное вмешательство в течение первых лет обучения в школе
или же в дошкольный период, таким образом, может оказаться более эффективным.
Один из подходов представляет собой снижение импульсивности путем выработки у
детей младшего школьного возраста социально-когнитивных навыков (Spivack, Platt
& Shure, 1976), хотя доказательства его долговременной эффективности
отсутствуют. Хокинс и др. (Hawkins et al., 1987) описали проект, осуществленный
с детьми первого-третьего классов из школ Сиэтла, включавший в качестве
основной составляющей активный родительский тренинг. Их модель социального
развития сочетает в себе теории социального наущения и теории социального
контроля и предполагает, что формирование связей и привязанностей в семье
является основой для последую![]() щих связей со школой и группой
сверстников. Формирование связей рассматривается как зависящее от
наличествующих возможностей и навыков, необходимых для участия в социальных
событиях, равно как и от того, что подкрепляется и наказывается в данной
социальной единице. Поэтому их программа направлена на выработку у родителей
навыков управления семьей и семейной коммуникации. Предварительные данные
широкомасштабного рандомизированного исследования показывают, что посещение
родителями тренинговых занятий было значимым образом связано с улучшением
родительского поведения и снижением детской агрессивности (результаты были
получены через год после проведения тренинга).
щих связей со школой и группой
сверстников. Формирование связей рассматривается как зависящее от
наличествующих возможностей и навыков, необходимых для участия в социальных
событиях, равно как и от того, что подкрепляется и наказывается в данной
социальной единице. Поэтому их программа направлена на выработку у родителей
навыков управления семьей и семейной коммуникации. Предварительные данные
широкомасштабного рандомизированного исследования показывают, что посещение
родителями тренинговых занятий было значимым образом связано с улучшением
родительского поведения и снижением детской агрессивности (результаты были
получены через год после проведения тренинга).
Вмешательство на ранних стадиях имеет целью ускорение умственного и психического развития детей дошкольного возраста из семей высокого риска за счет
![]()
проведения с ними специальных занятий. Среди подобных программ наибольшую известность получили программы Head Start в США. Хотя такие программы критиковались за то, что они не приводят к долговременному улучшению познавательной деятельности, лонгитюдные исследования эффектов программы показали, что у детей улучшилась социальная компетентность, включая увеличение отсрочки вознаграждения и снижение агрессии (Zigler, Hall, 1987). Однако лишь немногие оценивали влияние этой программы на последующую делинквентность. Исключение — Дошкольный проект Перри (Репу Preschool Project), ранняя форма Head Start, который был разработан в Мичигане в начале 60-х гг. и для которого есть данные о его 15- и 19-летнем последействии (Schweinhart, 1987). 123 чернокожих ребенка в возрасте от З до 4 лет с низким уровнем IQ и происходящие из семей с низким социально-экономическим статусом были случайным образом отнесены либо к контрольной, либо к экспериментальной группе. Дети из экспериментальной группы занимались по специальной программе подготовки дошкольников, которая включала ежедневные занятия и еженедельные встречи с семьей в домашней обстановке. Цель проекта состояла в содействии умственному развитию и развитии мотивации к учебе. Хотя рост IQ носил временный характер, члены группы дошкольного обучения впоследствии лучше учились, чаще поступали в высшие учебные заведения, занимали более престижные должности и реже подвергались аресту (31 % против 51). Влияние на делинквентность по данным самоотчетов, однако, было более избирательным и ограничивалось некоторыми аспектами, такими как принадлежность к преступным группировкам («бандам») и контакты с полицией. Воздействие программы рассматривается с точки зрения теорий социального научения и контроля, а также трансактной концепции развития. Так, первоначальное улучшение интеллектуальной деятельности, видимо, способствовало формированию большего доверия школе, которое было поддержано подкреплением со стороны учителей. Этот проект наглядно продемонстрировал, каким потенциалом обладает раннее вмешательство в плане предупреждения делинквентного развития, хотя осталось неясным, какие именно компоненты вмешательства были эффективными: привлечение детей к планированию и организации школьных мероприятий, небольшое количество учеников в классах или же родительское участие. Швайнхарт (Schweinhart, 1987) сообщает также о рентабельности данного проекта, поскольку произошло снижение затрат на специальное обучение, преступность и социальные пособия.
Меньше внимания уделялось профилактике путем изменения окружения (Durlak, 1985). Тем не менее предпринимались попытки предотвратить жестокое обращение с детьми: вводились специальные образовательные программы в больницах, программы, фокусировавшиеся на воспитании детей и развитии навыков совладания и взаимодействия у родителей, а также программы, охватывающие все общество, такие как различные кампании, инициированные средствами массовой информации, телефонные «горячие» линии и сети социальной поддержки (Rosenberg, Repucci, 1985). Последние работы в области жестокого обращения с членами семьи и половой агрессии в отношении ребенка фокусируются на предоставлении информации профессионалам (учителям, врачам, полицейским) и развитии у них соответствующих навыков (Finkelhor, 1986). Как и в случае больШИНСТВа недавних программ по предотвращению антисоциального поведения, долговременные эффекты еще должны быть установлены.
вторичная-профилактика
![]()
Хотя в настоящее время многие пытаются доказать, что программы раннего вмешательства самые эффективные в плане предотвращения делинквентности, еще не существует эмпирической базы, достаточной для того, чтобы можно было однозначно решить, на какой стадии развития вмешательство будет наиболее эффективно. Например, обучение школьников навыкам родительского воспитания могло бы быть столь же эффективным, как и обучение матерей дошкольников, и проще в осуществлении. Первичная профилактика, адресованная семьям высокого риска, также порождает этические проблемы стигматизации и самоисполняющегося пророчества. Хокинс и др. (Hawkins et al., 1987) попытались сделать свою программу более адекватной, предложив тренинг всем подходящим для этого семьям. Однако они столкнулись с общей проблемой отбора, поскольку программа привлекла 41 % белых семей высокого риска, но только 13 0/0 афроамериканских семей высокого риска. Эта проблема характерна для программ вмешательства, осуществляемых в условиях общины (см., напр.: Weathers, Liberman, 1975).
Замена уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия представляет собой форму вторичной профилактики, которая ставит целью остановить развитие преступности путем минимизации юридического вмешательства. Представление о том, что повторное совершение преступления может быть предотвращено, если провинившийся избежит ярлыка «преступник», отражено в праве полицейского «предупредить и отпустить». Выведение делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых было крайне популярно в 60-е гг. вследствие влиятельной тогда теории навешивания ярлыков, согласно которой официальное действие влечет за собой вторичную девиацию, создавая криминальную идентичность. Широкомасштабные программы выведения делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых были впоследствии разработаны в США (Gendreau, Ross, 1987), а в Великобритании после принятия в 1969 г. Закона о детях и молодежи (Children, Young Persons Act) были созданы две широко известные программы такого рода. В Англии суд по делам несовершеннолетних получил возможность передавать их под контроль служб пробации и социальных служб, которые могут требовать посещения программ промежуточного режима, которые имеют цель вовлечь ребенка в развлекательные, образовательные и социальные мероприятия, проводимые средствами общины, и которые занимают промежуточное положение между тюремным заключением и социальным патронированием индивидуума. Аналогичные законы в Шотландии пошли дальше и ввели систему слушаний детей (children's hearings) в качертве альтернативы судам по делам несовершеннолетних. Это дает возможность составу непрофессионалов (в области юриспруденции) решить, как поступить, чтобы в наибольшей мере соблюсти интересы ребенка: оправдать его, поставить под надзор социальных служб или поместить в специальное учреждение.
Согласно теории навешивания ярлыков, минимизация официального вмешательства должна уменьшать рецидивизм, но результаты Кембриджского исследования поддерживают это предположение лишь в ограниченной мере (Farrington, 0sborn & West, 1978). Мак-Корд (McCord, 1985) получила противоположные ре-
![]()
зультаты, оценив Кембриджско-соммервильское исследование через 30 лет. По ее данным, криминальная карьера тех подростков, которые при первом аресте всего лишь получили предупреждение, была сопоставима с таковой подростков, представших перед судом. Вопреки теории навешивания ярлыков, 51 % подростков, прошедших через программы выведения делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых, и 23 0/0 осужденных подростков впоследствии совершили как минимум одно индексное преступление.
Самые современные проекты замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия включают некоторые формы индивидуальных или семейных услуг (personal orfamily semices) в качестве альтернативы законным карательным мерам, и в этом отношении выведение делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых выходит за рамки философии исправления, лежащей в основе создания судов по делам несовершеннолетних. Однако программы выведения делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых как вид вторичной профилактики нельзя назвать безусловно успешными. В некотором отношении они «расширили сеть» официального вмешательства, распространив его на детей, изначально не бывших его объектом (Austin, krisberg, 1981). Американские оценочные исследования показали, что предлагаемые услуги часто плохо спланированы или плохо скоординированы, неадекватно финансируются и проводятся и что успешность этих программ в плане уменьшения рецидивизма нуждается в дальнейшем подтверждении (Gendreau, Ross, 1987; Blasta, Davidson, 1988). Аналитический обзор программ промежуточного режима в Англии также показал, что они недостаточно продуманы и противоречивы и что их цели или процедуры недостаточно согласованы (Bottoms, McWilliams, 1990). С другой стороны, система слушаний детей в Шотландии существенно снизила число детей, получающих надзор и опеку со стороны официальных органов юстиции, возможно из-за того, что предоставление альтернативных услуг было минимальным (Erickson, 1984).
Неудачи программ замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия могут отражать «форму без содержания» (Gendrau, Ross, 1987), ибо некоторые программы предлагают высококачественные услуги и оценка демонстрирует их значимое влияние на рецидивизм. Коллингвуд и Гентер (Collingwool, Genther, 1980) описывают программу выведения делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых полицейского управления Далласа. Полицейские и вольнонаемные консультанты были обучены навыкам в соответствии с моделью развития человеческих ресурсов Каркхаффа. После ареста подростки, в зависимости от серьезности преступления, могли быть направлены либо на краткий курс ознакомительных лекций, либо на шестимесячную консультационную программу, касающуюся физической формы, навыков межличностного общения и учебных навыков. Направленные на консультирование подростки добились существенного улучшения своих навыков, и в течение первых 17 месяцев работы по этому плану 24 0/0 тех, кто посещал консультационную программу, совершили повторное преступление, по сравнению с 47 % тех, кто отказался участвовать в этой программе. В другом исследовании аналогичной программы Квей и Лав (Фау, Love, 1977) распределяли случайным образом направленных к ним делинквентов либо в экспериментальную программу, предлагавшую помощь в учебе, консультирование по личным вопросам и профконсуль-
вторичная профилактика
![]()
тирование, либо в контрольную группу, участвовавшую в других программах такого рода. Экспериментальная группа продемонстрировала более низкий уровень рецидивизма по сравнению с контрольной (32 0/0 против 45), хотя программа Квея и Лава была короче (311 против 450 дней), и потому члены контрольной группы имели больше возможностей совершить новое преступление.
Более современная работа Дэвидсона с коллегами (Davidson et al., 1987) демонстрирует полезность использования хорошо подготовленных парапрофессионалов. Несовершеннолетние преступники, направленные участвовать в исследовании по решению суда, случайным образом распределялись в первую контрольную группу, возвращенную для продолжения судебного преследования, во вторую контрольную группу, получавшую внимание-плацебо (находилась под наблюдением представителя суда), и в одну из трех экспериментальных групп, получавших разные виды вмешательства и находившихся под наблюдением студентов-волонтеров в течение 18 недель. Вмешательства включали поведенческие контракты с ребенком и оказание ему адвокатской помощи, аналогичные процедуры с членами семьи и роджерианскую терапию отношений. Данные самоотчетов через два года после исследования не продемонстрировали какого-либо влияния на делинквентность, но подростки, входившие в экспериментальные группы, имели более низкий уровень официально зарегистрированного рецидивизма, самые низкие показатели были при индивидуальной поведенческой терапии и роджерианской терапии отношений. Поскольку те, кто входил в контрольную группу «внимание-плацебо», имели более низкий уровень рецидивизма, чем представители обычной контрольной группы, это позволяет предположить, что неспецифические терапевтические факторы могут усилить воздействие программ выведения делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых.
О воздействии промежуточного режима на рецидивизм пока еще нет опубликованных сообщений. Эта программа предоставляет возможности для работы с делинквентами в их естественном окружении, однако в ней редко использовались психологические вмешательства. Впрочем, Престон и Карнеги (Preston, Carnegie, 1989) описывают психологически структурированную программу промежуточного режима в Бирмингеме, которая применяла жетонную систему, индивидуальную постановку целей и заключение контрактов, а также давала возможность развить трудовые навыки тем делинквентам, которые заканчивали школу. Последующее наблюдение показало, что спустя год ббльшая часть группы имела работу и лишь некоторые совершили повторное преступление, в отличие от группы, направленной в менее структурированную программу промежуточного режима.
Хотя программы замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия прежде всего созданы для подростков, в настоящее время в Великобритании внимание уделяется выведению из системы уголовного правосудия преступников с психическими расстройствами посредством направления их в учреждения, устроенные и функционирующие иждивением общины. Эта смена политики произошла скорее по гуманным соображениям, чем в результате следования какой-либо кбиминологической теории. Кук (СооКе, 1991b) описывает Шотландскую программу выведения из системы уголовного правосудия взрослых с психологическими проблемами, которая позволяет прекратить против некоторых из них уголовное преследование и направить на психологическое или психиатрическое лечение. Кук обнаружил, 'что отобранные в эту
![]()
программу составили необычную, относительно традиционной криминальной карьеры, группу. Ббльшая часть группы совершила преступление (в основном это были незначительные имущественные преступления и преступления на сексуальной почве) впервые и в более старшем (чем обычно) возрасте. Тревога, депрессия и злоупотребление алкоголем были наиболее общими проблемами, и после прохождения лечения повторное совершение преступления было редкостью.
По-видимому, программы замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия все же могут оказывать влияние на рецидивизм, когда промежуточные цели вмешательства четко определены и их реализацией занимаются грамотные профессионалы. Однако программы высокого качества, как та, о которой сообщали Дэвидсон и др. (Davidson et al., 1987), являются демонстрационными проектами, которые далеки от общепринятой практики.
В то время как превентивные подходы традиционно пытаются воздействовать на предрасположенность индивидуума, ситуационные подходы ставят перед собой цель снижения возможности для совершения преступления путем изменения свяби между преступником, жертвой и окружающей средой (Nietzel, Himelein, 1986). Эти подходы разработаны на основе модели рационального выбора (глава 4), но на них также оказало влияние возросшее внимание, уделяемое жертвам преступления (Young, Matthews, 1992). Превентивные подходы включают в себя изменение физических окружающих условий, изменение поведения потенциальных жертв и усиление социального контроля над преступностью средствами общины.
Предотвращение совершения преступления путем
проектирования окружающей среды — не ново, изобретение замков является ранним
примером повышения прочности целевых объектов, и многие формы ситуационной
превенции по-прежнему имеют прагматический оттенок. Однако развитие моделей
рационального выбора в 70-х гг. предоставило теоретическую основу для новых
инициатив (ClarКе, Cornish, 1985; Cornish, Clarke, 1986). Наиболее
распространенной формой средовой превенции является повышение прочности целевых
объектов, которое изменяет соотношение выгод и затрат при совершении
преступления. В качестве примера можно привести лучшую защиту ящика для монет в
общественных телефонных автоматах, чувствительную сигнализацию против воров,
противоугон![]() ные замки на рулевой колонке в автомобиле,
использование детекторов-металлоискателей в аэропортах. Сюда также относится
установка видеокамер в уязвимых местах, таких как магазины и метро.
Проектирование зданий и жилых комплексов также делает упор на уменьшении
возможностей совершить преступление, например, благодаря усложнению доступа в
здание (Newman, 1972). Хотя превентивный вклад таких способов не всегда
поддается установлению, удалось продемонстрировать снижение частоты совершения
определенных преступлений в некоторых районах. Например, Мак-Низ с коллегами
(McNees et al., 1976) экспериментально установили, что размещение табличек в
универмагах, на которых написано, что магазинные кражи являю±ся уголовным
преступлением, не возымело практически никакого эффекта, в то время как
маркировка наиболее часто воруемых товаров звездами и знаками снизила
количество магазинных краж практически до нуля. Примером косвенного воздействия
может служить эффект, обнаруженный в нескольких странах: после принятия закона,
обязавшего мото-
ные замки на рулевой колонке в автомобиле,
использование детекторов-металлоискателей в аэропортах. Сюда также относится
установка видеокамер в уязвимых местах, таких как магазины и метро.
Проектирование зданий и жилых комплексов также делает упор на уменьшении
возможностей совершить преступление, например, благодаря усложнению доступа в
здание (Newman, 1972). Хотя превентивный вклад таких способов не всегда
поддается установлению, удалось продемонстрировать снижение частоты совершения
определенных преступлений в некоторых районах. Например, Мак-Низ с коллегами
(McNees et al., 1976) экспериментально установили, что размещение табличек в
универмагах, на которых написано, что магазинные кражи являю±ся уголовным
преступлением, не возымело практически никакого эффекта, в то время как
маркировка наиболее часто воруемых товаров звездами и знаками снизила
количество магазинных краж практически до нуля. Примером косвенного воздействия
может служить эффект, обнаруженный в нескольких странах: после принятия закона,
обязавшего мото-
вторичная профилактика
![]()
ЦИКЛИСТОВ надевать шлем, резко снизилось количество краж мотоциклов, поскольку, видимо, для воров, не имеющих соответствующей экипировки, возрос риск обнаружения (Clarke, 1980).
Разумеется, эти методы предотвращения совершения преступлений не совершенны. Во-первых, затраты на повышение прочности целевых объектов часто довольно велики, в то время как усилия, направленные на борьбу с такими преступлениями, как вандализм и нанесение ущерба, имеют ограниченную ценность в успокоении граждан по поводу преступности в городах (Trasler, 1986). Во-вторых, такие методы часто имеют неопределенные цели и основаны на непроверенных предположениях о принятии решения в пользу совершения преступления. Бэннет (Bannet, 1986), например, отмечает, что целью маркирования имущества является не только предотвращение кражи, но и облегчение действий полиции после нее. На основе опросов, проводившихся среди воров, он также установил, что сигналы, которым уделяют внимание преступники, такие как сигнал о проникновении в дом, не всегда занимают приоритетные позиции в превентивных программах. В-третьих, и эта критика раздается наиболее часто, ситуационные методы, делающие более сложным совершение преступления, могут иметь результатом смещение, т. е. изменение времени, места, способа или формы криминальной активности (Trasler, 1986). Например, число краж новых автомобилей в Лондоне снизилось после того, как в 1971 г. появилось требование об оснащении машин противоугонными замками на рулевой колонке, но одновременно с этим выросло число краж старых автомобилей (Mayhew, Clarke & Ноиф, 1980). Мэйхью с коллегами (Mayhew et al., 1980) предположили, что смещение может быть максимальным для сильно мотивированных «профессиональных» преступлений, таких как ограбление банка, но минимальным для преступлений, совершаемых «по случаю», и что смещение можно предсказать на основе анализа рационального выбора и процессов принятия решения о совершении преступления.
Некоторые компоненты ситуационной превенции имеют целью оказать влияние на поведение потенциальных жертв, например путем проведения полицейских кампаний, поощряющих защиту имущества и его маркирование. Альтернативные, недавно разработанные подходы в области жестокого обращения с членами семьи и сексуальной агрессии в отношении ребенка нацелены на снижение уязвимости к преступлению за счет использования стратегий формирования компетентности, обеспечивающей индивидуума навыками избегания и совладания (Rosenberg, Repucci, 1985; Finkelhor, 1986). Образовательные программы, использующие фильмы, книги или лекции, которые в основном уделяют внимание навыкам личной безопасности, все шире используются в американских школах в целях снижения риска оказаться жертвой сексуального преступления. Они учат распознавать неподходящие ситуации, не поддаваться на уговоры, выходить из потенциально опасных ситуаций и тому, что о преступлении необходимо сообщить кому-нибудь. Воздействие этих методов на знания и навыки исследовалось мало, одно из редких исследований было проведено Вуртеле с коллегами (Wurtele et al., 1986), которые сравнивали тренинг поведенческих навыков с использованием учебных фильмов. Они установили, что первое более эффективно в передаче соответствующих знаний о личной безопасности, по сравнению с контрольными условиями, но в тесте разыгрывания ролей были установлены только минимальные различия. Поведенческие методы также использовались для выработки навы-
![]()
ков совладания у женщин в целях снижения возможности изнасилования (Nietzel, Himelein, 1986).
Третьим подходом в ситуационном предотвращении совершения преступления являются организованные действия общины по уменьшению возможностей для преступной деятельности и усилению неформального социального контроля. Одна из наиболее популярных форм в США и других западных странах — neighbourhood watch (контролирование окрестностей силами местных жителей). Местные жители при поддержке полиции организуют патрулирование окрестностей, охрану домов, оказывают взаимную помощь. Они могут выступать и как группа давления на полицию, если та попустительствует совершению преступлений, например не борется с наркоторговцами и проституциёЙ. Келлинг (kelling, 1986) отмечает, что такие группы существуют в США как минимум в течение трех последних десятилетий и корнями уходят в социальные и политические традиции коллективной самопомощи. Он предполагает, что такие группы самопомощи эффективны как в плане снижения количества преступлений, так и уменьшения страха перед ними и что опасения по поводу того, что для этих групп характерны чрезмерная бдительность, нетерпимое отношение к меньшинствам и антиполицейские аттитюды, не оправдались.
«Ничто не работает» — действительно ли это так?
В своем оказавшем большое влияние обзоре Мартинсон (Martinson, 1974) проанализировал результаты 231 исследования, сообщения о которых появились в печати между 1945 и 1967 гг. Исследования представляли широкий диапазон методов коррекционного вмешательства: от чиндивидуального консультирования до условно-досрочного освобождения. Он пришел к выводу, что «за редким исключением, реабилитационные программы, по которым в литературе есть данные, не оказывают существенного влияния на рецидивизм». Другие обозреватели приходили к аналогичным заключениям (Bailey, 1966; Logan, 1972; Brody, 1976), но книга Мартинсона нашла отклик у широкого круга читателей. Ведь заявление Мартинсона «ничто не работает» (Martinson, 1979) было «боевым кличем» средств массовой информации, апеллировавших к Zeitgeist[35] после социальных волнений и подъема уровня преступности в 1960-х гг. (Gullen, Gendreau, 1989). Именно поэтому он был подхвачен и либералами, разочаровавшимися в реабилитации, и консерваторами, поддерживавшими концепцию возмездия и устрашения.
Нельзя сказать, чтобы вывод Мартинсона не вызвал никаких возражений. Палмер (Palmer, 1975) выразил сомнение в том, что он хорошо подкреплен данными, поскольку 48 0/0 попавших в обзор исследований показали положительные или «частично положительные» эффекты. Он аргументировал, что не было уделено достаточного внимания взаимодействиям между характеристиками преступника, характеристиками проводивших лечение и характеристиками терапевтической обстановки. Также он предположил, что критерии Мартинсона был слишком строгим, учитывая, что реабилитационные службы системы уголовного правосудия обычно являются «формальными, недоукомплектованными и работают в условиях, которые нельзя назвать идеальными» (Halleck, Witte, 1977). Одна-
«Ничто не работает» — действительно ли это так?
![]()
ко дальнейшая оценка, проведенная Комиссией по исследованиям в области реабилитационных методов (Рапы оп Research in Rehabilitative Techniques) (Sechrest, White & Brown, 1979; Martin, Sechrest & Render, 1981), подтвердила выводы Мартинсона, в то же время отметив, что плохая методология и часто имеющая место неполнота реализации многих программ не позволяют прийти к окончательному заключению.
Оценочные исследования, проводившиеся в 70-х гг., однако, дали более оптимистичные заключения. Жендро и Росс (Gendrau, Ross, 1979) сделали обзор 95 сообщений о различных вмешательствах, проводившихся с разными популяциями, требовавшими коррекции. Вмешательства включали программы лечения алкоголизма, наркомании и сексуальных отклонений. В 8696 сообщений описывались положительные результаты. Проведя оценку 40 психологических программ, появившихся в 70-х гг. и предназначенных для исправления преступников, Блэкборн (Blackburn, 1980) также установил, что половина тех программ, которые приводили результаты последующих наблюдений, демонстрировала существенное снижение рецидивизма. Более того, Мартинсон (Martinson, 1979) отказался от своей наиболее резкой критики, заметив, что некоторые из программ были безусловно эффективными и что «критиковались скорее условия, при которых программа выполнялась». Палмер (Palmer, 1983) предположил, что до 1980 г. царило «напряжение» между лагерями скептиков и оптимистов. Первые считали, что программ, которые можно признать успешными, недостаточно для того, чтобы отдать приоритет реабилитации. Последние возражали, что определенные виды преступников хорошо реагируют на определенные виды лечения или что некоторые вмешательства особенно эффективны для некоторых преступников.
![]() Эта поляризация взглядов сохранялась, так как приверженцы метода
устрашения пытались заполнить лакуну, образовавшуюся после очевидного краха
идеала реабилитации (Van der Haag, 1982; Clarke, 1985; Wilkins, 1985). Однако
примеры успешного вмешательства продолжали появляться. Жендро и Росс (Gendreau,
Ross, 1987) расширили свой ранний обзор и установили, что хотя многие программы
вмешательства продолжают оставаться слабо оцененными, некоторые подходы
продемонстрировали значимые эффекты, например раннее вмешательство, поведенческая
семейная терапия, различные когнитивные программы. Проанализировав программы
вмешательства 1980-х гг., предназначенные для несовершеннолетних преступников,
Баста и Дэвидсон (Basta, Davidson, 1988) также получили достаточно данных для
того, чтобы опровергнуть мнение «ничто не работает». Однако они предупреждают,
что любые заключения нуждаются в дополнительной проверке из-за сохраняющихся
методологических недостатков, таких как маленькие выборки, ограниченное
использование рандомизации, неадекватные последующие наблюдения и чрезмерное
доверие к грубым критериям рецидивизма.
Эта поляризация взглядов сохранялась, так как приверженцы метода
устрашения пытались заполнить лакуну, образовавшуюся после очевидного краха
идеала реабилитации (Van der Haag, 1982; Clarke, 1985; Wilkins, 1985). Однако
примеры успешного вмешательства продолжали появляться. Жендро и Росс (Gendreau,
Ross, 1987) расширили свой ранний обзор и установили, что хотя многие программы
вмешательства продолжают оставаться слабо оцененными, некоторые подходы
продемонстрировали значимые эффекты, например раннее вмешательство, поведенческая
семейная терапия, различные когнитивные программы. Проанализировав программы
вмешательства 1980-х гг., предназначенные для несовершеннолетних преступников,
Баста и Дэвидсон (Basta, Davidson, 1988) также получили достаточно данных для
того, чтобы опровергнуть мнение «ничто не работает». Однако они предупреждают,
что любые заключения нуждаются в дополнительной проверке из-за сохраняющихся
методологических недостатков, таких как маленькие выборки, ограниченное
использование рандомизации, неадекватные последующие наблюдения и чрезмерное
доверие к грубым критериям рецидивизма.
Эти качественные «оценки оценок» следуют традиционному методу избирательной урны, при котором эффективность лечений оценивается исходя из пропорции сообщенных результатов, отвечающих статистическому критерию успеха. Они неизбежно ограничены тенденцией журналов проявлять интерес к положительным результатам, качественными различиями в методологической адекватности вмешательств внутри категории и нереџко произвольной категоризацией типов вмешательства. В некоторых современных оценках ограничения качествен-
![]()
ных обзоров пытались преодолеть при помощи метаанализа, который сравнивает исходы относительно общей меры величины эффекта (ВЭ), хотя и здесь есть ограничения, связанные с качеством анализируемых исследований. При сравнении исходов ВЭ может оцениваться с помощью различных итоговых статистик, но базисной формой является мера стандартного отклонения (разность между средними экспериментальной и контрольной группы, деленная на стандартное отклонение контрольной группы). Полезно напомнить, что в своем метаанализе исходов психотерапии Смит и Гласс (Smith, Glass, 1977) получили среднюю ВЭ = +0,68, показывающую, что средний клиент, получающий терапию, превосходит по установленному критерию 75 0/0 нелеченных пациентов из контрольной группы.
![]() Гэррет (Garrett, 1985) провел метаанализ 111 исследований вмешательств,
охвативших в целом 13 000 несовершеннолетних преступников; только в трети ис
Гэррет (Garrett, 1985) провел метаанализ 111 исследований вмешательств,
охвативших в целом 13 000 несовершеннолетних преступников; только в трети ис![]() следований
приводились данные по рецидивизму. По всем мерам (критериям) исхода средняя ВЭ
составила +0,37, а наибольшие ВЭ были получены для улучшения академических
достижений (+0,78), адаптации к общине (+0,63) и психо
следований
приводились данные по рецидивизму. По всем мерам (критериям) исхода средняя ВЭ
составила +0,37, а наибольшие ВЭ были получены для улучшения академических
достижений (+0,78), адаптации к общине (+0,63) и психо![]() логической адаптации
(+0,52). Величина эффекта для рецидивизма оказалась более скромной (+0, 13).
Поведенческие подходы оказались эффективнее (+0,63) психодинамических методов
(+0,17), однако при учете строгости экспериментального плана ни один из них не
дал положительного эффекта по рецидивизму. С другой стороны, программы
управления условиями подкрепления и когнитивные программы устойчиво давали
положительные эффекты. Гэррет пришел к выводу, что результаты являются
обнадеживающими, поскольку, несмотря на незначительное влияние некоторых вмешательств,
общее направление было позитивным. Однако более поздний метаанализ 50 программ
для несовершеннолетних преступников, сфокусированный на мерах рецидивизма,
привел к выводу, что «коррекционное лечение практически не оказывает влияния на
рецидивизм» (Whitehead, Lab, 1989). Поскольку 32 0/0 включенных
программ отвечали критерию положительного эффекта, этот вывод Озадачивает. Было
также установлено, что поведенческие программы не имели никакого преимущества
перед неповеденческими, хотя если учесть различные ситуации, в которых
осуществлялось вмешательство, и различные популяции клиентов, то сопоставление
жетонной системы с полицейским предупреждением может оказаться неправомочным.
логической адаптации
(+0,52). Величина эффекта для рецидивизма оказалась более скромной (+0, 13).
Поведенческие подходы оказались эффективнее (+0,63) психодинамических методов
(+0,17), однако при учете строгости экспериментального плана ни один из них не
дал положительного эффекта по рецидивизму. С другой стороны, программы
управления условиями подкрепления и когнитивные программы устойчиво давали
положительные эффекты. Гэррет пришел к выводу, что результаты являются
обнадеживающими, поскольку, несмотря на незначительное влияние некоторых вмешательств,
общее направление было позитивным. Однако более поздний метаанализ 50 программ
для несовершеннолетних преступников, сфокусированный на мерах рецидивизма,
привел к выводу, что «коррекционное лечение практически не оказывает влияния на
рецидивизм» (Whitehead, Lab, 1989). Поскольку 32 0/0 включенных
программ отвечали критерию положительного эффекта, этот вывод Озадачивает. Было
также установлено, что поведенческие программы не имели никакого преимущества
перед неповеденческими, хотя если учесть различные ситуации, в которых
осуществлялось вмешательство, и различные популяции клиентов, то сопоставление
жетонной системы с полицейским предупреждением может оказаться неправомочным.
Эндрюс и др. (Andrews et al., 1990) доказывают, что программы вмешательства, пренебрегающие клинически значимыми параметрами потребности клиента или условиями, требуемыми для совершения изменений, не могут реально считаться эффективными. Они добавили дальнейшие исследования молодых и зрелых преступников к исследованиям Уайтхеда и Лэба (Whitehead, Lab, 1989) и присвоили им определенные коды в соответствии с примененным вмешательством (только уголовное наказание, неадекватные услуги, адекватные услуги, неопределенные). ВЭ (коэффициент) значимо коррелировала с типом вмешательства, адекватные программы имели значимо больший эффект, чем неадекватные или просто уголовное наказание (среднее равнялось +0,30, —0,06 и —0,07 соответственно). Поскольку адекватные программы в среднем продемонстрировали снижение уровня рецидивизма на 50 0/0, результаты противоречат той точке зрения, согласно которой «ничто не работает». В аналогичном метаанализе Иззо и Росс (Izzo, Ross, 1990) анализировали уместность применения программы с позиции адекватности ее концептуализации. Программы, основанные на хорошо сформу-
![]()
лированной теории криминального поведения (социальное научение, модификация поведения, моделирование, теория систем, терапия реальностью, концепция И-уровней, социологические теории), были в пять раз эффективнее в снижении рецидивизма, чем программы без теоретической основы. Хотя не 6€IJ10 выявлено различий между теоретическими моделями, программы, включавшие когнитивную составляющую, были в два раза эффективнее программ без нее, что согласуется с более ранними данными, полученными Россом и Фабиано (Ross, Fabiano, 1985).
На пути к успешному вмешательству
Ни один обзор вмешательств не показывает со всей определенностью, что «ничто не работает» или «практически ничто не работает». Многие программы были найдены слабыми и малоэффективными, но примеры удачных вмешательств, которые действительно оказывали влияние на поведение преступников, зачастую ошибочно относили к «исключениям из правил». Гулен и Жендро (Gullen, Gendreau, 1989) предположили, что неприятие очевидного положения дел может отражать идеологические предубеждения или же профессиональные роли. Практики склонны интерпретировать факты более оптимистично, нежели криминологи-ученые, либо вследствие личного участия в процессе реабилитации, либо вследствие близкого знакомства с ограничениями, накладываемыми на клиническую практику в пенитенциарной системе, и осознания того, что, как и политика, реабилитация является искусством использовать возможность. Поэтому данные о том, что некоторые программы снижают рецидивизм на 50 0/0, могут быть интерпретированы как немалый успех. Эндрюс, Бона и Ходж (Andrews, Вопа, Hoge, 1990) также показали, что предоставление адекватных услуг оказывает влияние на рецидивизм, которое не было продемонстрировано традиционными уголовными наказаниями. Хотя лишь немногие сегодня будут спорить с тем, что реабилитация не должна быть первичной целью лишения свободы, предложение реабилитации преступникам оправданно как с эмпирической точки зрения, так и по моральным соображениям.
Данные метаанализов свидетельствуют, что вмешательство, фокусирующееся на некриминальных мишенях, таких как адаптация к общине или к школе, в той же мере эффективно, как и вмешательство в случае психологических проблем (см., напр.: Garret, 1985). В этом отношении широко распространенная точка зрения, согласно которой любое вмешательство лучше, чем никакого вмешательства (Smith, Glass, 1977; Frank, 1985), кажется настолько же применимой в области коррекции, как и в службах здравоохранения в общем. Однако менее ясна ситуация с рецидивизмом, на который многие виды вмешательства оказывают слабое влияние и даже способствуют его росту. Возможные причины такого ограниченного успеха включают методологические недостатки, дифференциальные эффекты лечения и условия предоставления услуг.
Авторы обзоров часто отмечают, что методологические недостатки в исследовании реабилитации препятствуют точным выводам (Logan, 1972; Sechrest, White 8, Brown, 1979; Blasta, Davidson, 1988; Furby, Weinrott & Blackshaw, 1989). Эти про-
![]()
блемы относятся к двум более широким группам проблем: реализации (осуществления) и оценки (Martin, Sechrest & Render, 1981). Проблемы реализации включают и силу, и полноту вмешательства (kazdin, 1987). Сила означает потенциальную способность вмешательства к изменению поведения и зависит от таких факторов, как теоретическое обоснование, квалификация персонала, осуществляющего вмешательство, интенсивность применяемого вмешательства (ср.: «дозировка») и прозрачность запланированного вмешательства. Полнота связана со степенью, до которой план действительно был осуществлен. Проблемой до сих пор остается то, что эти факторы не оцениваются систематически и о них редко сообщается.
Дроблемы при проведении оценки возникают вследствие недостаточного соответствия требованиям экспериментального плана. Заметными среди них являются проблемы с выборкой и экспериментальными планами, а также психометрические качества средств измерения результатов (Blasta, Davidson, 1988). Выборки часто слишком малы и нерепрезентативны для достижения требуемой мощности статистических выводов (statistical power) или логической обоб1јаемости (logical generalisability), а демографические, криминальные и личные характеристики не всегда адекватно описаны. Экспериментальные планы могут быть ограничены отсутствием контрольной группы или случайного распределения, и в публикациях экспериментальные процедуры часто не описываются достаточно детально для того, чтобы их можно было воспроизвести.
Распространенной проблемой является применение критериев «успеха» неизвестной надежности и валидности. Необходимо выбирать такие показатели исхода (или результатов), которые отражали бы цели программы и которые могли бы оцениваться беспристрастными сборщиками данных. Поэтому они должны включать как промежуточные мишени в рамках программы, так и долговременные эффекты (Andrews, 1983). Там же, где последние оцениваются, они продолжают быть во многом грубыми «все-или-ничего» мерами рецидивизма, надежность которых под вопросом. Помимо того, что есть проблемы с надежностью официальных данных как меры повторного совершения преступления, исследователи используют различные критерии, такие как арест, осуждение или нарушение режима условно-досрочного освобождения, которые не дают равнозначйых результатов, а использование самоотчетов или других альтернативных источников данных остается весьма редким. Есть также сомнения относительно валидности рецидивизма как меры «успеха» программы. Дихотомия совершение—несовершение преступления маскирует вариации частоты или серьезности преступлений, которые могут сигнализировать о частичном успехе, и уже неоднократно доказывалось, что рецидивизм — неудовлетворительный критерий успеха реабилитационной программы. Повторное совершение преступления, может, например, отражать те факторы, на которые программа не направлена, такие как непредсказуемые изменения социального окружения. Оценка эффективности, таким образом, требует не только использования адекватно нормированных и множественных мер дальнейшего криминального поведения, но также и того, чтобы была продемонстрирована их ковариация с личностными и социальными изменениями, на достижение которых нацелена программа.
Приверженность методологической чистоте является идеалом, от которого зависит научный прогресс. Но это убеждение может не разделяться администрацией учреждений пенитенциарной системы, а жесткие требования системы уголов-
![]()
ного правосудия редко предоставляют возможность для соблюдения таких тонкостей, как случайное распределение испытуемых по группам или выборки «без потерь». Как считает Адамс (Adams, 1977), интерес тех, кто определяет здесь политику, возможно, легче привлечь слабостью квазиэкспериментальных планов или методов, чем вопросами оценки исходов вмешательства. Возможно, самая неотложная проблема заключается не столько в достижении строгости и точности оценок, сколько в обеспечении того, чтобы эти оценки вообще проводились.
Сравнительные исследования исходов вмешательств привели к выводу, что все методы психотерапии оказывают положительное воздействие и ни один из них не обладает несомненным преимуществом (Smith, Glass, 1977; Frank, 1985). Хотя предположение, что положительные эффекты достигаются благодаря общим «неспецифическим» факторам, к которым специфические методики добавляют всего лишь ритуальную структуру, остается слишком примиряющим, чтобы быть принятым всеми (Parloff, 1984, kazdin, 1986), оно вполне применимо к реабилитации преступников, поскольку ни один из подходов не превосходит остальные в эффективности (Blasta, Davidson, 1988; Izzo, Ross, 1990). Тем не менее за общими отрицательными эффектами программ лечения (или перевоспитания) преступников могут скрываться взаимодействия: благотворные эффекты для некоторых преступников сводятся на нет неутешительными результатами для остальных. Получает все большее распространение точка зрения, что клиентам необходимо подбирать соответствующие методы терапии и соответствующих терапевтов (Warren, 1971; Palmer, 1975, 1983; Goldstein et al., 1989; Andrews et al., 1990).
На данный момент практически не предпринимается попыток отойти от профессионального сектантства «какой подход лучше?» и обратиться к вопросу «какая методика для кого лучше работает и при каких условиях?»; исследований дифференцированного лечения или «прескриптивного программирования» по-прежнему проводится немного (Goldstein et al., 1989). Нежелание исследовать такой подход, возможно, следует из приверженности большинства врачей одной теоретической модели и отсутствия согласия относительно наиболее приемлемой классификации преступников, вмешательств или лиц, осуществляющих вмешательство (Sechrest, 1987). Более того, всесторонний анализ требует исследования огромного количества взаимодействий, и поэтому неудивительно, что лишь некоторым исследованиям удалось выйти за пределы варьирования одного из релевантных факторов.
Один из вариантов согласующего подхода предполагает, что характеристики преступников опосредуют эффекты лечения и что некоторые -преступники поДДаются разнообразным методам лечения. Например, по счастливой случайности, при изучении работы чиновника службы социального обеспечения в одной из тюрем (Sinclair, Shaw & Troop, 1974) выяснилось, что заключенные-интроверты реагировали лучше, чем экстраверты в плане снижения уровня рецидивизма. В проекте PICO (Alot Intensive Counselling 0rganisation) (Adams, 1970) консультанты идентифицировали преступников как поддающихся и не поддающихся терапии и распределяли их в экспериментальную (лечебную) или в контрольную группу (не получавшую лечения). Не поддающиеся лечению преступники из экспериментальной группы впоследствии демонстрировали худшие результаты, чем со-
![]()
поставимые с ними преступники из контрольной группы, но молодые поддающиеся лечению преступники из экспериментальной группы демонстрировали 60лее низкий уровень рецидивизма, чем контрольные испытуемые. Хотя «восприимчивость к терапии» не была четко определена, Адамс отмечает, что молодые поддающиеся лечению преступники были более интеллектуальны, более тревожны, лучше выражали свои мысли, сильнее хотели измениться. Исследование исходов вмешательств, основанных на модели терапевтической общины, позволяет предположить, что участники, реагировавшие на вмешательство наилучшим образом, обладали сходными характеристиками, в частности эмоциональной экспрессивностью, тревожностью, интропунитивностью, некоторой способностью устанавливать личные контакты и упорством при прохождении терапии (Copas et al., 1984). И наоборот, испытуемые, показавшие наихудшие результаты, были экстрапунитивными, агрессивными, наносящими себе повреждения и, как правило, были рецидивистами. Это соответствует общему выводу, согласно которому для более здоровых в психологическом отношении клиентов характерен более успешный исход психотерапии, независимо от психотерапевтического подхода (Frank, 1985). Хотя восприимчивость преступников к лечению исследовалась очень мало, психопатические личности обычно считаются наименее поддающимися лечению.
Переменные терапевта также могут быть релевантными. Франк (Frank, 1985) полагает, что умение терапевта взаимодействовать с пациентом является решающим для любого психотерапевтического метода, и некоторые исследования вмешательств в работе с преступниками, включая поведенческие программы, установили, что оно объясняет столь же большую долю дисперсии исхода, как и метод лечения (Jesness, 1975; Jesness et al., 1975; Alexander et al., 1976). Взаимодействие характеристик преступника и терапевта было продемонстрировано в проекте «Лагерь Эллиота» (Сатр Elliott) (Grant, Grant, 1959). Делинквенты-моряки подвергались интенсивной групповой терапии сроком до девяти недель, при этом они жили под надзором изолированными небольшими группами. Шестимесячное исследование после завершения проекта показало, что более психологически зрелые преступники, как они были классифицированы при помощи системы уровней межличностной зрелоёти (И-уровней), чаще возвращались к выполнению служебных обязанностей, однако было также обнаружено значимое взаимодействие И-уровня с эффективностью надзирателя — более психологически зрелые преступники вели себя лучше при более эффективном супервизоре. Эффективными надзирателями были менее авторитарные и находящиеся на более высоком уровне межличностной зрелости работники; другие исследования также установили, что терапевтическая команда, «строгая, но справедливая», оказывала наиболее благоприятное воздействие на преступников (Craft, Stephenson & Ganger, 1964; Clarke, 1985).
Лишь в немногих исследованиях варьировались одновременно как характеристики преступников, так и методы лечения или терапевтической обстановки. В большинстве релевантных исследований использовалась классификация уровней межличностной зрелости (И-уровней), в частности в Проекте воздействия на правонарушителей средствами общины под руководством Калифорнийского департамента по делам молодежи (Califomian Youth Authority's Community Treatment Project — СТР) (Palmer, 1974). В начальной фазе сравнивались эффекты интенсивного надзора силами общины и терапии в рамках небольших групп услов-
![]()
но-досрочно освобожденных с размещением в исправительных учреждениях (institutional placement), а в последней фазе оценивались эффекты первоначального размещения в учреждениях стационарного типа, за которым следовал надзор силами общины. Полученные результаты оказались запутанными, однако позволяют предположить, что невротичные делинквенты (И-4) достигают лучших результатов при надзоре силами общины, а ориентированные на силу (ИЗ) молодые люди показывают лучшие результаты при проведении вмешательства в условиях исправительного учреждения. Однако СТР критиковали за необъективность сообщений консультантов о рецидивизме (Wilson, 1980). В других калифорнийских исследованиях изучалась связь И-уровня с различными режимами заключения. В Престонском исследовании 0esness, 1971) было установлено, что экспериментальная программа, в которой молодых преступников распределяли по группам с различными лечебными целями в соответствии с И-уровнем, никак не повлияла на нарушение режима условно-досрочного освобождения под честное слово. Однако повторный анализ данных показал более низкий уровень рецидивизма для уровней И-З и И-4 среди молодых преступников, направленных в группу, которая проходила психиатрическое лечение, и, таким образом, свидетельствовал в пользу дифференцированного лечения (Austin, 1977). В »своем сравнительном исследовании учреждений, предлагающих трансактный анализ (Клоуз) или модификацию поведения (Холтон), Джеснесс 0esness, 1975) также установил, что эффекты варьируют в зависимости от И-уровня. Тревожные и склонные к отыгрыванию невротики (И-4) имеют наиболее высокие показатели успешного исхода в обоих учреждениях, тогда как асоциальные пассивные (И-2) показывают лучшие результаты при модификации поведения, а манипуляторы (ИЗ) — при трансактном анализе.
В некоторых исследованиях была использована классификация поведения Квея. В одном эксперименте молодые преступники были поделены на две группы. Одна из них проходила лечение по экспериментальной программе в Молодежном центре Р. Ф. Кеннеди (R. Е kennedy Youth Center), другая — в традиционном режимном учреждении (Cavior, Schmidt, 1978). Экспериментальная тюрьма применяла жетонную систему, и все ее обитатели получали общеобразовательную и профессиональную подготовку, но для различных групп были определены различные цели лечения и различные методы. Невротичные делинквенты, например, получали консультирование, а психопаты — модификацию поведения. Однако трехлетнее последующее наблюдение не выявило эффектов экспериментальной программы ни в отношении рецидивизма, ни в отношении типа преступника. С другой стороны, параметры, введенные Квеем, предсказали результаты в исследовании программы выведения делинквентов из системы уголовного правосудия для взрослых, в которой делинквентов определяли либо в группу, получающую консультации по личным вопросам и выбору профессии, либо в контрольную группу (Фау, Love, 1977). Психопатические и невротические подростки с большей вероятностью арестовывались вторично независимо от типа вмешательства.
Соответствие терапевта и клиента на концептуальном уровне (глава З) улучшает клинические результаты психотерапии (Frank, 1985), а школьная успеваемость повышается в случае подбора для ученика соответствующей образовательной среды (Reitsma-Street, Leschied, 1988). Лешид и Томас (Leschied, Thomas, 1985) получили данные, подтверждающие полезность приведения в соответствие
![]()
структуры коррекционной программы с концептуальным уровнем делинквентов. «Трудноизлечимые» подростки при структурированной терапии в стационарном учреждении продемонстрировали значимое снижение числа обвинений в течение года после завершения программы и также имели более низкий уровень повторного заключения по сравнению с аналогичными подростками из мест лишения свободы.
Мало внимания уделяется адаптации лечения к взрослым преступникам и преступницам, однако Эннис и Чен (Annis, Chan, 1983) провели исследование, в котором применили эмпирическую классификацию молодых взрослых преступников мужского пола. Преступники, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, случайным образом были распределены либо в группу интенсивной конфронтационной терапии, либо в контрольную группу. В последующем наблюдении, проведенном через год, не удалось обнаружить общего (абсолютного) эффекта экспериментальной программы в отношении рецидивизма. Однако было обнаружено значимое взаимодействие между подвергайием лечению и эмпирической типологией, выведенной на основе самооценки и межличностных мер. Преступники с высоким мнением о себе и рассчитывающие только на себя впоследствии осуждались реже и по менее серьезным обвинениям, если были подвергнуты лечению, в то время как преступники с невысоким мнением о себе и низкой степенью сердечности в межличностных отношениях демонстрировали ухудшение в случае лечения. Аналогично данным PICO, эти результаты подчеркивают необходимость различать между теми, кто поддается определенным видам лейения, и теми, кто может извлечь пользу из альтернатив.
Поскольку только в нескольких исследованиях изучалось воздействие различных типов лечения или терапевтической команды на различные классы преступников, у нас нет достаточной эмпирической основы для того, чтобы точно уста-• новить, какое вмешательство будет наиболее эффективно для данного типа преступников. Тем не менее логика дифференцированного лечения остается притягательной. Эндрюс, Бонта и Ходж (Andrews, Вопи & Hoge, 1990) утверждают, что различная восприимчивость преступников к режимам лечения была продемонстрирована достаточно убедительно для того, чтобы можно было дать некоторые общие указания. Например, преступники с низким уровнем межличностной и когнитивной зрелости требуют высокоструктурированных программ, а недирективные, неструктурированные методы лечения должны применяться в отноШеНИИ преступников, имеющих хорошие вербальные, когнитивные и межличностные навыки.
Эффективная реабилитация зависит не только от методов вмешательства и характеристик получателей и поставщиков услуг, но и от условий, при которых эти услуги предоставляются. Например, неспособность соблюсти полноту лечения может быть результатом плохой подготовки персонала, а может объясняться недостатками пенитенциарной системы, такими как низкие приоритеты лечения, авторитарное управление, плохая связь между ведомствами. Три фактора, которые могут оказаться решающими для получения успешного результата, — это место проведения вмешательства, мишени и модели изменения (Blackburn, 1980).
на
![]()
Многие программы реализуются в режимных учреждениях, но некоторые ученые считают, что в них нет, оптимальной окружающей обстановки для достижения изменений. Росс и Прайс (Ross, Price, 1976), например, предполагают, что социальный климат и организационная структура тюрем неизбежно препятствуют успешному проведению поведенческих программ. Можно также привести следующий связанный с этим предположением аргумент: наиболее сильное влияние на антисоциальное поведение оказывает актуальное окружение, поэтому на рецидивизм лучше воздействовать после тюремного заключения, чем во время него (Gunn et al., 1978, Clarke, 1985). Эта позиция не учитывает воздействие преступника на его окружение. Некоторым институционным программам удалось достичь снижения уровня рецидивизма, в то время как некоторым программам, осуществляемым средствами общины, — нет. Блэкборн (Blackburn, 1980) отметил, что неудачи тех и других часто были обусловлены одними и теми же причинами, такими как недостаточное контролирование терапевтами административных ресурсов, слабая мотивация либо саботаж со стороны главных агентов изменения или неспособность проконтролировать другие источники влияния, такие как группа делинквентных сверстников или подкрепляющая ценность многих девиантных занятий как таковых. Хотя последние данные свидетельствуют в пользу программ, осуществляемых средствами общины (Izzo, Ross, 1990), институционные программы, которые обеспечивают преступника навыками совладания, вероятно, являются необходимым первым шагом для многих, если они ставят перед собой цель преодоления или избегания проблем с делинквентными знакомыми, семьей или работой.
Успех вмешательства зависит также от релевайтности мишеней лечения криминальному поведению. Психологические подходы к криминальному поведению обычно отрицают модель болезни, но большинство реабилитационных программ фокусируются на личной неадекватности или дефицитарности. Хотя некоторые социологи считают, что имплицитное предположение личной неадекватности неверно по своей сути, поскольку преступники просто реагируют на обстоятельства и условия общества (Martinson, 1974), очевидно, что многих преступников характеризует недостаток знаний, низкие межличностные и когнитивные умения (глава 8). Тем не менее многие программы уделяют внимание факторам, связь которых с совершением преступления неясна. Традиционная профессиональная подготовка в тюрьмах, например, часто проводится без учета ситуации на рынке труда и тех трудностей получения работы, с которыми столкнутся преступники по выходе из тюрьмы (Dale, 1976). К тому же огульное применение психодинамического консультирования не дает результата в случае, если у преступника нет невротических проблем, для решения которых, собственно, и создавались эти подходы, и может даже причинить ему вред. Аналогично, многие поведенческие программы адресованы тем видам поведения, для которых не доказана их связь с совершением преступления (глава 13). Соответственно, часто упускается из виду вопрос о совпадении целей терапевта с целями пациента.
Проблемой первостепенной важности является модель изменений, лежащая в основе вмешательства и опирающаяся, в конечном счете, на теорию криминального поведения. Критерием успеха обычно является то, что происходит по заверШеНИИ лечения, и продолжение преступной деятельности рассматривается как свидетельство несостоятельности программы. Однако, как отмечалось ранее, этот
![]()
подход является аналогом медицинской модели лечения инфекционных болезней, при которой применяется соответствующий вид лечения и ожидается полное «излечение» (kazdin, 1987). Для некоторых преступников модель системной 60лезни, такой как диабет, при котором необходимо непрерывное лечение, оказывается более полезной в отношении предупреждения повторного совершения преступления. В настоящее время эта модель имплицитно используется в методах предупреждения рецидива у лиц, совершивших половое преступление. Циглер и Холл (Zigler, Hall, 1987) сходным образом предполагают, что успешность ранних вмешательств зависит скорее от непрекращающихся попыток усилить положительные эффекты, чем от надежды на сделанную «прививку».
Несмотря на пессимистическую аргументацию в пользу обратного (Sechrest, et al., 1979), в литературе, посвященной эффектам вмешательств, содержатся некоторые указания, касающиеся типов процедур и мишеней, обычно присущих успешным программам реабилитации преступников. Эндрюс, Бонта и Ходж (Апdrews, Bonta & Hoge, 1990) предполагают, что они должны быть (1) высокоструктурированы и (2) реализовываться «строгой, но справедливой» терапевтической командой, которая служит моделью и подкрепляет антикриминальные ценности, (З) должны быть нацелены на характеристики, которые предположительно опосредуют криминальное поведение, такие как прокриминальные аттитюды, черты психопатической личности и криминальные связи, (4) должны использовать ориентированные на решение проблем процедуры, основанные на когнитивных принципах и принципах социального научения. В то же время программы должны соответствовать характеристикам преступников. В частности, уровень предоставления услуг должен определяться по уровню риска рециДивизма, и более интенсивное вмешательство должно проводиться в отношении преступников, входящих в группу повышенного риска, а тип криминогенной потребности, который оказывает влияние на вероятность рецидивизма, должен определять мишени вмешательства. И наконец, выбор варианта вмешательства должен проводиться с учетом восприимчивости преступников к терапии. При этом можно опираться на классификации, наподобие уровней межличностной зрелости или концептуальных уровней, однако также предполагается, что когнитивные межличностные умения, тревога, психопатия, поиск ощущений, мотивация к изменению и социальная поддержка, вероятно, являются особо подходящими для этих целей переменными.
Ролевые конфликты и этические проблемы психологов, работающих в системе уголовной юстиции
Психологи, вмешивающиеся в жизни преступников, сталкиваются с рядом ролевых неясностей и этических проблем. Работа в любой организации подразумевает принятие ее целей, но карательные, связанные с лишением свободы, и реабилитационные цели в системе уголовной юстиции часто являются взаимоисключащими. Например, в карательных целях преступнику следует назначить наказание в виде лишения свободы, а лучшей реабилитационной стратегией в данном случае будет позволить преступнику остаться дома и сохранить работу. Хотя цель психо-
Ролевые конфликты этические проблемы психологов
![]()
логов обычно заключается в помощи преступникам и они в силу своей профессии обязаны «всегда и во всем блюсти интересы и благополучие тех, кто пользуется их услугами...» (British Psychological Society, 1985), они в то же время работают в системе, первичная цель которой — социальный контроль. Это является эксплицитной функцией тюрем, но это также и скрытая функция учреждений для преступников с психическими нарушениями. Этические проблемы, таким образом, сосредоточены вокруг главного вопроса — «Кто клиент?» (Monahan, 1980). Схожие вопросы возникают в здравоохранении и образовательной сфере, но особенно острыми они становятся, когда речь заходит о личной свободе.
Модели психологического изменения, применяемые к преступникам, заимствованы из сфер охраны психического здоровья и образования, но специфика мест лишения свободы накладывает определенные ограничения на предоставление услуг. В карательных учреждениях возникают противоречия между требованиями безопасности и контроля и приоритетами лечения для психологов и их попытками ввести новые лечебные программы; при этом психологам часто приходится сталкиваться с косностью системы, консерватизмом персонала и его враждебностью, что можно преодолеть, только пойдя на компромисс (Laws, 1974; Ross, Prica, 1976). Сотрудники службы режима в исправительных учреждениях часто устанавливают низкие приоритеты для лечения, иногда принимая морально упрощенную точку зрения, согласно которой преступник «не заслуживает» помощи, а лечение представляет собой самое легкое из всего, что может быть, и вследствие этого они часто саботирует попытки психологов. Корсини и Миллер (Corsini, Miller, 1954), например, отметили, что персонал нередко не способен гарантировать, что заключенный сможет прийти на запланированный сеанс, и эта проблема продолжает оставаться неразрешенной в некоторых учреждениях. Терапию, предназначенную для заключенных с деструктивным поведением, можно рассматривать как служащую целям управления. Например, кризисное вмешательство в случае суицидальных попыток или нападения может быть направлено на изменение отдельного человека, в то время как более подходящим методом было бы изменение условий содержания в исправительном учреждении.
Общая этическая проблема — это проблема конфиДенциальности. Клиент-преступник доверяет информацию психологу, и никому другому. Клиницисты относятся к этой информации как к сведениям, не подлежащим разглашению, но может ли конфиденциальность быть абсолютной — это спорный вопрос. Например, в ситуации, когда задействованы специалисты разного профиля, психологи обязаны делиться информацией с другими членами команды. Более того, несмотря на тревогу, с которой решение по делу Тарасовой было воспринято профессионалами в сфере охраны психического здоровья в США (глава 12), обязанность предупредить третьи лица о риске соответствует профессиональному кодексу поведения (Monahan, 1980). Британское психологическое общество (British Psychological Society, 1985) предписывает психологам предпринимать все рациональные шаги для сохранения конфиденциальности, но признает, что бывают исключения, например, если безопасность или интересы получателя или поставщика услуг находятся под угрозой. Дилемм в этой области можно избежать, заблаговременно установив ограничения конфиденциальности клиента. Это также применимо к любой ситуации, когда психолог должен предоставить информацию о преступни-
![]()
ке (к примеру, в форме отчета или доклада) для судов (Committee of Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991).
Проблема, существующая уже много лет, заключается в следующем: чьи интересы должно блюсти вмешательство, осуществляемое с клиентами-заключенными (т. е. проходящими лечение не добровольно), — учреждения, общества или конкретного преступника. Одной из частных проблем является возможность принуждения, и некоторые психологи отказываются принимать лиц, направленных для прохождения лечения судом, на том основании, что клиент не может заключить контракт на добровольной основе. Робинсон (Robinson, 1974) доказывает, что представители поведенческих наук не уполномочены быть посредниками в конфликте между обществом и индивидуумом и что психологическое лечение клиентов, не являющихся добровольцами, должно проводиться только с теми из них, которые представляют физическую угрозу для других или просят о помощи. Другие, считает он, сохраняют за собой «право не быть измененными». При таких условиях принудительная терапия предлагается в качестве меньшего «зла», нежели потеря жизни или жизнь в тюрьме. Однако неясно, почему преступники, которые физически опасны, не могут сохранить за собой такое право, даже если они могут поплатиться правом на свободу.
Совет по науке и обществу (Council for Science and Society, 1981) защищает ту точку зрения, что принудительная терапия, затрагивающая личную автономию, должна проводиться только в случаях диагностирования «распознаваемого расстройства» («recognizable disorder») и в интересах человека, а не исправительного учреждения. Это чрезвычайно узкая медицинская точка зрения, которая игнорирует тот факт, что личная автономия часто ограничивается психологическим стрессом или дисфункцией, которые не равноценны болезни. Расстройства личности, например, относятся к наиболее часто выявляемым проблемам у преступников, но они не являются определяемыми по отдельности болезнями. Психологические подходы обычно требуют информированного согласия и предполагают, что терапия будет эффективна только в случае заинтересованности участника. Нет причин, по которым эти условия не могут быть соблюдены в работе с заключенными. Проблема в том, что вывод о наличии у них мотивации к изменению делается на основе их заявлений, и никогда нет полной уверенности в том, что заклоченный не хочет повторить свои преступные действия или быть осужденным снова (Feldman, Реау, 1982). Также, добровольность никогда не бывает абсолютной, и эта проблема в принципе не отличается от проблемы, которая встает перед людьми, ищущими психологической помощи в целях преодоления проблем, угрожающих их работе или личным отношениям.
Тем не менее вопрос определения психологической проблемы проявляется особенно ярко, когда «проблема» идентифицируется как девиантное поведение само по себе, так как вмешательство может скрывать в себе навязывание определенной идеологии или ценностей. Представление реабилитации как либерального и освободительного предприятия скрывает противоречие: на самом деле эта стратегия нацелена на изменение индивидуума в целях выработки у него склонности подчиняться господствующим в обществе нормам. При этом предполагаетСА, что эти нормы одобряются всеми, хотя они могут не разделяться получающими лечение. Оценки с целью предсказания опасности в результате условно-досрочного освобождения также предпринимаются в интересах общества, в то время как
Ролевые конфликты и этические проблемы психологов
![]()
вмешательства в конфликты заключенных с тюремной администрацией могут иметь целью уступчивость по отношению к требованиям учреждения. Вопрос таков: «У кого проблема?» (Feldman, Реау, 1982). Рассмотрение социально неприемлемого поведения самого по себе как мишени лечения слепо уравнивает психологическое отклонение с социальной девиацией и подразумевает, что все преступления, включая «политические» и «преступления без жертв», приносят доход психологам. Это вне всяких сомнений идеологическая позиция, и профессионалы в сфере охраны психического здоровья, отдающие предпочтение роли агента социального контроля, рискуют не только нарушить свой профессиональный кодекс, но и оказаться в сговоре с несправедливыми юристами и тираническими режимами.
Противоположная позиция состоит в том, что достижение уступчивости в принципе не может быть целью вмешательства и что рецидивизм или адаптация к исправительному учреждению не являются подходящими критериями результата психологического лечения. Однако Бродский (Brodsky, 1980) отмечает, что эта позиция сама по себе основывается на ценностях, и поэтому сомнительно, чтобы терапия могла избежать навязывания чьих-то ценностей. Кроме того, ограничить услуги, помогающие преступнику пройти через такое суровое испытание, как заключение, означало бы мириться с «доброкачественным тюремным заключением» (Halleck, Witte, 1977). На практике при попытках помочь преступникам не может быть обойден вопрос об их будущем благополучии. Хотя конфликт с обществом сам по себе не оправдание для осуществления психологического вмешательства, он является поводом для предложения услуг в ситуации, когда психологические дисфункции или дефициты ограничивают варианты поведения индивидуума; в США и право преступников на психологическое лечение, и право отказаться от него признаются уже много лет. Как предполагают Фельдман и Пей (Feldman, Реау, 1982), психологи могут оставить за собой традиционную роль агентов клиентов, сконцентрировавшись скорее надроблемах преступников, чем на проблемах, которые преступники доставляют остальным. Это не означает отсутствия обязанностей перед системой уголовного правосудия, но, скорее, представляет собой понимание того, что преступник, исправительное учреждение и общество — все являются клиентами, но с различными приоритетами в разное время (Clingempeel, Mulvey & Repucci, 1980).
Хотя этические проблемы возникают в ситуации, когда существует противоречие между принципами и редко может быть достигнуто абсолютное соглашение или разрешение этой ситуации, можно предложить ряд принципов, которыми можно руководствоваться, поскольку относительно них было достигнуто согласие в среде профессионалов. Для поведенческой терапии Фельдман и Пей (Feldтап, Реау, 1982) предположили, что клиент имеет преимущество при принятии решений о том, какие виды поведения необходимо освоить, подкрепить или устранить, и все это при соблюдении условия информированного согласия. Когда интересы одного клиента затрагивают интересы другого и они несовместимы, руководящие принципы должны быть максимально полезными и минимально вредоносными, давая преимущество тем заинтересованным сторонам, на чьи жизни проблемное поведение влияет сильнее всего. Наконец, контроль профессиональной деятельности должен осуществляться внешними контрольными инстанциями (см. также: Brodsky, 1980). Эти директивы, как кажется, применимы к ряду
![]()
психологических вмешательств. Более общие этические принципы, включающие оценку, профессиональную компетентность, оценивание услуг, прогнозирование, лечение и обучение, были разработаны Специальной комиссией Американской психологической ассоциации, занимавшейся определением роли психологов в системе уголовной юстиции (Monahan, 1980).
Психологи могут стремиться к тому, чтобы строго придерживаться определенной, кажущейся безопасной роли терапевта, администратора или исследователя, но спорными остаются вопросы: а) найдется ли в системе уголовной юстиции роль, свободная от конфликта ценностей, и б) может ли психолог не быть в двусмысленном положении, представляя как интересы преступников, так и интересы общества. Бродский (Brodsky, 1972) предположил, что роли психологов варьируют в континууме «профессионал в системе» — «противник системы». Профессионал в системе рассматривает в качестве приоритетных мишеней вмешательства послушность и самоконтроль преступника, не задаваясь вопросом, находится ли лечение на службе обществу, и пытается работать с системой путем установления хороших рабочих отношений. Противник системы рассматривает проблемы преступников в контексте социальной депривации и дискриминации, считает цели профессионалов и агентств потенциально вредными для обитателей исправительных учреждений и пытается саботировать работу тех, кто может нанести им вред. Эти роли не являются взаимоисключающими, и многие психологи борются за сохранение баланса между ними. Бродский отмечает, что психологи, работающие с преступниками в индивидуальном порядке, или пламенные радикалы, вводящие либеральные режимы в некоторых исправительных учреждениях, вряд ли смогут удовлетворить более широкие интересы преступников. Скорее, здесь существует потребность в комплексных целях и обязательствах, при учете того, что у психологии нет ответов на все вопросы. Минимальное требование, предъявляемое к психологам, — осознавать социальный и правовой аспекты уголовной юстиции и поведенческих проблем.
Предметный указатель
Аверсивная терапия 442, 443
Аверсивная терапия стыдом 443
Автоматизм 190
Автомобильные кражи 238, 242
Агрессия 256
- антёцеденты 268, 273
- аффективная 264
- влияние Луны на 279
- влияние СМИ на 274
- и алкоголь 275
- и гипогликемия 187
- и гнев 257, 267
- и деиндивидуализация 280
- и драйв (влечение, побуждение) 269
- И ИНСТИАКТ 266
- и интеЛлект 286
- и катарсис 266
- и комиция 287
- и личное пространство 280
- и личность 281
- и наркотики 275
- и отвержение сверстниками 218
- и пол (гендер) 265
- и порнография 355
- и сексуальное возбуждение 355
- и семейные факторы 283
- и социальные навыки 286
- и тестостерон 358
- и эпилепсия 190
- инструментальная 264, 267
- на службе Эго 266
- определение 256
- постоянство (временная устойчивость)
281
— теории 263
Актуарный прогноз 386, 389, 401
Анализ (определение) профиля преступника 373
Андроморфия 177
Аномия 115, 164, 271
Антилегализм 28
Антинатурализм 41
Антисоциальное расстройство личности 189, 458, 460, 463
Атрибуции преступников 245, 270
Аффективный психоз 305, 325, 327
Батарея нейропсихологических тестов
Халстеда—Рейтана 194
Безработица 222, 283
Беловоротничковые преступления 15
Биологический детерминизм 168
Бихевиоризм 38, 48, 120
Болезнь, понятие 298 Брак 221
в
Векслеровская шкала интеллекта взрослых
180, 194, 228
Вина 248, 250
Вмешательства, осуществляемые средствами общины 384, 415
Возбуждение 96, 121, 146, 149, 151, 166,
180, 189, 267
Воздаяние 22, 25-26, 312
Воспитание детей (в семье) 131, 153, 199 Вуайеризм 339, 341, 344, 349, 361
Гендер (пол) и агрессия 265 гнев 263, 269, 454
- и изнасилование 351
Гражданские правонарушения (деликты) 15
Гражданское право 18
Группа сверстников 135, 137, 217, 220 Групповая психотерапия 458
д
Деиндивидуализация 280
Делинквентность по данным самоотчетов 155, 203, 224, 241, 470
Детерминизм 24, 31, 38 см. также Свобода воли
Алфавитный указатель
![]()
Дисконтроль 96, 191, 192
Дисциплинарные меры родителей 199, 212, 292
Дифференциальная ассоциация 112, 128 Допрос 11, 21, 343, 372, 375
ж
Жестокое обращение с ребенком 204, 290,
293, 367
з
Замена уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия 412, 471
Защита ссылкой на невменяемость 313,
315, 318
и изнасилование 255, 328, 337, 338, 342, 348,
350-359
Импульсивность 90, 98, 106, 148, 186, 233, 237
Инвентарь враждебности Басса—Дарки 186, 358
Индекс прогнозирования Глюка 212
Исправление 412, 466, 24
Исследования близнецов 171
Исследования приемных детей 170, 172,
174
Калифорнийский психологический инвентарь 108, 234
Кастрация 141, 346, 369, 440
Катарсис 266
Классификация 83
- в криминологии 83
- политетическая (по многим признакам)
101
- психиатрическая 95
- расстройств личности 100
- эмпирические системы 89 Классическое обусловливание 126, 120, 125
. Клептомания 96, 233
Клиент-центрированная терапия 411, 418
Клиническая криминология 302 Когнитивная
- модификация поведения 422
- теория развития 156
- терапия 445, 464
Когнитивное реструктурирование 428
Когнитивно-поведенческая терапия 433, 442
Компульсии 96
Контроль импульсов 140, 233, 237
Контрольный перечень психопатии 106
Кража 12, 53, 94, 144, 163; 235
Криминализация психического расстройства 297, 323
Криминальные карьеры 345, 73
Криминология 28, 68, 337 - и психология 45
- и социология права 29
- радикальная 32
- средовая 130
- школы 29
Критический реализм 43 л
Лабиринты Портеуса 237, 427
Легализм (приверженность букве закона)
28, 308
Лечение преступников 407, 436
- гуманистическое 411
- и агрессия 447
- и консультирование 411
- и лица, совершившие половые преступления 438
- и преступники с психическими расстройствами 436
- и психопатия 455
- и расстройство личности 455
- когнитивно-поведенческое 423, 442
- органическое 440
- поведенческое 413)
- психодинамическое 409, 450
- психофармакологическое 448
Личностный ОПРОСНИК Айзенка 145 Личность 33, 107
- и агрессия 281
- и преступность 154
- криминальная 246
- преступника (Криминальная личность)
32, 246
Лишение любви 200
Лишение свободы (тюремное заключение) 330, 333
- и ограничение право- и дееспособности
26
- и тюремизация 330
Локус контроля 225, 246, 253, 425
|
Алфавитный указатель 493
|
м
Массовое убийство 260
Материнская депривация 143
Медицинская модель 298
Мезоморфия 176
Минимальная мозговая дисфункция 192,
98, 194
Моделирование 424, 426, 430
Модель
- восстановления справедливости 22
- концептуальных уровней 85
- обучающей семьи 416, 419
Модификация поведения 217, 415, 422, 479, 483, 405 см. также Прикладной анализ поведения; Когнитивная модификация поведения
Мономания 324
Моральное развитие 158, 161 н
Надзор 24, 64, 73, 83, 166, 174, 202, 206,
292, 332, 447, 471
Наказание 12, 15, 16, 17, 30
Насилие в семье 192, 204, 260
Научение пассивному избеганию 124, 153,
178, 182
Недостаточная обучаемость 230
Нейропсихологическое функционирование
Нейротизм 88, 93, 104, 145, 147, 149, 186,
240
Нейтрализация (№utralzsation)
Неспособность отвечать перед судом 313
Номотетическое объяснение 41 Нравственное слабоумие 104
Общее право 16
Ограничение право- и дееспособности 26
Ограниченная вменяемость 314
Опасность 394
-
и судебная
психиатрия 398 ![]() клиническое предсказание 393
клиническое предсказание 393
- решение суда по делу Тарасовой 394
Оперантное обусловливание 120, 124, 165
Отрицание девиантности 276
Отсрочка вознаграждения (удовлетворения) 233, 236
Отыгрывание 107, 109, 234, 267, 285, 458,
48з
п
Парафилии 338
Патологическая ревность 327
Патологическое влечение к азартным играм 79, 96
Патронирование 409, 411, 471
Педагогическая психология 302
Педофилия 338, 346, 363
Переговоры о заключении сделки о признании вины (в наименее тяжком из вменяемых обвинением преступлений) 64
Пиромания 96, 233
Поведенческая терапия 417, 423 см. также
Когнитивная модификация поведения
Поджог 96, 324, 327, 399 см. также Пиромания
Позитивизм 30, 33, 40, 45, 118, 401
Поиск ощущений 156, 186, 486
Полиция 28, 52, 64
Половая агрессия в отношении ребенка
Посттравматическое стрессовое расстройство 328, 334, 365
Правило
- Бонни 311
- Дарема 310, 316
Преемственность преступного поведения 76
Преступления без жертв (без потерпевшего) 14, 29, 58, 65, 337, 489
Прививка против стресса 428
Прикладной анализ поведения 413, 120 см. также Модификация поведения; Теории научения
- заключение соглашения (контракта) об условиях подкрепления 418
- и триадическая модель 419
- применение в условиях общины 415
Принудительное лечение 187, 303
Принцип недопустимости показаний с чужих слов 379
Прирожденные преступники 30
Простое (непредумышленное) убийство 255
|
Алфавитный указатель
психоз 147, 300, 305, 313, 318, 321, 325, 358 - превентивная функция 20 |
Причинное (каузальное) объяснение 40 Психология 44
- и криминология 45
- клиническая 300
- коррекционная (исправительная) 405
Психопатия 90, 108, 110, 126, 146, 196, 315,
392, 407, 486 психотизм 88, 145, 147, 155, 288, 358
Распад семьи 203, 192
Расстройства
- личности 95, 100, 104, 456
- и насилие 330
- и психопатическое расстройство 104
- классификация 99, 102
- поведения 98, 99, 152
Растлители малолетних 360, 367
- и когнитивные искажения 369
- и нарушения височной доли головного мозга 362
- типологии 365
- характеристики 366
Растормаживание 366, 369
Рационализм 23, 160, 167, 423
Рационально-эмотивная терапия 423, 428
Реабилитация 24, 65, 83, 302, 403, 406, 408,
466, 479
Реституция 18, 405
Реципрокный детерминизм 48
Роббери (грабеж с насилием или разбой)
53, 54, 84
с
Садизм 266, 286
- сексуальный 338, 346, 352
Свобода воли 38 см. также Детерминизм
- пунитивная функция 20 Систематическая десенсибилизация 451
Системы криминального поведения 84
Ситуационное предотвращение преступлений 476, 26, 131
Скрытая сенсибилизация 423, 443
Скрытое обусловливание 422 Служба пробации 128, 384, 409, 447, 453 совесть 140, 160, 166 Соматотип 176—177
Социабельность 147, 156
Социализация 88, 121, 144, 152, 169, 186, 200, 220, 248, 369
Социализированная делинквентность 90, 94
Социальная идентичность 137, 138
Социоаналитическая теория 137
Социобиология 264, 272
Социология права 29
Статусные преступления 75, 206, 418
Строгая ответственность 17 Судебная
- психиатрия 304, 400, 436
- психология 370
- в зале суда 378, 383
- определения 371
- этические проблемы в 386
Судьи 23, 51, 64, 65
Телевидение и насилие 274
Теории
- научения 267, 347
- субкультуры 116, 243
Теория
|
Алфавитный указатель 495
Уголовная ответственность 315 Уголовное право 307, 10 Удерживание от совершения преступлений |
- КОНТРОЛЯ 116, 164, 213, 221, 235 устрашением 132, 404, 476
Управление стрессом 434 Утилитаризм 23, 30, 130
Философские концепции наказания 21
Фротгаж (Фроттеризм) 344, 349
Функциональная семейная терапия 418
Футбольное хулиганство 272
Actus reus (сознательное противоправное действие) 16, 384
Меш rea (виновная воля) 16, 17, 306, 315,
318, 384
Parens patriae 20, 21, 303
Voir dire (Допрос судом свидетеля или присяжного на предмет выяснения его беспристрастности и непредубежденности) 382
Рональд Блэкборн
Перевели с английского Ю. Буткевич, Н. Мальгина
|
Главный редактор |
Е. Строганова |
|
Заведующий редакцией |
Л. Винокуров |
|
Руководитель проекта |
Н. Рилшцан |
|
Научный редактор |
А. Алексеев |
Литературные редакторы Е. Левина, В. Попов Художественный редактор К. РаДзевич
Корректоры Т. Брылева, Н. Тюрина Верстка И. Смарышева
Лицензия ИД № 05784 от 07.09.01.
Подписано к печати 07.10.03. Формат 70х100/16. Усл. п. л. 39,99.
Тираж 4000. Заказ № 364
ООО «Питер Принт», 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67в.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП ордена Трудового Красного Знамени «Техническая мига»
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
198005, Санкт-Печбург, Измайловский пр., 29
![]()
![]() ±ИВАЦИЯ
±ИВАЦИЯ
ПОВЕДЕНИЯ 4
[1] [гр dpsa жажда + мания] — периодически возникающее неудержимое влечение к алкоголю (периодические запои). — Примеч. науч. ред.
[2] [гр. nynzphG женщина + мания] — болезненное повышение полового влечения у женщин. — Примеч науч. ред.
[3] В настоящее время нет общепринятого перевода этого термина на русский. Часто встречающиеся варианты — Деструктивное повеДение м расстройство социального поведения — нельзя признать полностью удовлетворительными, так как они расширяют границы данной категории расстройств. Предлагаемый здесь вариант также далек от совершенства, однако, как нам кажется, в большей степени подчеркиАает сущность этого типа расстройств, при которых ребенок или подросток нарушает порядок, нормы поведения в быту и общёственных местах, мешая окружающим людям (членам семьи, учителям, одноклассникам и т. д.) эффективно выполнять свои функции и тем самым причиняя вред как им, так и себе. — Примеч. науч. ред.
[4] В отечественной социологической литературе принято написание Сатерленд (см.. Современная запиная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990) — Примеч. науч. ред.
[5] В отечественной социологии его теорию обычно называют теорией дифференцированной связи (см.. Там же. С 250, 274.). — Примеч. науч. ред.
[6] Post hoc, etgo propterhoc (лат ) (после этого, следовательно, по причине этого) — логическая ошибка, заключающаяся в принятии временнбй последовательности за причинную зависимость — Примеч науч ред.
[7] Обычно в качестве такой стимуляции используют удар тока. — Примеч. науч. ред.
[8] В данном случае мы сохраняем употребляемые в англоязычной литературе эквиваленты терминов Фрейда — ИД, Эго и Суперэго, соответствующие терминам Es (Оно), Ich (Я) и 0ber-Ich (Сверх-Я) соответственно в его оригинальных работах. — Примеч. науч. ред.
[9] В оригинальных работах Фрейда — Ichideal (Идеал-Я). — Примеч. науч. ред.
[10] В последнее время термин sociability стали чаще переводить как общительность, противополагая ее замкнутости (wthdrawao, что, в общем, вполне приемлемо, если не забывать о терминологическом статусе этих слов, в силу которого их значение не полностью совпадает со значениями соответствующих слов в обыденном языке. Мы решили сохранить термин социабельность только там, где идет речь о модели Айзенка, а в других случаях переводить soaability как общительность. — Примеч. науч ред.
[11] Термин toughmmdedness (от англ. tough-mmded — реалистичный, далекий от сентиментальности в своих мыслях и действиях) достался современным психологам в наследство от У. Джеймса, который выделял два темперамента (называемых им также интеллектуальными типами). мягкий (tender-minded) и жесткий (tough-mmded) Их характеристика дана Джеймсом в его работе «Прагматизм» (Джеймс У Воля к вере / Пер с англ М Республика, 1997. С. 211—223). — Примеч науч ред
[12] То есть признаваемым достоверным до тех пор, пока не будет доказано обратное, или, проще говоря, являющимся опровержимым [доказательством]. — Примеч. науч. ред.
[13] Краткое и ясное изложение системы Шелдона можно найти в кн.: Харрисон Дж., УайнерДж., Тэннер Дж., Барникот Н., Рейнолдс В. Биология человека / Пер. с англ. М.: Мир, 1979. С. 444—451; 465— 470. — Примеч. науч. ред.
[14] Термин «кинестетический послеэффект» (или, по-другому, «кинестетический эффект последействия») принадлежит В. Келеру. Что касается краткого описания этого явления, см : Рок И. Введение в зрительное восприятие / Пер с англ. Кн. 2. М.: Педагогика, 1980. С. 149. — Прилеч науч. ред.
[15] Ясное и занимательное изложение истории открытия «волны ожидания» его автором можно найти в книге Грея Уолтера «Живой мозг» (гл. VIII), выпущенной на русском языке издательством «Мир» в 1966 г. — Примеч. науч. ред.
[16] Вирилизация (от лат urolzs — мужской) — появление мужских черт у женщин под влиянием мужских половых гормонов — Примеч. науч ред.
[17] То есть вызванную эпилептическим припадком лат. post (после) + tctus (удар, толчок) — Примеч науч. ред
[18] См главу 2. — Примеч науч. ред.
[19] Путевой анализ или, по-другому, метод моделирования структурными уравнениями — статистический метод анализа причинных связей. — Примеч науч. ред.
[20] Краткая характеристика теста IES (включая субтест «Стрелки и точки») дана в кн.: Проективная психология / Пер. с англ. М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 504 и далее. — Примеч. науч. ред.
[21] Описательный (но не технико-юридический) термин, применяемый в Великобритании по отношенико к преступникам старше 14 лет. — Примеч науч ред.
[22] Маггинг (англ. muging или street muging) — вид грабежа или разбоя на улице, когда преступник-наркоман с целью завладения деньгами потерпевшего подкрадывается к нему сзади и душит сгибом руки за горло. — Примеч. науч. ред.
[23] Буллинг (от англ. bullymg) — физический и/или психологический террор в отношении индивидуума со стороны группы равных по существенным характеристикам людей (одноклассников, сослуживцев, заключенных и т. д.). — Примеч. науч ред.
[24] Подлежащие решению присяжных вопросы о вине — Примеч науч ред.
[25] Умеющий пользоваться благоприятными обстоятельствами. — Примеч науч ред.
[26] Возможное создание предубеждений у судей и присяжных — Примеч науч ред
[27] Допрос судом свидетеля или присяжного на предмет выяснения его беспристрастности и непредубежденности (буквально со старофр.: «говорить правду»). — Примеч. науч. ред.
[28] Имеются в виду судебные решения по делу Фрай против Соединенных Штатов (см. выше). — Примеч науч. ред.
[29] Доказательство, достаточное при отсутствии опровержения — Примеч науч ред
[30] То есть заключающейся в вынесении судебного решения о судьбе привлеченного к ответственности, например назначении наказания, пробации, направлении на попечение социальной службы и т д — Примеч науч. ред.
[31] Имеются в виду исследования Л. С. Выготского и А Р. Лурии. — Примеч науч ред
[32] То есть планом эксперимента с рассмотрением противоположных гипотез — Примеч. науч. ред.
[33] Термин образован от англ глагола fade — постепенно ослабевать, исчезать — Примеч науч ред
[34] Сколько нужно (мед.)
[35] Дух времени, чувство времени (нем ). — Примеч науч. ред
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.