
Писатель Константин Воробьев и его записи о Ржевском лагере военнопленных.
![]()
![]()
![]()

Станислав Минаков в журнале «Нева» №6 за 2015 год в статье «Незнаменитый прозаик Константин Воробьев» о писателе-фронтовике пишет следующее.
Я зачитывался его мужественными и пронзительными повестями с юности, благо они к тому моменту уже начали публиковаться. Но мое недоумение сохранялось долгое время поскольку и спустя годы я сталкивался с тем фактом, что и читатели, и писатели хорошо знали, скажем, имена В. Богомолова, В. Быкова, Е. Носова и других писателей-фронтовиков, а вот потрясшую меня прозу Воробьева, которая переводилась на болгарский, литовский, латышский, немецкий, польский языки, не знали. Отрадно было прочитать мнение воевавшего прозаика Захара Прилепина, заметившего: «Я совершенно убежден, что Константин Воробьев куда более сильный писатель, чем Александр Солженицын. Но кто знает, кто такой Воробьев?» Кто же таков, Константин Дмитриевич Воробьев воин и писатель?
Родился он в селе Нижний Реутец Медведенского района Курской области 24 сентября 1919 года. Рос в крестьянской многодетной семье: у Воробьева было пять сестер и брат. Отца своего он не знал. Отчим, вернувшись после Первой мировой войны и германского плена, усыновил Костю. Писатель всегда вспоминал об отчиме «с чувством любви и благодарности за то, что тот никогда не упрекнул его куском хлеба, никогда не тронул, как говорится, и пальцем». От матери Воробьев унаследовал резкий, беспокойный, не терпящий несправедливости характер. Детство Кости, хоть и в большой семье, было одиноким и не слишком радостным. «Мне всегда хотелось есть,- вспоминал он,- потому что никогда не приходилось наесться досыта - семья большая, жизнь была трудной, и я не был способен попросить, чувствуя себя лишним ртом, чужаком».
В 1933 году, после ареста за недостачу отчима, заведовавшего сельмагом, Константин пошел работать. Грузчиком в магазине. Плату получал хлебом, что позволило семье выжить в голодный год. Окончив сельскую школу, поступил в Мичуринский сельхозтехникум, но учиться не стал - через три недели вернулся домой. Закончил курсы киномехаников, полгода ездил с кинопередвижкой по окрестным деревням. В августе 1935-го устроился селькором в районную газету города Медведенка, где опубликовал свои первые стихи и очерки, и даже некоторое время работал в ней литературным инструктором. Но вскоре Воробьева уволили из редакции «за преклонение перед царской армией». Поводом для увольнения стало увлечение молодого автора историей Отечественной войны 1812 года. «Идеал русского офицера времен Отечественной войны покорил его воображение. Это было соприкосновение с тем миром, который помогал сохранить в себе чувство чести, достоинства, совести...»
В 1937-м переехал в Москву, став ответственным секретарем редакции фабричной газеты, вечерами учился в средней школе. С 1938-го по 1940-й служил в Красной армии, писал очерки в армейскую газету. После демобилизации работал в газете Военной академии им. М. В. Фрунзе, оттуда и был направлен на учебу в элитное училище - Высшее пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, курсанты которого охраняли Кремль.
В октябре 1941 года с ротой кремлевских курсантов ушел на фронт и в декабре под Клином попал в плен. За время плена прошел клинский, ржевский, смоленский, каунасский, саласпилский немецкие лагеря для военнопленных, паневежисскую и шяуляйскую тюрьмы в Литве. Дважды бежал. В 1943 году в шяуляйском подполье, когда был вынужден скрываться на конспиративной квартире после разгрома его подпольной группы, за тридцать дней написал повесть «Дорога в отчий дом» о пережитом в плену. С сентября 1943-го по август 1944 года двадцатичетырехлетний Воробьев командовал отдельной партизанской группой в составе отряда «Клястутис» в литовских лесах.

В 1947 году Константин Дмитриевич с супругой приедет на место, где располагался саласпилский лагерь «Долина смерти». Сосны там по-прежнему стояли без коры - ее съели пленные, и раны на деревьях так и не зарубцевались. «Мне иногда не верится, что это было со мной, а как будто приснилось в кошмарном снe», - сказал тогда молодой писатель. К повести, посвященной саласпилским событиям, он возьмет эпиграфом из «Слова о полку Игореве» такие горькие слова: «Уж лучше убитому быти, нежели полоненному быти».
Ее «невозможно читать залпом: написанная сразу после фашистского плена,- кажется, она кровоточит каждой своей строкой», - отозвался об этой книге Е. Носов.
Цитируем Воробьева: «И Ржевский лагерь выделялся черным пятном в зимние холода потому, что был съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. ‹…› И существовало образцово-показательное место убийства пленных в Смоленске. И еле передвигались от голода заключенные в Долине смерти. И были 150 г плесневелого хлеба из опилок, и 425 г варева из крапивы в сутки, и эсэсовцы, вооруженные лопатами, убивали беззащитных людей. Но там же, в аду концлагерей, были и беспредельное мужество, и трепетная товарищеская помощь, и невероятный, почти мифологический героизм. ‹…› Терпя голод, холод, каждодневные издевательства, боль, военнопленные физически были почти уничтожены. Но морально многие из них остались несломленными. В них жило то, что можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем».
В 1946 году рукопись повести автор отправил в журнал «Новый мир», но опубликована она не была. У самого писателя полного экземпляра повести не сохранилось, только в 1985 году, спустя десятилетие после кончины автора, рукопись обнаружилась в архиве, хранящемся в РГАЛИ, и была напечатана в 1986 году в журнале «Наш современник» с названием «Это мы, Господи!..». «Повесть эта, - как отметит через много лет писатель-фронтовик В. Кондратьев, - не только явление литературы, она - явление силы человеческого духа, потому писалась как исполнение священного долга солдата, бойца, обязанного рассказать о том, что знает, что вынес из кошмара плена, погружает читателя в кромешный сорок первый год, в самое крошево войны, в самые кошмарные и бесчеловечные ее страницы».
После освобождения Шяуляя Воробьев был назначен начальником штаба МПВО, организованного на базе партизанской группы. Работая на этой должности, он смог помочь многим из бывших пленных. «Он отстоял жизнь и будущее всех, кто был в его отряде и кто обращался потом, после прихода наших войск», - вспоминала его жена.
В 1947 году Воробьев был демобилизован, переехал в Вильнюс, работал в снабженческих и торговых организациях, в 1952 году заведовал магазином, отделом литературы и искусства газеты «Советская Литва».
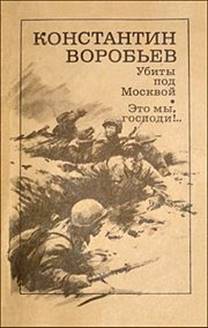
Первую написанную им повесть, «Убиты под Москвой», автор считал своей удачей. В основу обеих повестей легли личные впечатления и переживания автора во время боев под Москвой. Эпиграфом для этой повести Воробьев избрал знаменитые строки А. Твардовского из стихотворения «Я убит подо Ржевом».
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам - все это, живые.
Нам - отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, -
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье -
Эта кара страшна.
Повесть, которую Твардовский опубликовал в своем журнале, посвящена подвигу боевых товарищей Воробьева - кремлевских курсантов: 239 из них погибли в течение пяти дней в ноябре 1941 года при защите столицы. Немецкие танки уничтожили роту курсантов, которая могла противопоставить им только винтовки, бутылки с горючей смесью и беспримерное мужество. В. Астафьев писал: «Повесть не прочтешь просто так... потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки и хочется единственного: чтобы никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного, судорожного боя в нелепом одиночестве под Москвой».
Повесть «Убиты под Москвой» стала первым произведением Воробьева из ряда названных критиками «лейтенантской прозой». Прозаик с горечью молодого сердца говорил о «невероятной яви войны». Такие строки посвятил К. Воробьеву поэт Корнеев:
Смертны ль наши
души? Ты, однако,
с выводом, как лектор, не спеши.
Там, на нарах третьего барака,
он познал бессмертие души.
Есть она! Как тело ни промерьте,
как ни раздевайте догола...
Разумом смирился он со смертью,
но душа смириться не могла.
Можно понять, отчего при жизни писателя его не очень-то привечали в столице. Воробьев шагал не в ногу: он писал не о победах на фронтах, а о тяжких испытаниях войны, которые выпали на долю, скажем, человека пленного, помещенного в экстремальные условия, в «отрицательный жизненный опыт» (лагерный термин В. Шаламова). К тому же Воробьев не попадал ни в какие «обоймы»; как сказал бы другой фронтовик, поэт А. Межиров, был отторгаем за то, что «не с этими был и не с теми».
Повести писателя, по замечанию одного из критиков, «художественно восстанавливали первичную действительность войны, ее реальное обличье, увиденное в упор». Именно это «реальное обличье» войны вызвало полное неприятие повестей Воробьева официальной критикой. Она воспринимала их как «искажение правды о войне». Писателя стали постоянно упрекать «за настроение безысходности, бессмысленности жертв». В конце концов результатом таких критических нападок стало молчание о творчестве Воробьева.
Воробьев, с его «лишним» героем, лагерным несгибаемым задохликом, жизнь которому на два шага реально продлевает один укус хлеба, подвергался разносной критике в органах печати.
Автобиографическая повесть "Это мы, господи" была написана писателем в 1943 году, когда группа партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была временно уйти в подполье. Ровно тридцать дней в доме No8 на улице Глуосню в литовском городе Шяуляй писал Константин Воробьев о том, что довелось ему пережить в фашистском плену. Писал неистово, торопясь, зная что смертельная опасность рядом и надо успеть.
В 1946 году рукопись поступила в редакцию журнала "Новый мир". Поскольку автор представил лишь первую часть повести, вопрос о публикации
был отложен до тех пор, пока не появится окончание. Однако вторая часть так
и не была написана. В личном архиве писателя повесть целиком не сохранилась,
но отдельные ее фрагменты вошли как законченные и художественно осмысленные отрывки в некоторые другие произведения. Так получилось, что на целых сорок лет рукопись исчезла из поля зрения редакций и читателей. Лишь в 1985 году она была обнаружена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, куда была в свое время сдана вместе с архивом "Нового мира". Материал повести автор предполагал использовать в своей будущей книге, главной для него, которую он задумал как продолжение повести "Крик". Написанная предельно просто и точно, новая книга, по словам Константина Воробьева, должна была стать "кардиограммой сердца". Автор предполагал дать ей заголовок "Это мы, господи!", хотя в архиве писателя имеются и другие варианты названия.
В повести есть две главы о Ржевском лагере военнопленных. При чтении этих глав испытываешь чувство боли и душевного беспокойства от того, что становишься свидетелем событий происходивших в 1941 - 42 гг. в нашем городе:
«…Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на
окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает
холод, проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей
проволоки, что заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки
объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижется в
воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади
лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и
когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами
колючки, в декабре еще нет снега?
Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные...
...Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов
в ожидании одной буханки в восемьсот граммов на двенадцать человек. Диким и
жадным огнем загорались дотоле равнодушно-покорные глаза человека при виде
серенького кирпичика.
- Ххле-леб! - со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!
Сергей видел, как курносый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.
- Айда, ребята, к третьему бараку, - почему-то шепотом проговорил он. - Разделим хлебушко...
Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:
- Эй, ты, ... в рот, отдай буханку!
Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая
конца священнодействия орловского хлебороба.
Не так-то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером в конопляное зерно, должны быть тщательно подобраны и опять-таки
поровну разложены на двенадцать частей.
Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб...
- Ну как, братва, ровна? - спросил парень, закончив раскладку крошек.
- Вон там от горбушки надоть...
- Добавить суды...
- Ну, будя, будя! - проговорил парень. - Теперя становитесь по одному,
чтоб номера помнить.
Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: "Кому?" - называл тот или другой номер.
Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей, почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку...
С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных
нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, кто оказывался между верхним
и нижним. Было теплей.
Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и
колен братьев, умерших раньше его...
Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую
тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг...
Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под
полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это
скоро кончится для него, то ли мольба... Личико не шевелилось.
- Давно здесь? - стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.
- Месяц... нет, меньше, - тоненьким голоском пропищало личико. - Болен
я... Пальцы отваливаются, - продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым
членом тела.
- Как отваливаются?
- Гнали нас... на дороге танкист-немец... снял с меня валенки... пять верст босой... ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились... Теперь только три... завтра, наверное, тоже отвалятся... И ноги гниют тоже... Тут нас много таких...
В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все
равно бесполезно. Все равно!.. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.
- Шесть верст до дому... Знала б мама... принесла бы картошки вареной, хлеба тоже... На шоссе мы живем... деревню Аксеновку знаете? Колей меня
зовут... И как сообщить маме, вы не знаете?
Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: "Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной... и хлеба тоже... Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее
изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со
сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном
платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную
вдруг кем-то злым и ей непонятным..."
- Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме, - ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: - Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!
- Э, нет! Поглядите-ка вот... Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.
- Как же я дойду? - повторил он, печально глядя на свою ногу.
Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.
- Вот я какой теперь! - проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью...
В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться "баланда". Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки. Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой. "Но что же в нем все-таки есть?"
Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы,
старая пилотка и противоипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все
это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка - предмет,
особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково.
Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.
- Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! - обрадовался искренне Сергей. -
Только вот котелка у меня нет... Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.
- На черпак баланды хватает, - пояснил он. ...Третий барак выстроился за получением баланды.
- Сказывают, гушша имеется в баланде...
- Потому наш барак последний, так она на дне...
- Не напирай, не напирай!
- Люди добрые, и сделайте божескую милость, получить баланду на двоих...
посудинки нету...
Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекочущий нос запах варева.
- Ну, добавь... ради христа, добавь!..
И полицейский "добавлял". Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утоптанный тысячью ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды...
Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:
- Больше нету баланды?!
- Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря...
- Р-расходись в б-барак! - кричали полицейские, крутя дубинками.
Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что
служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча. - Какой-то мешок не давал малец полицаям... ну, и того - сбросили с нар. В четвертый понесли... помер, стало быть, - пояснил сосед…»
«…Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти.
Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со
свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глотают мутные
сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.
Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все - костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть... Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий
гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на
секунду, ни на миг: - Ххле-епп, ххле-еп... хле-е...
На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному
животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали
патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых...
...В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро, Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях. "Тиф", - спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.
Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями
наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми
глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она
только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти!
Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос... Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип: - Пи-и-ить... ии-ить... А потом вновь затихает - иногда навеки, иногда до следующего "ии-ить".
Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. "Чаво гадить, все равно подохнет!" И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского
мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: "Желаю тебе, дорогой боец, до
самых дырок износить эти носки. С любовью - Тося". До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: "Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтобы не убили меня... Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет..."
Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх вповалку лежащих там людей. Где же ему место,
как не под нижними нарами, куда скатываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука... Да, крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.
- Слезь... с моего... места, - прошептал он занявшему его "жилплощадь".
На хрип этого привидения удивленно уставилась стриженая дынеобразная голова.
- Ты што, из четвертого появился?
- Слазь...
- Откуда этот хлюст взялся?
- Место, слышь, требует...
- В чем дело? В чем дело, почему голый, а? Сергей медленно повернул голову по направлению голоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.
- Где твоя гимнастерка, а? - протискиваясь к Сергею, спрашивал он. По петлицам Сергей догадался, что это доктор. "Неужели тут есть
доктора?" - мелькнула мысль.
- Я болен... видимо, тиф.
- Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?
- Раздели полицейские... обмундирование комсоставское... трудно не взять...
- Вы командир?
- Лейтенант... Помогите же, доктор... я потерял силы... Это вот мое место... сбросили, лежал там...
- Идите за мной.
В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом
тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная
голова, не было в теле ни позыва, ни недуга. Перед вечерними сумерками пришел доктор.
- Как живем, лейтенант? - спросил он, взобравшись к Сергею. - Правая нога? Гм... явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать... как-нибудь, да!
- Резать не дам! - упрямо выговорил Сергей. - Я еще буду драться!..
- Дерутся здоровые, лейтенант... конечно, и в моральном смысле, да!
Но... одну минуту! - Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся
он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. -
Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у
меня последний... И вот - баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!.. Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки. "Я не нужен себе калекой, нет", - думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом. - Отлично! Будет толк. Боль - не что иное, как представление о боли,
да! - отчеканил доктор. - Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется... И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу. Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишащие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал: - Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и... доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?.. Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.
- И, - продолжал Сергей, - я поэтому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого. - Следовательно? - Я люблю мою Родину! - И? - Вы ведь немного старше меня!.. - Вставайте. Учитесь ходить, да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим, да... Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал "в доску своих", приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие...
Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и
не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в "амбулаторию". На нарах лежал Лучин, а на единственном
табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский "санинструктор". Он выслушивал трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского. - Та-ак, Ничего серьезного. Помажем... Навернув грязную тряпку на палочку, "санинструктор" быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.
- Чрезвычайно полезно. Иди!
- Дело в том, - объяснил Лучин Сергею, - что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же
изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели... Так-то, товарищ лейтенант, да!..
Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля, близкую весну и охапку надежд. Толковали одни: - Весной должна кончиться война. Попомните мое слово! Потому што пропали мы тут...
Думали другие: "Зелень, лес... Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать".
Март принес частозвон утренних капель с крыш бараков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей бараков зловоние оттаявших
испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку
люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда и почти поллитровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо.
Неохотно отошел-отступился от бараков тиф, переваляв почти всех до единого.
Поддерживая друг друга, выползают пленные из бараков, садятся с подветренной
стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровавятся от них ногти больших
пальцев, а "пройдено" только полрубца плечевого! Расстилается на проталинках
шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут
пивная бутылка! Прижал ее руками да и покатил по шинели - и сыпанет тогда в
уши дробный треск лопающихся вшей...
Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней - пленные. - Стучат, доктор, а?
- Зовут, лейтенант, да! Вот подтает снежок - обстановка улучшится. Махнем, да!..
Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он
приказал сопровождавшему его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест. На второй день поезд мчал пленных командиров на запад…»
Всё написанное Константином Дмитриевичем Воробьёвым, о том, что происходило в Ржевском лагере военнопленных не литературная выдумка писателя, а горькая, военная правда. Всё это нашло документальное подтверждение в послевоенные годы, и уже 1975 году вышла в свет книга Евгения Степановича Фёдорова - « Правда о военном Ржеве. Документы и факты.» В его документальной книге о Ржевском лагере военнопленных того периода рассказывается следующее:
«…В сообщении районной комендатуры 1/532 говорилось, что 21 октября 1941 года комендатурой был принят в обслуживание Ржевский лагерь военнопленных с численностью пленных около 6000 человек. Служебное помещение было расположено на ст. Муравьево в 500 метрах от лагеря. Для лагеря были использованы складские постройки базы «Заготзерно». На некоторых постройках имелись только крыши, а со стен тес весь ободран. Лагерь был обнесен колючей проволокой в два ряда, через 50 метров - немецкие часовые, вооруженные автоматами и пулеметами. В охране лагеря принимали участие русские «дружинники», которые стояли на промежуточных постах. Первоначально изредка давали на день 0,5 литра баланды, а в некоторые дни совсем не кормили. На работы брали каждый день по 1000 человек, а иногда и около 1500 человек. Пленные гонялись на постройку деревянного моста через Волгу, на расчистку дорог и заготовку дров. Кстати, бараки в лагере не отапливались. Кроме военнопленных, в лагере находились и гражданские лица, и попавшие в плен советские разведчики. Внутренний порядок в лагере обеспечивался полицией, сформированной из числа военнопленных.
Вот что показал адъютант Ржевской комендатуры 1/532 обер-лейтенант Ротер Макс Георг, 1903 года рождения, уроженец г. Штрелен провинция Силезия, член НСДАП с 1932 года, человек с высшим юридическим образованием о лагере военнопленных: «В Ржеве находился сборный пункт № 69 армии для русских военнопленных. Военнопленные содержались в ужасных условиях. От голода и заболеваний, от простуды, только в декабре 1941 года и январе 1942 года ежедневно умирало 25-30 военнопленных. За два месяца из числа 5-15 тысяч умерло не менее 2 тысяч военнопленных. Остальные в зимний холод, пешком или в открытых вагонах отправлялись на сборные пункты в Вязьму и Сычевку. Начальником лагеря был майор Клачес ".
Из показаний бывшего делопроизводителя по делам военнопленных Ржевской горуправы Еремеева Александра Ивановича, 1894 года рождения явствует: «Использовались военнопленные на тяжелых физических работах с 7 утра до 5 вечера. Сильное истощение, огромная смертность. За зиму 1941- 42 года погибло около 9000 человек». Со слов бургомистра Кузьмина Владимира узнал, что через лагерь прошло 16-20 тысяч военнопленных.
Находившийся в Ржевском лагере военнопленный, учитель из г. Красноселье Луковниковского района Демин Константин Александрович, 1920 года рождения, рассказал, что бараки в лагере располагались в два ряда, а с наружной стороны их были вырыты рвы, где производили захоронения военнопленных.
Эти суровые, тяжелые, нечеловеческие условия лагерной жизни заставляли узников лагеря искать выход и каждый по-своему находил его: одни молили о смерти, другие бежали, третьи шли на службу к врагу, четвертые, смирившись надеялись на чудо…»
«…Так как в плен попадали как раненые, так и больные, а лагерные условия порождали новые заболевания, то при лагере в конце ноября 1941 года организовали лазарет. Он располагался отдельно у станции Ржев-2 в двух деревянных домах, огороженных высоким забором из колючей проволоки. Но в этом заборе была дыра, пролезая через которую можно было выйти в город. В этих двух домах, на нарах с подстилкой из льна, ютилось до семисот больных и раненых.
Была в Ржевском лагере для военнопленных и своя медсанчасть. Из врачебного персонала известны: доктор немец Эрнст Мюллер. Из военнопленных главным врачом был военврач 3 ранга Перекрестов Игорь Михайлович, 1914 года рождения, уроженец г. Харькова. Являясь командиром санитарной роты 922 стрелкового полка 25 CД, в декабре 1941 года пропал без вести. В лазарете Перекрестов организовал занятия по изучению немецкого языка, которые проводил сам. Также в лазарете были врач Галкин Николай Николаевич и фельдшер Большаков Василий. Всего было шесть врачей, три фельдшера и одна медсестра Аня. Фельдшерами были: Щекин Михаил Никифорович. По учетам Центрального архива Министерства Обороны СССР значится сапер 950 стрелкового полка 262 СД. Щекин Михаил Никифорович, 1920 года рождения, призван Щигровским РВК, пропал без вести в августе 1941 года, отец Щекин Н. М., проживал: Курская область, г. Щигры, улица К. Маркса, дом № 15; Нарышкин Василий Иванович, 1917 года рождения, уроженец Полтавской области.
Разведчица Нарбут Александра Васильевна, уроженка и жительница г. Западная Двина, находившаяся на излечении в лазарете Ржевского лагеря военнопленных сообщала, что в двадцати местах у станции Ржев-2 захоронено четырнадцать тысяч человек. К сожалению, у ведущего учет умерших в лазарете Соломонидина Михаила спросить об этом не успели. После ликвидации лазарета в самом лагере начала работать санитарная часть. Старшим врачом ее был Клименко Владимир Александрович. Работал там и санинструктор из 4 роты 297 батальона Мещеряков. Медперсонал носил повязки красного креста. В санчасти был случай. Возле станции Мелихово разбился штурмовик, но летчик оказался жив. Его доставили в санчасть, где и допрашивали. Клименко Владимир выгнал всех из санчасти. В санчасть даже не пустили начальника полиции Курбатова…»
«…Как поступали немцы с бежавшими из лагеря военнопленными свидетельствуют показания Хмурчикова Павла Емельяновича, 1884 года рождения, проживавшего в г. Ржеве на Трудовой улице. Шесть военнопленных, переплыв Волгу, спрятались на Смоленском кладбище, но их выдали и немцы задержали их. Он лично видел, как немцы сопровождали задержанных. Отойдя на некоторое расстояние, из числа шести задержанных красноармейцев двух немцы расстреляли в упор, а оставшихся четверых повели к лагерю и так же расстреляли.
Но расстрелы военнопленных были не только по месту задержания сбежавших, но и в самом лагере. Разведчица разведотдела штаба 22 армии Милютина Серафима Федоровна, 1922 года рождения, уроженка и жительница г. Кувшиново Калининской области, находившаяся в Ржевском лагере, рассказала: «Свободное хождение в лагере имел командир Красной Армии Королев Павел Иванович, лет 40. Он рассказывал военнопленным об обстановке в г. Ржеве, боевых действиях из прочитанных где-то газет. Королев говорил, что в городе партизан нет, есть небольшие группы подпольщиков. Сообщил о расстреле или повешении трех молодых партизан. За передачу каких-то сведений военнопленным и подачу каких-то сигналов Королев был расстрелян…»
Но несмотря на это в лагере были люди, которые помогали пленным бежать из плена. Константин Дмитриевич Воробьёв, если бы его не отправили в лагерь города Сычёвки, с их помощью обязательно совершил бы побег из Ржевского лагеря военнопленных. В книге Фёдорова - «Правда о военном Ржеве. Документы и факты» есть сведения о тех, кто помогал совершать побеги:
«…5 мая 1942 года начальником полиции поставили Курбатова, который исполнял эту должность до освобождения города Ржева частями Советской Армии. В октябре 1941 года он попал в плен и был направлен в Ржевский лагерь военнопленных. После его освобождения из лагеря Управление контрразведки Западного фронта проводило расследование деятельности Курбатова во время нахождения в лагере. Особым отделом существенных фактов, наказуемых в уголовном порядке, установлено не было. Так, попавший в плен помощник командира батареи 1260 стрелкового полка 38 CД 22 армии Турманов Николай Александрович, 1922 года рождения, уроженец д. Быковка Подольского р-на Московской области, бежавший из Ржевского лагеря 9 октября 1942 года показал: «Хотя Курбатов работает на немцев, но он всей душой советский человек, побаивается, что его расстреляют как изменника Родины, поэтому старается искупить вину. Курбатов не выдал нас немцам, советовал как лучше уйти и выдал продуктов на дорогу». А бывший военнопленный Венренцов Леонид Петрович, 1923 года рождения, уроженец д. Аксинино Веневского района Тульской области, 10 октября 1942 года показал: «Курбатов многим военнопленным помогал бежать из лагеря, несмотря на то, что являлся начальником полиции. В сентябре поспособствовал побегу из лагеря майору, двум летчикам, одному полковнику, танкисту». И, наконец, Земсков Георгий Иванович, 1904 года рождения, уроженец с. Малая Кандала Куйбышевской области, военврач 2 ранга, начальник хирургического отделения медсанбата № 138 135 СД показал: «Первое знакомство с Курбатовым относится к ноябрю 1942 года. Из наблюдений за ним могу охарактеризовать его как человека, находящегося на должности начальника полиции лагеря и состоящего на службе в германской армии, практическую, предательскую деятельность в лагере не проводит. Многих честных военнопленных он безусловно знает, не преследует и не выдает немцам, некоторым даже оказывает содействие в осуществлении побега. Презрительно относится к добровольно перешедшим на сторону немцев. Вместе с этим ведет себя таким образом, что пользуется авторитетом у командования лагеря».
Говоря о Ржевском лагере военнопленных, нельзя не сказать о военнопленном Архирееве Сергее Федоровиче, 1903 года рождения, уроженце и жителе г. Ржева, по другим данным уроженец с. Адамовка Смоленской области. 26 марта или 2 апреля 1942 года Особым отделом 30 армии Архиреев был направлен с заданием совершить террористический акт против бургомистра г. Ржева Сафронова Петра и начальника, в действительности он был заместителем, полиции Загорского. Ему была разработана легенда. Он - дезертир. Скрывался в тылу войск Красной Армии. Решил перейти линию фронта с целью возвращения домой в Ржев. При переходе линии фронта Архиреев Сергей был задержан немцами. Арестован. Посажен в Ржевскую тюрьму как подозреваемый в принадлежности к партизанам и как перебежчик направлен в Ржевский лагерь военнопленных.
Следует заметить, что Архиреев Сергей помог Истратову и Турманову, бежавшим из лагеря, добраться через город к линии фронта и благополучно перейти ее.
Как показал начальник полиции Ржевского лагеря военнопленных Курбатов, в конце декабря 1942 года или начале января 1943 года он, возвращаясь из санитарного барака, встретил военнопленного, которого ранее не знал. Военнопленный попросил его остановиться и задал вопрос: «Каким образом ему поступить в отряд по борьбе с партизанами?» Курбатов выругался, сказал: «Пиши и подавай» и собрался уходить, как тот произнес: «Вам привет от Архиреева, Турманова и Истратова». Он повторил это еще раз. Тогда Курбатов понял, что ему надо поговорить с этим человеком, так как названных им людей он хорошо знал и содействовал им в переходе на сторону Красной Армии.
Сказал, что Курбатов должен передать ему для Особого отдела следующие материалы: списки добровольно перешедших, предателей и изменников Родины, данные о формированиях против партизанских отрядов, расположение штабов, военных складов частей, артиллерийских позиций и огневых средств. Курбатов пообещал в тот же день к шестнадцати часам все подготовить.
Придя в свой блиндаж, Курбатов взял список на двести девяносто изменников Родины и велел санитару Смирнову Михаилу, которого знал с начала 1942 года, переписать его левой рукой. Подготовив материал, передал его Федорову на следующий день в четыре часа около уборной. Список был заделан в пакет из немецкой газеты…»
Да, много людей прошло через Ржевский лагерь военнопленных и многие остались там навечно. Так, по сведениям разведчицы Нарбут Александры Васильевны, по неполным данным, в районе нахождения лагеря было захоронено тридцать пять тысяч погибших военнопленных.
И можно считать большим чудом то, что в таких нечеловеческих условиях сумел выжить, пройти всю войну Константин Дмитриевич Воробьев - воин и писатель, оставивший нам такие правдивые и пронзительные произведения о минувшей войне.
Литература:
1. Станислав Минаков. Журнал: «Нева» 2015, №6. Незнаменитый прозаик Константин Воробьев
2. Воробьев К.Д. Повесть Это мы, господи!.. из сборника Друг мой Момич: Повести. - М.: Современник, 1988.
3. Фёдоров Е.С. Правда о военном Ржеве. Документы и факты. Год издания: 1995.
Скачано с www.znanio.ru
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.